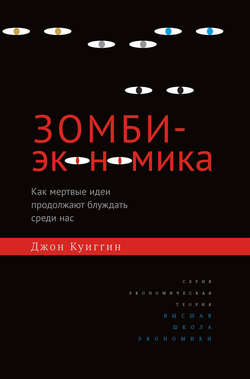Читать книгу Зомби-экономика. Как мертвые идеи продолжают блуждать среди нас - Джон Куиггин - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II. Гипотеза эффективного рынка
Жизнь: модель Блэка – Шоулза, банкиры и пузыри
Рост финансового сектора
ОглавлениеВ большинстве простых моделей, в которых выводилась гипотеза эффективного рынка, финансовый сектор вообще отсутствовал как отдельная отрасль. Предполагалось, что финансовые рынки устанавливают цены активов безо всяких издержек для экономики. Как уже говорилось, важная теоретическая проблема для сильной версии гипотезы эффективного рынка – знать, каким образом вознаграждаются усилия тех, кто находит недоступную для остальных информацию или ухитряется прогнозировать цены.
Хотя по-настоящему удовлетворительно роль финансовых институтов на эффективных рынках рассмотрена так и не была, апологеты гипотезы эффективного рынка сошлись во мнении, что для экономики издержки финансовых трансакций равняются стоимости информации, которую эти трансакции привносят в цены активов. Отсюда следовало, что чем больше устранялось ограничений для финансовых трансакций и чем более усложнялась экономика, тем более экономически и социально оправданным было расширение финансового сектора.
А он расширялся. В середине 1970-х годов начался ошеломляюще быстрый рост финансового сектора. Доля сектора по предоставлению финансовых услуг в прибыли американских корпораций поднялась с 10 % в начале 1980-х годов до 40 % в 2007 году; параллельно происходило и резкое увеличение доли прибыли в национальном доходе.
Объем финансовой деятельности рос темпами, которым не просто найти объяснение. Недавно Bank for International Settlements оценил глобальный объем открытых контрактов по производным финансовым инструментам почти в 600 трлн долл., что в 10 раз превышает мировой валовой продукт. При обычных обстоятельствах большая часть этих сделок взаимно погашается, но даже небольшое расхождение означает убытки (или прибыли) на многие миллиарды.
Одновременно стремительно росли доходы и благосостояние, а также численность занятых в финансовом секторе. По размеру оплаты труда исполнительных директоров финансовой сектор обогнал все остальные отрасли – и это при том, что средняя зарплата руководителей многократно превосходила среднюю зарплату рядовых работников.[30] Огромные накопленные богатства, естественно, были обращены в политическую власть – в особенности в США, где обе главные политические партии испытывали громадное влияние щедрых спонсоров с Уолл-стрит.
Но политическая власть финансового сектора определялась не только контролем над экономическими ресурсами. После экономических неурядиц 1970-х годов финансовый сектор в глазах многих – отчасти оправданно – стал выступать главным гарантом стабильности экономики и процветания. Правительства всячески старались заработать и удержать рейтинги, присваиваемые такими агентствами, как Moody’s и Standard & Poor’s. В противном случае их ждала политически бесславная потеря позиции, а в конечном счете – бегство капитала из страны, с чем столкнулся президент Франции Ф. Миттеран, рискнувший в начале 1980-х годов начать экспансионистскую макроэкономическую политику.
Но хотя своим ростом финансовый сектор поражал воображение, он так и не достиг той степени совершенства и полноты, которая, согласно гипотезе эффективного рынка, позволила бы ему учесть все значимые для экономической деятельности риски. Напротив, рабочие и владельцы малых предприятий, лишившиеся государственной поддержки на случай безработицы и существенного падения своего дохода, обнаружили, что развившийся финансовый рынок не способен залатать эту брешь. Питеру Госслину удалось собрать в книге «На тонкой проволоке» достаточно свидетельств того, насколько значительно возросли риски обычных домохозяйств.
Кто-то – например, Роберт Шиллер – призывал создать финансовые активы, которые обеспечили бы страховку домохозяйствам от колебаний на рынке жилья, но эти голоса никто не слышал. Гораздо притягательнее для финансового сектора было изобретать новые способы загонять людей в долги.
30
Для оправдания этого факта употреблялись разные риторические приемы – теперь смотрящиеся совершенно нелепо. В частности, рассуждали о повышении энергичности менеджеров и возросшей сложности их работы, вызванной отказом от устаревших иерархий и переходом к плоским организационным структурам. Первым против этой бессмыслицы выступил Дэвид Гордон из New School of Social Research в своей книге «Fat and Mean», вышедшей в 1996 году, незадолго до его преждевременной смерти в возрасте 51 года.