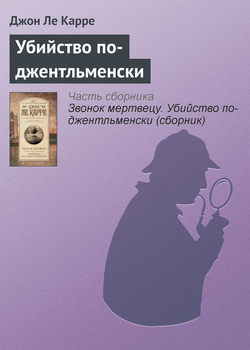Читать книгу Убийство по-джентльменски - Джон Ле Карре - Страница 3
Глава 1
Черные свечи
ОглавлениеПо общепринятому мнению, школа Карн знаменита прежде всего тем, что в ней учился Эдуард VI, чье пылкое стремление к знаниям история приписывает влиянию на него герцога Сомерсета. Но в Карне собственную историю предпочитают связывать более с самим монархом, нежели с его советником, проводившим к тому же весьма сомнительную политику, и черпают вдохновение в той сомнительной идее, что все истинно Великие школы, подобно королевским династиям вроде Тюдоров, ниспосланы нам не иначе, как самими Небесами.
Что же до славы, которой овеяна школа, то ее иначе, чем чудом, никак объяснить невозможно. Основанная безымянными монахами, осыпанная деньгами болезненным королем-мальчиком и вытащенная из забвения одним из проходимцев Викторианской эпохи, Карн нацепила крахмальный воротничок, отмыла от грязи свои деревенские лапы и морду, представ во всем блеске перед современными светскими кругами двадцатого столетия. И по мановению ока дорсетская деревня полюбилась нынешней лондонской знати, как новоявленный Дик Уиттингтон. В архивах Карна хранились рукописные пергаменты на латыни, скрепленные восковыми печатями, а за территорией аббатства школе принадлежали обширные земельные угодья. Карн, таким образом, владел собственностью, был построен по монастырскому подобию – с крытыми галереями, где деревянные балки проел древесный жук, имел традиционную колоду для телесных наказаний и упоминался одной строкой в Книге Судного дня[2] – что еще требовалось, чтобы приступить к обучению отпрысков сильных мира сего?
И они стали прибывать. Приезжали к началу каждого семестра («полугодие» звучало слишком вульгарно). В этот день поезда высаживали на платформу местной станции печальные группы одетых в черное мальчиков. Некоторых привозили в огромных лимузинах, начищенных до блеска, как катафалки. Мальчики выглядели так, словно заново собирались похоронить несчастного Эдуарда, и катили по мощенным брусчаткой мостовым свои тележки с пожитками или несли похожие на маленькие гробики коробки с гостинцами из дома. На некоторых были черные мантии – в таком облачении они походили на ворон или на темных ангелов, слетевшихся к похоронам. Некоторые отделялись от общей массы и шли поодиночке, тихие и подавленные, – слышался только стук их башмаков по камням. В Карне все и всегда как будто пребывали в трауре: младшие потому, что были обречены оставаться здесь еще долго; старшие потому, что им вскоре предстояло покинуть школу навсегда; а преподаватели потому, что, по их мнению, респектабельность слишком плохо оплачивалась. И сейчас, когда подходил к концу семестр Великого поста (так называлось пасхальное полугодие), сумрачные тучи, как обычно, плотно окутывали серые башни Карна.
Сумрак и холод. Холод был пронизывающим и острым, как зазубренный кусок кремня. Он буквально резал мальчикам лица, пока они медленно брели от опустевших игровых полей после окончания школьного матча. Он проникал под их черные короткие пальто, превращая жесткие стоячие воротники в ледяные обручи вокруг шей. Окоченевшие, они плелись от спортивных площадок к длинной дороге, обрамленной с обеих сторон каменными заборами, которая вела к городку и его основному продуктовому магазину. Их шеренга постепенно распадалась на группы, а группы – на пары. Двое мальчиков, которые выглядели замерзшими сильнее остальных, пересекли дорогу и вступили на узкую тропу к более отдаленной, но зато и менее посещаемой лавчонке.
– Я просто сдохну, если меня еще раз заставят смотреть, как играют в это отвратительное регби. Шум просто выводит из себя, – сказал один из них: высокий и светловолосый паренек по фамилии Кейли.
– Ребята так дерут глотки, потому что преподаватели наблюдают за ними из павильона, – объяснил второй. – Для этого каждый корпус пансиона и держится вместе. Чтобы потом их наставник мог бахвалиться, что его молодцы, дескать, кричали громче всех.
– Тогда при чем здесь Роуд? – спросил Кейли. – Ему-то зачем торчать вместе с нами и заставлять нас орать? Он же не наставник пансиона. А так, шестерка, и все.
– Он как раз и добивается, чтобы его сделали наставником. Из кожи вон лезет. Ты же видишь, как на переменах он крутится с начальством в главном дворе. Все младшие преподаватели этим занимаются. – Циничным спутником Кейли был рыжеволосый Перкинс, староста пансиона Филдинга.
– Я однажды пил у Роуда чай, – сказал Кейли.
– Роуд тот еще чудик. Ходит в коричневых ботинках. Чай-то хоть был нормальный?
– Жиденький. Забавно, сколько может сказать о людях чай, который они пьют. Вот миссис Роуд мне понравилась – умеет создать уют, пусть и в плебейском понимании: кругом салфеточки, фарфоровые птички. А накормила вкусно. По рецептам из кулинарных телепрограмм, но все равно недурно.
– В следующем семестре Роуд будет отвечать за военку. Вот уж где он себя покажет во всей красе. Просто рвется в бой, подпрыгивает от нетерпения. Сразу видно, что он не джентльмен. Знаешь, какую школу он окончил?
– Нет.
– Общественную в Брэнксоме. Филдинг рассказал об этом моей маме, когда она в прошлом семестре прилетала из Сингапура.
– Боже! А где он, этот Брэнксом?
– На побережье. Рядом с Борнмутом. А я не пил чай ни у кого, кроме Филдинга, – добавил Перкинс после долгой паузы. – Кормили жареными каштанами и пышками… Представляешь, он запрещает употреблять слова «благодарю» и «спасибо». Говорит, что выражение признательности – это дешевые эмоции, характерные для низших слоев общества. Типично для Филдинга. Он вообще не похож на других преподавателей. Мне кажется, ученики наводят на него смертную скуку. Каждого из пансиона он приглашает к себе на чай хотя бы раз в семестр, но не всех сразу, а разбивает на четверки. Только тогда с ним и можно поговорить по-человечески.
Какое-то время они шли молча. Потом Перкинс сказал:
– У Филдинга сегодня опять званый ужин.
– Он что-то разошелся в последнее время, – отозвался Кейли неодобрительно. – Держу пари, у вас в пансионе кормежка сейчас хуже некуда.
– Это его последний семестр перед выходом на пенсию. Ему нужно принять каждого коллегу с женой по отдельности. Говорят, он ставит на стол черные свечи. Как бы в знак траура. Чертовски экстравагантно!
– Да уж. Красноречивый жест.
– Мой папаша считает, что он голубой.
Они еще раз пересекли дорогу и зашли в продуктовую лавку, где продолжили обсуждать личную жизнь мистера Теренса Филдинга, пока Перкинсу с большой неохотой не пришлось закончить разговор. Он отставал в естественных науках и без всякого желания отправился на дополнительные занятия.
Обед, о котором в этот день чуть раньше упомянул Перкинс, близился к завершению. Мистер Теренс Филдинг, старший преподаватель школы Карн, налил себе еще немного портвейна и как бы ненароком поставил графин по левую руку от себя. Это был его портвейн, и притом самый лучший. Его оставалось достаточно до конца семестра, а потом… Плевать, что будет потом. Побывав на матче, он чувствовал усталость, слегка опьянел, а Шейн Хект и ее муж наводили на него тоску. До чего мерзкая дама эта Шейн. Толстая, неловкая, она вечно занимала слишком много места и напоминала постаревшую и поблекшую валькирию. И эти густые черные волосы! Ему надо было пригласить сегодня кого-нибудь другого. Супругов Сноу, например. Хотя Сноу имел привычку умничать. Или Феликса Д’Арси. Но тот вечно перебивал, не дослушав. Ладно. Чуть позже он выведет Чарлза Хекта из себя, жена занервничает, и они быстренько отправятся восвояси.
Хект уже беспокойно ерзал. Ему хотелось раскурить трубку, но черта с два Филдинг ему это позволит. Если уж хочет дымить, пусть закурит сигару. А трубка останется в кармане смокинга, где ей и место. Или не место. Но только не украсит собой его и без того мужественный профиль.
– Сигару, Хект?
– Нет, спасибо. Я хотел попросить у тебя разрешения…
– Рекомендую сигару. Моему ученику Хэвлейку их присылают прямо из Гаваны. Как ты знаешь, его отец там посол.
– В самом деле, дорогой, – примирительно вмешалась Шейн. – Вивиан Хэвлейк был у Чарлза в роте, когда мой муж командовал кадетами.
– Да, Хэвлейк – славный мальчик, – сказал Хект и сжал губы, чтобы показать, насколько он строгий судья в таких вопросах.
– Занятно, как все изменилось, – поспешно сказала Шейн Хект с несколько вымученной улыбкой, словно на самом деле не находила в этом ничего хорошего. – В каком сером мире нам теперь приходится жить. А я еще помню, как перед войной Чарлз объезжал строй кадетов на белом коне. Теперь ведь больше парадов не устраивают, если не ошибаюсь? Нет, я ничего не имею против мистера Айрдейла как руководителя военной подготовки. Отнюдь. Кстати, в каком полку он служил, вы, случайно, не помните, Теренс? Но уверена, что под его началом военная подготовка проводится по всем правилам. И жена у него очень милая женщина… Странно только, почему у них никогда подолгу не задерживается прислуга. Как я слышала, в следующем семестре мистер Роуд возьмет часть военной подготовки на себя.
– Бедный маленький Роуд, – медленно произнес Филдинг. – Носится повсюду, как собачонка, чтобы заслужить хрустящую косточку. Как же он старается! Вы заметили, что во время матчей он кричит громче всех? Он ведь до приезда сюда не видел ни одной игры в регби, знаете ли. В публичных школах в регби не играют. Там сплошной футбол. Помнишь, как он впервые появился здесь, Чарлз? За ним было любопытно наблюдать. Он сразу затаился и старался все впитывать в себя, как губка. Просто пил нас бокалами: усваивал наши привычки, словарный запас, манеры. А потом в один прекрасный день к нему словно вернулся дар речи, и заговорил он сразу на нашем языке. Это было поразительно. Ему словно сделали пластическую операцию. Конечно, над ним основательно поработал Феликс Д’Арси, но лично я никогда прежде не видел такой метаморфозы.
– А эта его милая миссис Роуд… – сказала Шейн Хект тем слегка отстраненным тоном, которым обычно начинала самые ядовитые реплики. – Добрая, но… простоватая. И ей не хватает вкуса. Вам так не кажется? Ну кому бы еще пришло в голову повесить на стенку фарфоровых уточек? Большие впереди, маленькие – сзади. Очаровательно, но сразу заставляет вспомнить дешевые кафе. Интересно, где она их купила? Мне говорили, ее отец живет рядом с Борнмутом. Ему, вероятно, там очень одиноко, как вы думаете? Кругом только вульгарная публика. Даже поговорить не с кем.
Филдинг откинулся в кресле и окинул взглядом стол. Столовое серебро отменное. Лучшее в Карне – он слышал такие отзывы от других и был склонен с ними согласиться. Как украшение в этом семестре он использовал только черные свечи. Именно такие вещи запоминаются лучше всего, когда ты уезжаешь: «Старина Теренс! Замечательно умел принять гостей. В течение своего последнего семестра он устраивал ужины для всех преподавателей с женами. При черных свечах. Как это было трогательно! Сразу становилось понятно: у человека сердце разрывалось от расставания». А вот Чарлза это наверняка раздражало, к вящему удовольствию жены. Потому что мужа она явно не любила, и внутри ее необъятного, такого некрасивого тела таилась коварная душа и сердце змеи.
Филдинг посмотрел на Хекта, потом на его супругу, и она улыбнулась ему в ответ медленной и наглой улыбкой шлюхи. На мгновение Филдинг представил себе, как Хект пасется на этих необъятных телесах, тонет в жире: это была сцена из Лотрека… Определенно! Из Лотрека. Чарлз весь такой важный, в цилиндре скованно сидит посреди пестрого восточного ковра, а рядом возлежит горой мяса она, голая, но скучающая. Образ доставил ему откровенное удовольствие: в этом было что-то извращенное – перенести Хекта из спартанской стерильности Карна в парижский бордель девятнадцатого века…
А потом Филдинг заговорил. Вернее, принялся вещать с напускной дружеской фамильярностью, которую, как он знал наверняка, Хект ненавидит:
– Когда я оглядываюсь на свои тридцать лет в Карне, то понимаю, что добился меньше любого дворника. – Теперь супруги слушали его, не сводя глаз. – Были времена, когда я считал, что подметальщик улиц значительно уступает мне в степени полезности своей деятельности. А сейчас я сильно в этом сомневаюсь. Положим, он где-то видит мусор, убирает его, и мир от этого становится лучше и чище. А я… Что сумел сделать я? Содействовал укреплению позиций правящего класса, который на самом деле не обладает никакими особыми талантами – ни высокой культурой, ни остроумием; помог еще на одно поколение продлить существование того, что уже давно отжило свой век.
На противоположном конце стола Чарлз Хект, который, как ни противился этому, всегда прислушивался к мнению Филдинга, побагровел и открыл рот, чтобы возразить:
– Но разве мы их ничему не учим, Филдинг? Вспомни о наших успехах. О наших учениках, получивших почетные звания.
– Я за всю свою жизнь ничему не научил ни одного мальчика, Чарлз. Как правило, недостаточно способным оказывался сам мальчик, а порой не хватало умения мне самому. Видишь ли, у большинства мальчиков восприимчивость умирает по мере полового созревания. Лишь у немногих она сохраняется, но мы в Карне умеем искусно убивать ее. И вот только если она выдерживает даже наши усилия, мальчик действительно добивается успехов, получает сначала стипендии, а потом и научные звания… Ничего, потерпи меня немного, Шейн. В конце концов, это мой последний семестр здесь.
– Последний семестр или нет, но ты несешь откровенную чушь, Филдинг, – зло сказал Хект.
– Нести чушь стало в нашей школе доброй традицией. Успехи, как ты изволишь их называть, это на самом деле наши провалы. Успехов добиваются те редкие ученики, которые так и не усвоили главного, чему мы их здесь учим. Они не приняли культа посредственности, насаждаемого в Карне. И им мы уже никак не сможем повредить. А вот остальным – растерянным маленьким монахам и слепым оловянным солдатикам, – им кажется, что на стенах Карна написана правда о них. И они ненавидят нас за это.
Хект сделал попытку рассмеяться, но получилось натужно.
– Если они так нас ненавидят, почему тогда многие любят возвращаться сюда? Почему приезжают навестить?
– А потому, дорогой Чарлз, что мы и есть те самые надписи на стене! Тот самый единственный урок, преподанный им в Карне, который они никогда не забудут. Они приезжают, чтобы вновь прочитать нас, как ты не понимаешь этого? Ведь именно мы поведали им главную тайну жизни: люди стареют, но не становятся умнее. На нашем примере они поняли, что, когда мы повзрослели, ничего глобального не произошло: нам не озарило путь к Дамаску ослепительное небесное сияние, мы не испытали внезапного чудесного ощущения наступившей зрелости.
Филдинг откинул голову и уставился на уродливую викторианскую лепнину потолка с пыльным ореолом вокруг розана, в центре которого располагалась люстра.
– Мы просто стали еще немного старше. Но повторяли все те же шутки, изрекали все те же мысли, желали того же, что и прежде. Год проходил за годом, Хект, а мы оставались все теми же людьми, не делались мудрее, не становились лучше, среди нас не рождалось ни одной новой идеи лет уже, наверное, пятьдесят. И они поняли, что и Карн и мы – это такой трюк, спектакль, где мы рядимся в докторские мантии, отпускаем особого рода академические остроты, делаем вид, что учим их и наставляем на путь истинный. Но они никак не могут поверить в обман, Хект, и потому после еще одного года бесцельной, пустой жизни вновь приезжают сюда, чтобы взглянуть на меня и тебя, как дети иногда приходят на могилу, думая, что там можно постичь тайну жизни и смерти. Вот и все, чему мы их научили.
Хект какое-то время молча смотрел на Филдинга.
– Налить немного портвейна? – предложил тот, но Хект все еще не сводил с него глаз.
– Надеюсь, все сказанное тобой было не более чем шуткой… – начал он, а его жена с удовлетворением отметила, что теперь он по-настоящему зол.
– Даже не знаю, Чарлз, – ответил Филдинг совершенно серьезно. – Право, мне жаль, но не знаю. Когда-то мне казалось, что очень умно смешивать фарс с трагедией. А теперь, похоже, я потерял способность различать границу между ними.
Последняя фраза ему самому понравилась.
Кофе они перешли пить в гостиную, где Филдинг свел разговор к местным сплетням, но вовлечь в него Хекта уже не удавалось. Филдинг теперь сожалел, что не дал ему закурить трубку. Но потом вспомнил, как вообразил Хекта в Париже, и настроение снова улучшилось. Вечер ему определенно удался. По крайней мере моментами он был в ударе.
Пока Шейн одевалась, мужчины молча стояли в прихожей. Шейн вернулась в порыжевшем от старости боа из горностаев, накинутом на широкие белые плечи. Она склонила голову вправо, улыбнулась и протянула на прощание руку Филдингу, причем слегка опустив вниз.
– Теренс, дорогой, – сказала она, когда Филдинг прикладывался губами к ее мясистым пальцам, – вы так добры. И это ваш последний семестр. Вы просто обязаны отужинать у нас перед отъездом. Так грустно. Совсем мало осталось из прежней старой гвардии.
Она снова улыбнулась, прищурив глаза, чтобы подчеркнуть неподдельность своих эмоций, а потом последовала за мужем на улицу. Там по-прежнему стоял собачий холод, и в воздухе мелькали снежинки.
Филдинг захлопнул и запер за ними дверь на засов, быть может, чуть быстрее, чем диктовала вежливость, и вернулся в гостиную. Хект оставил свой бокал с портвейном наполовину недопитым. Филдинг взял его и аккуратно слил содержимое обратно в графин. Он надеялся, что не слишком взбесил гостя, – ему, вообще говоря, вовсе не хотелось наживать врагов. Задув пламя черных свечей и затушив фитили указательным и большим пальцами, он включил свет, достал из ящика буфета шестипенсовую тетрадь и открыл ее. В ней содержался список гостей, которых следовало пригласить к ужину до конца семестра. Перьевой ручкой он поставил жирную галочку напротив фамилии Хектов. Сделано. В среду наступала очередь Роудов. Муж был хорош, а вот она, конечно… Ее придется потерпеть. Это было едва ли не исключением из правила с супружескими парами. Как правило, другие жены оказывались гораздо симпатичнее этой.
Филдинг снова открыл буфет и на этот раз извлек из него бутылку бренди и рюмку. Держа их в одной руке, устало прошаркал обратно в гостиную, опираясь другой рукой о стену. Боже! Он внезапно почувствовал себя старым: грудь прорезала тонкая ниточка боли, ноги и руки отяжелели. Сколько же усилий уходило на то, чтобы постоянно быть на виду у людей! Как будто все время на подмостках сцены. Он терпеть не мог оставаться один, но и компании ему быстро надоедали. В одиночестве он тоже чувствовал усталость, но не мог спать. Как это было у того немецкого поэта? Он ведь уже цитировал его однажды: «Вы можете заснуть. Мне – время танцевать». Что-то в этом роде.
«Вот я каков, – подумал Филдинг. – В этом я – плоть от плоти Карна, старый сатир, танцующий под музыку». Но только темп музыки ускорялся, а их тела дряхлели, хотя танец должен был продолжаться. Его скоро подхватят молодые люди, ждущие своей очереди за кулисами. А ведь когда-то казалось таким забавным исполнять старые танцы под новые мелодии. Он налил себе еще бренди. Если разобраться, он был рад, что уходил, хотя это, по всей видимости, означало необходимость найти работу учителя где-то еще.
Но Карн… Своеобразное, по-своему очень красивое место. Внутренний двор аббатства весной… Похожие на розовых фламинго нежные фигурки мальчиков, ожидающих вечерней молитвы. Отъезд детишек и приезд новых как приметы смены времен года и умирающие здесь же старики. Как жаль, что ему не дан талант живописца! Он бы изобразил праздник в Карне в охристых тонах осени… Несправедливо, подумал Филдинг, что человек, столь восприимчивый к прекрасному, начисто лишен способности отобразить его.
Он посмотрел на часы. Без четверти двенадцать. Самое время… танцевать. Не спать же, в самом-то деле?
2
Книга Судного дня – свод материалов первой в средневековой Европе всеобщей поземельной переписи, проведенной в Англии в 1085–1086 гг.