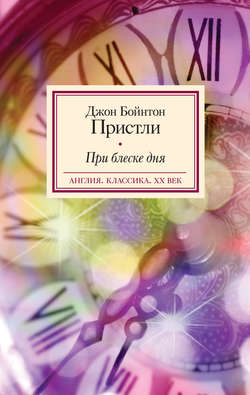Читать книгу При блеске дня - Джон Пристли - Страница 3
Глава вторая
ОглавлениеЕсть несомненные преимущества в том, что тебе пятьдесят и за плечами – серьезный профессиональный опыт. Я поднялся в номер с намерением долго работать – и работал. Пусть Браддерсфорд, Элингтоны, дядя Майлс и все остальные только что занимали мои мысли без остатка, усилием воли я отодвинул их на второй план и попросил подождать. Написанные в тот вечер сцены оказались ничуть не хуже и не лучше утренних или вчерашних; пожалуй, сначала мне было трудно сосредоточиться – но и только. Однако, спустившись вечером к ужину, я понял, что не смогу побеседовать с Малькольмом и Элеонорой Никси (называть их Харндинами язык не поворачивался), пока не приведу в порядок воспоминания о своей жизни в Браддерсфорде. А вдруг выяснится, что я в них ошибался? Была и другая опасность: если бы я не попытался воскресить в памяти события тех дней, не познакомился заново с четой Никси, то в непринужденной атмосфере посиделок за кофе, на фоне стариковской болтовни и успеха в высоком обществе я мог опуститься до такого же снисходительного отношения к собственной молодости, мог из одной только лени принять идеалы и воззрения Харндинов. В этом случае великое движение жизни и вызов, что звучали в медленной мелодии Шуберта, потеряли бы всякий смысл. А я хотел, чтобы они что-то значили. Это было мне необходимо, насколько нечто подобное вообще может быть необходимо человеку. Чтобы шагнуть вперед, я сперва должен сделать шаг назад.
Поэтому, когда после ужина я вошел в бар и увидел, как Никси выжидательно смотрят по сторонам (Малькольм даже помахал мне рукой), я подошел к их столику и сказал, что вынужден как можно скорее вернуться к работе. Они расстроились – причем искренне – и спросили, когда у меня будет свободное время. Быть может, завтра?
– А знаете, Доусон, – произнес Малькольм после минутного колебания, – по-моему, вы тоже давненько не вспоминали старый добрый Браддерсфорд. Столько воды утекло… Благодаря вам мы весь день предаемся воспоминаниям: Элеонора помнит одно, я другое. Люди, имена… Все это в некотором смысле любопытно.
– Не все наши воспоминания сходятся, – с улыбкой добавила его жена. На ней было черное платье, и она явно тщательно готовилась к ужину. Несмотря на старческую дряблую кожу и чересчур яркий макияж, который скорее подчеркивал возраст, нежели скрывал, в золотистом свете бара леди Харндин все еще была весьма привлекательна и не так уж безнадежно отличалась от Элеоноры Никси из моего прошлого. – Мы надеялись, вы нас рассудите, мистер Доусон. Если, конечно, из-за Голливуда и прочего память не подводит вас еще досаднее, чем нас.
– Посмотрим. Я действительно давно не думал о Браддерсфорде, – ответил я, – но память у меня хорошая. Так что продолжайте ностальгировать, а я присоединюсь к вам позже.
Тут кто-то подошел к столику и предложил Никси сыграть партию в бридж, поэтому я смог улизнуть. В номере – его изрядные размеры позволяли легко забыть, что это спальня, – я включил электрический камин, надел удобную пижаму, халат и тапочки, погрузился в кресло, закурил сигару, несколько минут слушал завывание ветра за окном башни и шелест прилива внизу, а затем отправился в далекое прошлое – прямиком в довоенный Браддерсфорд.
В Уэст-Райдинге живет немало Доусонов, однако в Браддерсфорде родилась моя мать, а не отец (он родом из Кента). В девичестве ее звали Лофтхаус, и они с отцом познакомились в Скарборо, если не ошибаюсь, во время его первого приезда домой из Индии, где он был на государственной службе. О своем раннем и позднем детстве я решил не писать – в тот вечер я о них не вспоминал, – так что предлагаю пропустить эту пору моей жизни и сразу перейти к рассказу о том, как я попал в Браддерсфорд.
Я был единственным ребенком в семье; поэтому, когда меня отправили учиться в частную школу (недорогую и малоизвестную), мама уехала к отцу в Индию и большую часть времени жила там. В последний год моей учебы – всего за несколько недель до сдачи вступительного экзамена в Кембридж, – мой отец, человек добросовестный и крайне упрямый, слег со страшной лихорадкой, а мама примчалась его выхаживать и пала жертвой той же эпидемии. В считанные дни я остался без обоих родителей. Потрясенный и раздавленный горем, я при всем желании не смог бы сдать вступительный экзамен. Порой мне казалось, что я тоже умер и превратился в привидение. Взрослея, мы часто забываем, что в юности отчаяние еще более громадно и всепоглощающе, чем оптимизм: никогда больше перед нами не вырастают столь неприступные голые стены печали. С годами я многое повидал – торчал в окопах по пояс в воде, угодил под пулеметный огонь, пережил бомбежку и отравление ядовитым газом, считал последние шиллинги, терял всех друзей до единого, видел, как мою работу портят чужие люди, и портил ее сам, но никогда меня не обуревали такое горе и безысходность, как в те последние месяцы учебы. Говорю я это лишь затем, чтобы вы поняли, какие чувства я испытывал – и продолжаю испытывать – в отношении тех двух лет в Браддерсфорде. Я поднялся на холмы Уэст-Райдинга прямиком из болота.
А помогли мне из него выбраться заботливые руки дяди Майлса, единственного брата моей матери, и его жены, тети Хильды. Своих детей у них не было, и меня они любили так же сильно, как я их. Мы договорились, что после окончания учебы я приеду жить в Браддерсфорд, где, разумеется, я уже не раз бывал. Если позднее я все-таки захочу поступить в Кембридж, они об этом позаботятся (им пришлось бы почти целиком оплатить мое образование, поскольку наследство мне досталось весьма скромное). Однако я заверил их, что поступать никуда не хочу и учеба больше меня не интересует. А вот чего мне по-настоящему хотелось, так это писать, но я пока не знал, что именно. Большую часть времени я только воображал, как буду писателем – неким абстрактным тружеником пера, – вместо того чтобы всерьез задуматься о своем призвании. Это простительно для юноши и губительно для взрослого человека. Раз или два я намекнул дяде с тетей о своей мечте, и те в ответ разумно заметили, что при всем желании не смогут сделать из меня писателя – это под силу лишь мне самому. А тем временем, раз уж я не хочу поступать в университет, почему бы не заняться чем-нибудь полезным и не подзаработать денег? В конечном итоге было решено: после праздников дядя Майлс попробует подыскать мне какую-нибудь работу в области производства или торговли шерстью. Так я попал в Браддерсфорд, где вскоре устроился в «Хавес и компанию» и познакомился с Элингтонами, а также с их окружением, в том числе Малькольмом и Элеонорой Никси.
Дядя с тетей жили в районе Бригг-Террас, молодом и растущем пригороде на севере Браддесфорда, между лаврово-араукариевой роскошью и великолепием особняков Мертон-парка, где жили богатые коммерсанты и владельцы шерстяных фабрик, и длинной мрачной Уэбли-роуд, по которой сродни призракам бродили туда-сюда трамваи. Дом был совсем скромный, но очень уютный. Мне выделили большую спальню в задней его части, где я спал и проводил досуг. В двух книжных шкафчиках поместилась моя небольшая библиотека, и я с достоинством королевского библиотекаря регулярно переставлял с полки на полку томики двух собраний классической литературы – «Библиотеки для всех» издательства «Рэндом хаус» и оксфордской «Мировой классики», а также немногочисленную коллекцию современных произведений. Стены я завесил собственными фотографиями и репродукциями шедевров изобразительного искусства. В углу поместился шумный газовый камин. С чердака я притащил в свою комнату старое дедушкино бюро и два покосившихся кожаных кресла. Так спальня превратилась в гостиную, где я мог бы принимать друга – как только друг найдется. Источниками света служили две злобные калильные сетки, небольшие, зато яркие и словно бы трепещущие от гнева. Помню я и вид из двух моих окон. Одно выходило на довольно унылую панораму задних садов, пыльных зарослей бирючины, бельевых веревок и сваленных в кучу досок на пустыре, а сбоку возвышалась огромная труба Хигденской фабрики – в то время это была самая большая труба самой большой шерстяной фабрики в мире. В другом окне за россыпью крыш виднелся в дымке краешек вересковой пустоши. Разумеется, я был в восторге от своей комнаты, и никакое другое жилье потом не рождало в моей груди столь приятного чувства обладания – хотя мне доводилось жить и в Амальфи, и в Санта-Барбаре. Впрочем, я был молод и непоседлив, поэтому проводил в своей комнате только ночи; самое большое удовольствие я получал просто от осознания, что такая комната у меня есть.
Дом в Бригг-Террас почти сразу стал мне как родной и вовсе не потому, что все мое детство прошло в разъездах, а благодаря стараниям тети и дяди. Я одинаково любил их обоих, но они были настолько разными людьми, что подчас казались мне дуэтом комедиантов. У тети Хильды отсутствовало чувство юмора – то есть вообще, начисто. При этом она без конца делала что-нибудь по дому: великолепная хозяйка и неутомимый борец за чистоту, она служила высшим идеалам безупречности, нам с дядей Майлсом не доступным. При этом тетя прекрасно готовила – и вот это мы вполне могли постичь. У нее работала одна служанка, пухлая и постоянно фыркающая Элис, дочь горняка с Барнсли-уэй. Еще была поденщица миссис Спеллман – невысокая и тощая, но с оглушительным браддерсфордским голосищем, который всегда звучал одинаково громко: самые незначительные саркастические замечания сотрясали стены всего дома, а любые комментарии, сделанные во время мытья передней, были слышны далеко за пределами веранды. Тетя Хильда заваливала прислугу работой, не жалея, – но себя она жалела еще меньше. В компании же, одетая в строгое черное платье практически без украшений – а те немногие украшения, что у нее были, всегда имели похоронный вид, – бледная и болезненно красивая, тетя Хильда производила впечатление человека, медленно приходящего в себя после страшной утраты. На пикниках и вечерах, посвященных игре в вист, она выглядела так, словно пришла на чтение завещания. У тети были правильные черты лица, своей бледностью наводившего на мысль о мраморных статуях; уголки ее рта всегда были опущены, словно от неизбывного горя, и потому верхняя губа со временем удлинилась; говорила она низким скорбным голосом. Выбираясь на встречу с друзьями, больше всего тетя Хильда любила поболтать о своих недугах, из пустяковых превратившихся в серьезные, об операциях и катастрофическом упадке сил, о полном крахе и грядущей смерти. Другой ее излюбленной темой была недвижимость, потому что кое-какую собственность она унаследовала сама (подозреваю, благодаря этому они могли позволить себе содержание дома в Бригг-Террас) и в те годы говорить о недвижимости в Браддерсфорде было модно. Два пожилых респектабельных горожанина могли отправиться на долгую прогулку и беседовать исключительно о рынке жилья. По воскресеньям тетя Хильда (как и тысячи других браддерсфордцев) любила прогуливаться по дорожкам огромного кладбища за лесом Уэбли и там обсуждать с приятелями и приятельницами бесчисленные симптомы страшных болезней, смерти, похороны, завещания и дома.
Однако за этой скорбной маской скрывался неисчерпаемый запас доброты. Она с удовольствием принимала гостей и была щедрой хозяйкой, а также твердо придерживалась старомодного женского убеждения, что мужчин, сколько бы неприятностей они ни доставляли, необходимо часто, обильно и вкусно кормить. Причем тетя Хильда была весьма разборчива и привередлива. Мысль об этой ее черте заставила меня вспомнить и двух сестер Синглтон, которые держали небольшую кондитерскую лавку недалеко от Мертон-парка. То была любимая лавка моей тети – воплощение ее представлений об идеальном магазине. Сестры Синглтон, робкие и застенчивые старушки, неизменно краснели, сообщая, что вся выпечка уже распродана (казалось, в их крошечной лавке вообще никогда ничего не было, кроме этих извинений и пунцовых морщинистых щек), однако они настолько самоотверженно служили некому гастрономическому идеалу – заодно с тетей Хильдой и еще парочкой столь же разборчивых матрон, – что успевали испечь лишь десятую часть того, что могли бы продать. Любого современного дельца сестры Синглтон довели бы до отчаяния и самоубийства. В своем упорном желании продавать лучшее и только лучшее они превратили кондитерскую лавку в неприступную крепость хорошего вкуса и добросовестности. И если наша Вселенная – не просто бестолковая машина для перемалывания вещества, то в каком-нибудь причудливом, но уютном измерении моя тетушка Хильда по сей день бредет в лавку сестер Синглтон за последним ржаным хлебом и шестью эклсскими слойками.
Я сидел в номере гостиницы «Ройял оушен», за окнами башни выл ветер, где-то внизу грохотал Атлантический океан, и сквозь года я вновь услышал тетушкино укоризненное: «Ну что же ты, Майлс!» Однако когда она произносила эти слова – а произносила она их очень часто, – в ее темно-карих глазах всегда появлялся едва уловимый озорной блеск. Теперь-то я понимаю, тетино неодобрение было напускным, а в душе она восхищенно аплодировала всем причудам и капризам своего мужа, коих у него был изрядный запас. В юности я, конечно, никогда всерьез не задумывался об их отношениях; они казались мне чем-то незыблемым и вечным, как Пеннинские горы. Но сейчас, плавая среди обломков чужих браков, я сознаю, каким необычайно крепким и счастливым был их союз. Временами они ругались, однако ничего даже отдаленно напоминающего серьезную ссору я не припомню. Тетя с дядей безупречно дополняли друг друга. Тайная подсознательная жизнь одного отражалась на лице другого. Печальные хлопоты, смертные одры и надгробные памятники, до которых дяде Майлсу не было никакого дела, давно стали привычным реквизитом тетиной общественной жизни; непринужденное сибаритство и паясничанье, что тетя сурово в себе подавляла, гордо выставлял напоказ дядя.
Он был приятным и добродушным толстяком, стабильно набиравшим вес, с внушительным и красивым лицом – такие часто бывают у американских политиков, которые обещают больше, чем в состоянии исполнить. Густая копна волос, пышные усы, танцующие голубые глаза и сияющие румяные щеки – так он выглядел. (Я перепробовал все современные приборы для бритья вплоть до последних чудес техники, но того поразительного эффекта, какого дядя добивался при помощи обыкновенной опасной бритвы, мне достичь не удалось.) У него было собственное маленькое дело – что-то загадочное, связанное с отходами шерстяного производства и идеально подходящее для человека с широким кругом интересов. Если йоркширский крикетный клуб играл на стадионе «Лордс» или «Овал», у дядюшки всегда находился повод отправиться по делам в Лондон; если же он хотел отдохнуть недельку в Моркаме, Фили или Йоркшир-Дейлз, то работа от этого ничуть не страдала; притом даже в рабочие дни у него оставалась масса времени на домино и шахматы, любители которых собирались в курительных комнатах многочисленных кофеен близ шерстяной биржи. Словом, то было идеальное занятие для весельчака, чья жена унаследовала кое-какую недвижимость. Браддерсфордская текстильная промышленность беспечной довоенной поры без труда кормила сотни подобных везунчиков. Я буквально вижу, как они сидят за шахматными досками в дымке душистой «Виргинии» или «Латакии», неспешно шагают на трамвайную остановку или садятся в поезд, отправляясь смотреть крикет в Лондон или ловить треску на Уорфе. Днем дядя Майлс курил исключительно трубку – всегда одну и ту же смесь «Биржевую» из магазинчика Порсона на Маркет-стрит (весьма недурную, я бы и сейчас от нее не отказался); вечером же, потягивая коктейль за томиком Уильяма Джекобса, он любил выкурить сигару. Дядя вообще много чего любил: прогулки по вересковым пустошам, черничный пирог, парное молоко; сидеть на солнечной стороне крикетного стадиона, любуясь игрой Хирста, Родса или Хэйга; кларнеты и флейты гвардейского духового оркестра в парке, играющего Делиба или Массне; Генделя в старательном исполнении браддерсфордского любительского хора; кривлянья Маленького Тича и Роби, «Шестерых счастливчиков» или Фреда Карно в мюзик-холле «Империал»; пироги со свининой, телятиной или ветчиной, чай с капелькой рома; коварно обставить противников в вист, а затем устроить шумную игру в шарады; резкие выпады Ллойда Джорджа или Филипа Сноудена против тори и разгромные статьи ведущих авторов «Манчестер гардиан». Нет, в моем дяде не было ничего бунтарского, и разжечь огонь революции ему бы никогда не удалось – да не шибко-то и хотелось, – однако он придерживался твердых прогрессивных взглядов, всегда готов был их отстаивать и часто поражал меня умением вести подобные споры. Дядя Майлс до сих пор жил в той свежей и полной надежд атмосфере раннего лейборизма, когда партия еще не знала предательств, а ее структура не успела стать излишне запутанной. В те дни, казалось, старая добрая Англия – с ее крикетом, Уильямом Джекобсом, «Биржевой» табачной смесью, свиными и черничными пирогами и июньскими утрами на рыбалке – все еще поджидала нас за ближайшим углом.
В нашем доме часто бывали гости – друзья семьи. Дядя и тетя ездили с ними отдыхать в Йоркшир-Дейлз, ужинали и играли в вист. С кем-то они познакомились в Конгрегационалистском молитвенном доме Парксайда, который регулярно посещали. Другие, понятно, были соседи, ибо в Браддерсфорде той поры, а может, и в теперешнем Браддерсфорде, но уж точно не в других современных городах соседи быстро становились друзьями; никто и помыслить не мог об одинокой жизни в унылых коробках, которая в тридцатых годах ХХ века едва не свела с ума тысячи домохозяек из пригородов. Люди скромно и непринужденно делились друг с другом теплом и принимали его как должное. Потому-то в нашем доме так часто бывали гости. И хотя мой дядя и его друзья иногда посещали концерты, театры и мюзик-холлы, все же гораздо чаще, чем принято теперь, они развлекались сами и развлекали других, не перекладывая это бремя на плечи киношников и работников радио. Пусть я пилю сук, на котором сижу, но я твердо уверен: людям того времени жилось куда веселее, чем безвольным толпам нынешних кинозрителей и радиослушателей. Быть может, если бы широкая публика и сегодня умела развлекаться самостоятельно, современные фильмы и радиопередачи были бы вынуждены соответствовать куда более высоким требованиям: в противном случае люди, не страдающие от скуки, просто не стали бы их смотреть и слушать.
Однако тут мне пора остановиться, – ведь если я начну вспоминать всех чудаков, с которыми дружил мой дядя, я никогда не доберусь до Элингтонов. Ничего не поделаешь, рано или поздно кое-кто из них все равно появится в моем повествовании – так же внезапно, как они появлялись в нашем доме, – но провоцировать я их не буду.
Итак, мне – молодому человеку восемнадцати лет – надо было как-то устраиваться в жизни и в Браддерсфорде. Обживаясь в своей комнате, будучи в самых добрых и теплых отношениях с дядей и тетей, потихоньку приходя в чувство после потери родителей, еще не мужчина, но уже не школьник, я начал оглядываться по сторонам и познавать этот новый мир шерсти, фабрик и вересковых пустошей. Затерянный в дыму среди Пеннинских гор, ощетинившийся высокими фабричными трубами, с лицом из почерневшего камня, Браддерсфорд считается неприглядным городом. Однако его неприглядность зачастую не отталкивает, а наоборот, притягивает; он мрачен, но не убог. Вересковые пустоши были здесь испокон веку, и горизонт испокон веку вселял надежду. Ни один браддерсфордец не мыслил жизни без гор и голубого воздуха; одна его нога всегда была по колено в вереске; стоило лишь заплатить два пенса за проезд в трамвае и затем полчаса карабкаться вверх, чтобы услышать жаворонков и кроншнепов, понежиться на древних скалах, прогретых солнцем, и полюбоваться дрожащими на ветру колокольчиками. В ясные дни, когда вдали хорошо просматривались горы, улочки центрального Браддесфорда под зыбким пологом дыма казались мне особенными и по-своему очаровательными: они существовали на грани между тусклым золотом и серой мглой. Вот и теперь на любом задымленном железнодорожном вокзале ярким солнечным днем я сразу вспоминаю Браддерсфорд: как я изо дня в день шагал на работу в «Хавес и компанию» по Кэнэл-стрит. И еще мне приходят на ум строчки из Йейтса, Хаусмана, де ла Мара и Ральфа Ходжсона – просто потому что в те дни они подобно жирным золотым пчелам непрестанно жужжали у меня в голове. Я подолгу размышлял о смысле стихов у себя в комнате, носил самые выразительные и волшебные строки с собой по улицам и порой орал их во все горло, как дурак – пугая овец, – посреди ветреных вересковых пустошей. Все говорят, что современная поэзия очень хороша, но я что-то не представляю, как ее можно орать с горной вершины; я вообще ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь цитировал современных поэтов. Да, все меняется, и поэзия тоже. Однако те стихи, которыми я восхищался в 1912-м, можно было твердить про себя снова и снова, как волшебное заклинание, или вытащить наружу и носить, как яркий шарф.
Примерно в то же время, когда мы начинаем восхищаться волшебством поэзии, в нашей жизни появляется и другая магия – ее творят удивительные незнакомцы и незнакомки, которых мы лишь мимоходом видим в трамвае и даже не чаем узнать поближе. Среди каменных джунглей города, по которому мы бродим, нам встречаются чудесные создания из неведомого и доселе невообразимого племени. Потом, становясь старше, мы тоже знакомимся с интересными людьми, но это уже не то: загадка, магия, мечты о ярких неизведанных мирах нас более не преследуют. Я до сих пор помню, как они преследовали меня в те первые месяцы в Браддерсфорде.
Самая короткая дорога из района Бригг-Террас в центр города – это мрачная и унылая Уэбли-роуд, по которой, стеная и раскачиваясь, бродят туда-сюда высокие трамваи. На них я и ездил, одинокий и неприкаянный, мучимый той сумасшедшей смесью гордости и застенчивости, какая обычно свойственна молодым людям. Именно в трамвае я впервые заметил одну любопытную компанию, в ней обычно было от трех до восьми-девяти человек, но удивительный дух ее при этом оставался неизменным. Они принадлежали тому самому загадочному и чудесному племени, живущему более полной жизнью, чем я. В трамвае я старался сесть как можно ближе к ним; встречая их случайно на улице, я непременно переходил дорогу, чтобы идти с ними по одному тротуару. Если же на несколько дней они исчезали, мне начинало казаться, что вступил в силу страшный и несправедливый приговор к изгнанию – причем изгнали не их, а меня.
Я понимал, что сердце компании составляет какое-то семейство, однако отличить родственников от друзей мне не удавалось. Несколько раз я видел в трамвае возможного отца: довольно высокий и темноволосый человек без шляпы, в старом твидовом костюме, с большими залысинами спереди, но густыми седеющими волосами сзади и овальным добродушным лицом. Матерью была, как я догадывался, красивая женщина тихого нрава. Но кто были дети, а кто – друзья детей, оставалось для меня загадкой. Был среди них один юноша на год или два старше меня, в костюме из плотного твида и развевающемся галстуке, всегда растрепанный, громко хохочущий и с вишневой курительной трубкой. Я не хотел признавать, что он мне интересен, однако в глубине души испытывал восхищение и чувствовал себя почти униженным, видя и слыша его браваду. Руки у него постоянно были чем-то заняты – книгами, пластинками или даже продуктами, – и он мог в три секунды занять четверть трамвайного салона. Но особенный душевный трепет вызывали во мне девушки – королевы и принцессы великолепного таинственного племени. Среди них была одна совсем юная, чуть неряшливая, всегда сверкавшая зеленым взбудораженным взором. Другая девушка – нежная, улыбчивая, белокурая – часто ехала в сопровождении высокого черноволосого юноши, которому я страшно завидовал. Третья, постарше, со сливочно-белым лицом, темными бровями и огромными серыми глазами, первой обратила на меня внимание в трамвае: она бросила на меня веселый взгляд и тем самым как бы отметила мое присутствие – до сих пор я для чудесного племени не существовал. Все они были чрезвычайно увлечены собой и своими делами. Подгоняемые неопрятным юнцом и зеленоглазкой, они каждый вечер спешили на какое-нибудь увлекательное мероприятие или возвращались домой, где их ждало что-то еще более увлекательное. Разговорчивые члены компании без конца болтали и часто спорили, но даже молчаливые оставляли четкий след на волшебной ауре группы. Я смотрел на них из внешнего мрака, разинув рот, околдованный и печальный. Они жили дальше по Уэбли-роуд, чем я; больше я ничего об этой компании не знал. Порой в надежде на встречу я ходил в том направлении гулять. В глубине моей души теплилась дерзкая вера в то, что когда-нибудь в результате удивительного стечения обстоятельств я попаду в зачарованный сад их дома и передо мной откроется дверь в светлую гостиную, полную улыбчивых и яркоглазых девушек, – чтобы впредь никогда не закрываться. Однако я лишь вновь и вновь блуждал в лабиринте пригородных улочек и переулков, не находя заветного дома. Чудесные создания встречались мне – всегда внезапно и как по волшебству – исключительно на Уэбли-роуд. Оставалось загадкой и то, кто они такие. Когда я ехал в трамвае с тетей или дядей, как назло, их в нем не было, а мои подчеркнуто небрежные расспросы результатов не дали. Пришел октябрь с его едким запахом дыма, а я все бродил по меркнущим улицам и переулкам, пиная кучи мокрых кленовых листьев. Загадочная компания мне уже давно не встречалась. Точно бабочки-малинницы, они исчезли вместе с летним солнцем.
– Что ж, Грег, – сказал дядя Майлс одним октябрьским днем, – похоже, я тебя устроил. Конечно, тебе придется сходить в контору и самому посмотреть, ответить на несколько вопросов и все такое, но дело в шляпе.
Я сразу понял, что речь идет о моей работе, поскольку он хлопотал на этот счет с начала сентября. С несколько преувеличенным восторгом я спросил, куда меня берут. Дядя Майлс сиял и ликовал.
– Работа немного не по моей части, – ответил дядя, который иногда всерьез считал себя очень деловым человеком. – Она связана с торговлей шерстью, а не с производством.
– Рада слышать, – вставила тетя Хильда. – Там вертятся настоящие деньги, Грегори. С сырьем никогда не прогадаешь: покупай себе да продавай, даже руки пачкать не придется. Вмиг заработаешь целое состояние.
– Ну, тут я бы поспорил, – возразил дядя.
– Не глупи, Майлс. У нас миллион таких знакомых. Богачи! А ведь двадцать лет назад многие из них ютились в крошечных домишках, за душой у них и десяти фунтов не было. Вспомни хотя бы двоюродного брата мужа Харриет, того самого, чья жена безвременно скончалась. Помню, видела бедняжку у доктора Фосета…
– Вот привязалась ты к этому доктору Фосету! – вскричал дядя Майлс, подмигнув мне. – Грегу неинтересно слушать про врачей, он хочет узнать про свою новую работу, верно я говорю? Ну так слушай, фирма называется «Хавес и компания», их контора находится на Кэнэл-стрит. Они малость отличаются от остальных шерстяных фирм, ребята с манерами и претензией, так сказать. Тебе как раз по душе придутся. Вообще-то это лондонская контора, а здесь у них филиал. Торгуют немытой шерстью, кроссбредной и мериносовой, работают и на внутреннем, и на международном рынке. Джо Экворт на них трудится, – сказал он тете, которая, очевидно, была знакома с Джо Эквортом. – Я встретил его сегодня в «Тублине»…
– А что это ты с утра пораньше делал в «Тублине»? – спросила тетя Хильда. «Тублин» был известным баром-рестораном на Маркет-стрит.
– Рассказывал Джо Экворту про Грегори, – поспешно ответил дядя и снова обратился ко мне. – Завтра идешь в контору на собеседование. Джо говорит, что это вообще-то не его дело, он закупщик, но все будет хорошо. Я ему сказал, что ты немного знаешь французский и немецкий, Грег. И что тебе очень хочется освоить профессию. Джо пообещал замолвить словечко. Он завтра будет в конторе, но тебе надо спросить мистера Элингтона, это твой будущий начальник. Я про него слышал, хотя лично не знаком. Он не местный, из Лондона приехал.
– Элингтон? – Моя тетя принялась рыться в обширных кладовых своей памяти. – Кажется, миссис Рэнкин знакома с этой семьей. Они живут за кладбищем, со стороны Уэбли-вуд. Помню, миссис Рэнкин рассказывала, как миссис Элингтон натерпелась горя с одним из детей – ребенок чуть не умер от аппендицита. – Тетя повернулась ко мне: – Надень завтра свой синий костюмчик, хорошо?
– Да он в любой одежде будет выглядеть лучше Джо Экворта, – сказал дядя.
– Ну что же ты, Майлс! Наш Грегори не Джо Экворт, он должен выглядеть опрятно и произвести хорошее впечатление. Это уже половина дела! – заявила тетя, ни разу в жизни не бывавшая в конторе фирмы, торгующей шерстью. – Тем более мистер Элингтон не местный, наверняка какой-нибудь лондонский щеголь, разряженный в пух и прах. – Тете Хильде, как и большинству браддерсфордцев тех лет, казалось, что в Лондоне живут сплошные денди и распутники.
Итак, на следующее утро я сел в трамвай и отправился в город, сам разряженный в пух и прах: на мне был мой лучший синий костюм, высокий накрахмаленный воротничок и черный вязаный галстук – из тех, что пользовались страшной популярностью в те годы, а сегодня их нигде не увидишь. От Смитсон-сквер я пошел вниз по Кэнэл-стрит – короткой улице, бегущей промеж высоких каменных складов, похожих на черные крепости, – и оказался в незнакомом мне квартале: между закопченной громадой Мидлэндского вокзала и жирным гороховым супом канала. Копыта огромных ломовых лошадей вышибали искры из мостовой. Всюду сновали мужчины в матерчатых кепках и клетчатых рабочих комбинезонах либо в фартуках, которые местные называют передниками. И еще этот квартал очень дурно пах; особенно отталкивающий смрад шел от кожевни.
Контора «Хавеса и компании» находилась на первом этаже мрачного темного здания. Немного помедлив, я постучал в маленькое закопченное окошко под надписью «Справочная». Оно тут же распахнулось, и в нем возник рыжий веснушчатый подросток лет пятнадцати. Я представился ему и объяснил, зачем пришел. Откуда-то изнутри тут же раздался оглушительный злой голос, который с ярко выраженным йоркширским акцентом произнес:
– Пусть идет ко мне!
Мальчишка открыл дверь и впихнул меня в длинную узкую комнату. Вдоль стены с окнами помещалась длинная стойка, а противоположная стена была до потолка заставлена корзинами и коробками с образцами шерсти, завернутыми в голубую бумагу. К стойке привалился крепкий человек средних лет с широким грубым лицом, на котором тоже были передник и старая матерчатая кепка – совсем крошечная и оттого делавшая его похожим на комедианта. Человек посасывал пустую трубку, кряхтел, страшно хмурился и всем своим видом напоминал разъяренного кабана.
– Вот он, мистер Экворт, – сказал мальчишка.
– Знаю! – проорал мистер Экворт. – А теперь бегом в испытательный центр, живо, живо!
Мальчишка, чьи рыжие волосы и веснушки в этом свете горели еще ярче, ничуть не испугался этого оглушительного крика. Он кивнул, весело улыбнулся, сорвал с себя передник, бросил его на крючок у двери и, посвистывая, удалился.
Мистер Экворт хорошенько ко мне пригляделся, а я, помню, мгновенно почувствовал себя болваном: угораздило же меня так вырядиться!
– Ты тот самый малый, о котором вчера толковал старый Майлс Лофтхаус? – закричал мистер Экворт. – Как бишь тебя? Запамятовал!
– Грегори Доусон, – ответил я, напуская на себя беспечный вид.
– А, ну да, ну да. Как я мог забыть? – Он перестал кричать и перешел на невнятное бормотание. – Знавал я твою матушку. Мы с ней вместе пели в Конгрегационалистском хоре Парксайда лет двадцать пять назад, когда я был еще молод и сдуру решил, что умею петь. Худшего тенора этот хор еще не видал, ты уж мне поверь. Она вышла замуж за малого по имени Доусон и упорхнула с ним в Индию, так было дело? – Он снова окинул меня внимательным взглядом. – А ты, что ли, франт?
Тут я рискнул и улыбнулся:
– Нисколько. Это тетя меня заставила надеть все самое лучшее.
– Так и подумал. – Мистер Экворт издал что-то вроде сдавленного смешка. – Мы с ней знакомы. Она из очень благовоспитанной семьи. Для некоторых ее родственников эта благовоспитанность оказалась несовместима с жизнью. В нашем деле что-нибудь смыслишь?
Я честно признался, что нет.
– Не беда. Я еще и не таких малых на бирже встречал: должности ого какие, а в шерсти разбираются не лучше, чем я в женином рукоделье. Ну, говори, что это? – Мистер Экворт грохнул кулаком по стойке, подняв облачко пыли, взял голубой сверток и, развернув, показал мне.
– Немытая шерсть, насколько я понимаю.
– Неправильно понимаешь! – проорал мистер Экворт и вытряхнул содержимое свертка на стойку. – Это верблюжья шерсть, со всей положенной мерзостью. – Он показал пальцем на грязь и кусочки засохшего навоза. – Она приехала сюда прямиком из какой-нибудь пустыни, так что присмотрись к ней хорошенько. Ты небось думал, что в Браддерсфорде одни темные неучи да простаки живут, так вот знай: мы бываем во всех частях света, и все части света бывают здесь. Заруби это себе на носу, малый.
Тут его позвали к телефону, который висел рядом с дверью. По телефону мистер Экворт разговаривал еще более грубо и без обиняков.
– Ты своему Бутройду скажи, чтоб не наглел! – закричал он в трубку. – Цену свою мы назвали, и сверх того он ни пенни не получит! Слышал я эти байки да не раз. Стоит вам товаром разжиться, так сразу песню заводите: кроссбредная, мол, дорожает… Хватит! Или я беру шерсть, как договаривались, или ищите себе другого покупателя, мне плевать! – Он с грохотом водрузил трубку на место и с улыбкой повернулся ко мне. – Поднять цену вздумали. Ох уж этот Бутройд! К обеду они примут мое предложение, вот увидишь. Ладно, попробуй завернуть этот образец.
С первым заданием я справился хуже некуда – боялся испачкать костюм, да к тому же шерсть и грязь не желали помещаться в жалкий огрызок бумаги. Однако моя неудача как будто пришлась мистеру Экворту по душе.
– Да не так надо! – проорал он и оттолкнул меня в сторону. – Вот гляди, малый. Как следует все уминаешь, потом заворачиваешь. Смотри и учись, тебе этим делом часто придется заниматься, если будешь со мной работать. И вот еще что. Мистер Элингтон может дать тебе должность в конторе, а юного Эллиса назначить мне в помощники, но я бы на твоем месте остался здесь: со мной уму-разуму быстро научишься.
Я сказал, что для этого и пришел.
– Ага, – кивнул он без намека на одобрение, – уж наверняка. Однако работу тебе еще не дали, учти. Решение принимаю не я, я могу только словечко замолвить. Главный у нас мистер Элингтон, повидайся сперва с ним.
– Мне так и сказали. Он сейчас у себя?
– Да, но пока занят. Мы вообще-то делом занимаемся, а не только языками треплем. Погоди, я схожу гляну.
Мистер Экворт вышел в другую дверь, которая вела, по всей видимости, в контору: оттуда донесся стрекот пишущей машинки и чей-то голос, разговаривающий по телефону. Минутой позже донесся вопль мистера Экворта: он приглашал меня войти. Я очутился в сравнительно небольшом кабинете на несколько человек, с высокими бюро и длинноногими табуретами, словно сошедшими со страниц диккенсовских романов. Чувствуя себя почти Николасом Никльби, я прошел контору насквозь и встал рядом с мистером Эквортом в дверях личного кабинета мистера Элингтона.
– Вот он, – объявил мистер Экворт. – Грегори Доусон. Я знаком с его дядей, а раньше знавал и матушку. По-моему, славный и разумный малый. – С этими словами он вышел вон, оставив меня наедине с мистером Элингтоном.
– Здравствуйте! – с улыбкой произнес тот. – Присаживайтесь и минутку подождите, хорошо? – Он начал подписывать какие-то письма.
Задержи мистер Элингтон взгляд на две-три секунды, он, пожалуй, счел бы меня полоумным. Я глядел на него с разинутым ртом. Меня, как любили говорить в Браддерсфорде, точно обухом по голове огрели. Если бы за дверью очутился царь Приам или колдун Мерлин, я бы вряд ли удивился сильнее. Мистер Элингтон оказался тем самым высоким темноволосым отцом волшебного семейства из трамвая.
Он поднял голову, и его овальное, довольно морщинистое лицо расплылось в улыбке.
– Не первый раз меня видите?
– Д-да, сэр, – выдавил я.
– У вас на лице написано. – Он вновь широко улыбнулся, показывая, что ничего страшного в этом нет. – Я уже почти закончил.
Я бы скорее принял его за доброго и веселого школьного учителя, нежели за серьезного коммерсанта. Залысины, обрамленные густыми курчавыми волосами, похожими на стружку темного олова, придавали ему сходство с высоколобым профессором. У него были густые брови и довольно глубоко посаженные глаза зеленовато-коричневого цвета, которые то и дело чудесно вспыхивали. (Наверняка он приходится отцом той девушке с горящим взором зеленых глаз.) Нос был небольшой, а верхняя губа и длинный узкий подбородок придавали лицу комичную вытянутость. Было в его внешности что-то от актера – что-то драматично-шекспиро-бенсоновское – и одновременно от учителя. А может, немного и от поэта или художника? Он был одет в старый твидовый пиджак, серую шерстяную рубашку и вылинявший зеленый галстук из поплина. Словом, ни намека на щегольской синий костюм или высокий воротник. Мне тут же захотелось сказать, что и я не имею обыкновения так одеваться.
– Так где мы встречались? – спросил он, по всей видимости, закончив с письмами.
Я немного поколебался и ответил, что видел его в трамвае на Уэбли-роуд.
– Мы кого хочешь заболтаем, правда? Мои родные часто ведут себя так, словно им принадлежат все на свете трамваи, особенно сын и младшая дочь.
– Которая с зелеными глазами и всегда чем-то взволнована?
Мистер Элингтон рассмеялся:
– Это Бриджит. А вы наблюдательны, Доусон.
– Я не мог не заметить этих девушек, сэр. Две другие тоже красавицы, одна брюнетка, одна блондинка.
– Ну, к вашему сведению, брюнетку зовут Джоан, а блондинку – Ева. – Тут он умолк, перестал улыбаться и нахмурил густые брови, чем на секунду меня встревожил. Но потом я заметил, что строгость эта наигранная. – Послушайте, молодой человек, я вас пригласил не затем, чтобы о моей семье поболтать. Если вы желаете работать на нас, то будьте добры ответить на несколько вопросов, ясно? Впрочем, вы тоже наверняка хотите о многом расспросить. Итак, посмотрим…
Следующие несколько минут я рассказывал ему о себе. Преодолев первое потрясение и робость, я обнаружил, что с мистером Элингтоном очень легко и приятно беседовать. Он не ждал почтительного обращения, не выставлялся и не вел себя покровительственно, и это сразу мне понравилось. Убедившись, что считать я умею, он попросил меня немного попереводить с французского, затем я кое-как объяснился с ним по-немецки. Все прошло как нельзя лучше.
– Что ж, Доусон, – задумчиво глядя на меня, сказал мистер Элингтон, – можешь приступать к работе, как только захочешь. Платить будем фунт в неделю – больше ты на первых порах нигде и не заработаешь. Можешь начать в конторе, а можешь помогать мистеру Экворту с образцами. Ему нужен помощник, а Эллис, сдается, предпочел бы работать в конторе. Вы с мистером Эквортом уже познакомились, он наш закупщик – и весьма дельный. Как тебе кажется, вы смогли бы найти общий язык?
Я честно ответил, что смогли бы, поскольку разгадал за громким голосом и скверным нравом мистера Экворта лишь игру в колоритного браддерсфордца.
– Значит, ты умнее юного Эллиса, – с улыбкой произнес мистер Элингтон. – С мистером Эквортом ты многому научишься, да с ним и куда интереснее. Однако трудиться будешь не покладая рук, Доусон. Как тебя зовут? Грегори? Работа грязная, так что обзаведись парой комбинезонов и фартуков – передников. Открываемся мы в девять утра. Твое место, стало быть, в комнате для образцов.
Напоследок мистер Элингтон задал мне еще один вопрос:
– Кстати, Грегори, интересы у тебя есть? Хобби, увлечения?
– Ну, я пытаюсь немножко писать…
– Стихи или прозу?
– И то и другое. Еще я много читаю, люблю гулять, слушать музыку…
Он просиял:
– Молодец, молодец! Я тоже все это люблю, разве что писать не пытаюсь – давно поставил на этом крест. Думаю, мы поладим. Твой предшественник, который уволился пару недель назад, ничем не интересовался, кроме марок. Глупое стариковское увлечение – меня это всегда беспокоило. А теперь ступай, Грегори, и передай мистеру Экворту, что у него появился помощник.
Не знаю, удалось бы мне вспомнить, что я тогда сказал мистеру Экворту и каков был его ответ (что куда интересней), но ровно в ту секунду, когда я возвращался из конторы в комнату для образцов, тридцать с лишним лет спустя в моем номере гостиницы «Ройял оушен» зазвонил телефон. Это был Брент, разумеется.
– Как дела, Грег? – спросил он.
Я ответил, что очень продуктивно поработал сегодня и не вижу причин, почему бы не повторить успех завтра.
– Не повторишь, – сухо произнес он. – Сегодня прилетела Элизабет – на две недели раньше условленного. – Брент имел в виду Элизабет Эрл, голливудскую звезду первой величины, которую мы пригласили сниматься в «Леди наносит ответный удар». – Она хотела поговорить с тобой по телефону – мол, вы давние друзья, – но я велел ей укладываться спать, после перелета она немного не в своей тарелке. Суть не в этом. Завтра она приедет к тебе в гости. Говорит, хочет прочесть сценарий и не светиться пока в городе. Я занят по горло, так что с ней приедет Адонай, ему как раз на месте не сидится, бродит всюду как неприкаянный. И Джейка я отправлю с ними. – Джейк был рекламный агент. – Они прибудут к чаю, номера уже забронированы, поэтому тебе ничего делать не надо. Если ты и впрямь такой душка, как говорит Элизабет, просто ублажай ее и не расстраивай. Она немного не в себе из-за перелета, конечно. Проблем с ней быть не должно. Но у меня есть подозрение, что она с Адонаем не поладит.
– Мне тоже так кажется. Лучше бы они ненавидели друг друга в Лондоне. Лучше бы сюда вообще никто не приезжал. Впрочем, как я понимаю, этому уже нельзя помешать.
– Даже не пытайся, – сказал Брент. – Чем ты там занимаешься? Пьешь? Думаешь? Или и то и другое?
– Просто думаю. О своем прошлом.
– А Элизабет в этом прошлом есть? Судя по ее тону, да.
– Нет, разумеется. В те времена, которые я сейчас вспоминал, она еще пешком под стол ходила. Я думал о довоенной поре. О 1912 годе, если точнее. Я ведь уже старик, Брент.
– Завтра вечером ты будешь другого мнения. – Он хохотнул. – Погоди, пока не увидишь Элизабет. Она, конечно, не в моем вкусе, но посмотреть на нее приятно. Ну, бывай! Ее душевное спокойствие на твоей совести.
На минуту-другую меня одолели одиночество и печаль, как бывает после междугороднего звонка от давнего приятеля. Хотя было уже поздно, мне захотелось одеться и пропустить рюмочку в баре, заодно и поболтать с кем-нибудь. Я поборол это желание, занявшись делом: прочистил трубку и открыл новую жестянку табака (одна из маленьких радостей моей жизни). Затем я вернулся в кресло, выбросил из головы все мысли об Элизабет Эрл, Георге Адонае и завтрашнем дне; поплутав несколько минут в воспоминаниях, я вновь очутился в довоенном Браддерсфорде.