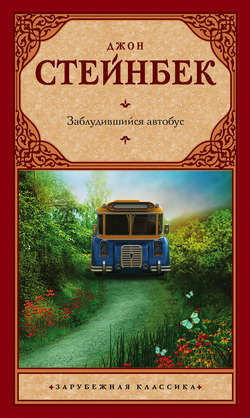Читать книгу Заблудившийся автобус - Джон Стейнбек, Джон Эрнст Стейнбек - Страница 4
Глава II
ОглавлениеФонарь с мелким, обращенным вниз отражателем ярко освещал только ноги, ботинки, шины и комли дубов. Он нырял и качался, и бело-голубой пузырек лампочки ослепительно сиял. Хуан подошел с фонарем к гаражу, вынул из комбинезона связку ключей, нашел ключ от висячего замка и отомкнул ворота. Внутри зажег верхний свет и выключил фонарь.
Он взял с верстака полосатую рабочую кепку. На нем был комбинезон с большими латунными пуговицами на нагруднике и боковых застежках, а сверху – черная куртка из конской кожи с черными вязаными манжетами и воротом. Туфли у него были круглоносые и жесткие, и подошва такая толстая, что казалась надутой. В старом шраме на щеке возле большого носа залегла тень. Он сгреб пятерней густые черные волосы и заправил под кепку. Руки у него были широкие и сильные, с тупыми пальцами, ногти плоские от работы, свилеватые, в бороздках от ушибов и повреждений. На среднем пальце левой руки не хватало фаланги, и он грибком утолщался к концу. Утолщение было другой фактуры, чем остальной палец, лоснилось, как будто хотело сойти за ноготь, и на этом пальце Хуан носил широкое обручальное кольцо, как будто решил: не годишься для работы, так послужи хоть для украшения.
Из кармана в нагруднике торчали карандаш, линейка и шинный манометр. Брился Хуан только вчера, и щетина на горле и по сторонам подбородка была беловатая и седоватая, как у старого эрделя. Это бросалось в глаза, потому что в остальном борода была черная как смоль. Черные глаза насмешливо щурились – вроде того, как щурятся от дыма, когда нельзя вынуть изо рта сигарету. А губы у Хуана были полные и добрые – спокойные губы: нижняя слегка выдавалась, но не брюзгливо, а с юмором и уверенностью; верхнюю, хорошо очерченную, прорезал чуть слева глубокий шрам, почти белый на розовом. Видно, когда-то ее рассекло насквозь, и теперь тугой белый шнурок стягивал полную губу, так что она набегала на шрам двумя крохотными складочками. Уши у него были не очень большие, но торчали как ракушки или как если бы их оттопырили руками, к чему-то прислушиваясь. И Хуан, казалось, все время к чему-то прислушивается, причем глаза его смеются над услышанным, а рот не совсем одобряет. Движения у него были уверенные, даже тогда, когда его занятие уверенности не требовало. Ходил он так, как будто шел в точно определенное место. Руки двигались быстро и четко и никогда не баловались со спичками или ногтями. Зубы у Хуана были длинные и с золотом по кромкам, что придавало его улыбке некоторую свирепость.
Возле верстака он снял с гвоздей инструменты и уложил в длинный плоский ящик – ключи, пассатижи, несколько отверток, молоток и бородок. Рядом с ним Прыщ Карсон, налитый сном, облокотился на масленую доску верстака. На нем были рваный свитер мотоклуба и тулья фетровой шляпы, обрезанная по краю зубчиками. Прыщ был длинный узкоплечий малый семнадцати лет, с тонкой талией и длинным лисьим носом; глаза у него по утрам казались совсем светлыми, а днем становились оливковыми. На щеках золотился пух, а сами щеки были изрыты, изъедены и распаханы прыщами. Между старых воронок торчали новые образования, зреющие и убывающие. Кожа блестела от снадобий, которые прописываются при таких страданиях и не помогают ни на грош.
Синие джинсы на Прыще были тесные и настолько длинные, что низки он подвернул сантиметров на двадцать пять. На узких его боках штаны удерживались широким, богато тисненным ремнем с толстой гравированной серебряной пряжкой, в которой сидело четыре бирюзы. Прыщ старался не давать рукам воли, но пальцы самочинно тянулись к изрытым щекам, и, поймав себя на этом, он опять опускал руки. Он писал всем фирмам, предлагавшим лекарства от прыщей, и ходил по врачам, которые знали, что вылечить не могут, но знали также, что скорее всего это пройдет через несколько лет само по себе. Тем не менее они прописывали ему мази и примочки, а один посадил его на овощную диету.
Глаза у него были узкие и с косым разрезом, как у сонного волка; сейчас, ранним утром, они совсем слиплись от гноя. Прыщ был редкостный соня. Будь на то его воля, он спал бы чуть ли не круглые сутки. Весь его организм и душа были полем жестокой битвы, которая зовется юностью. Вожделения в нем не затихали, и когда они не были прямо и явно половыми, то выливались в меланхолию, глубокую и слезливую чувствительность или крепкую, с душком, религиозность. В уме его и чувствах, как на лице, все время шла вулканическая работа, все время саднило и свербело. У него бывали приступы неистовой праведности, когда он убивался из-за своих пороков, вслед за чем впадал в меланхолическую лень, близкую к прострации; уныние сменялось спячкой. После он долго еще ходил как в дурмане, вялый и обалделый.
В это утро он надел свои коричнево-белые, с дырочками, полуботинки на босу ногу, и из-под завернутых штанин выглядывали лодыжки в разводах грязи. В периоды упадка Прыщ до того обессилевал, что совсем не мылся и даже ел плохо. Фетровая тулья с аккуратными зубчиками служила не так для красоты, как для того, чтобы длинные каштановые волосы не лезли в глаза и не маслились, когда он работал под машиной. Сейчас он стоял, бессмысленно глядя на Хуана, складывавшего инструменты в ящик, и ум его ворочался в громадных байковых одеялах сна, тяжких до тошноты. Хуан сказал:
– Включи лампу на длинном шнуре. Давай, Прыщ. Давай, давай, просыпайся!
Прыщ встряхнулся, как собака.
– Что-то никак не могу очухаться, – объяснил он.
– Лампу отнеси туда и тащи мою доску. Надо двигаться.
Прыщ взял переносную лампу в защитной сетке и стал сматывать с ручки тяжелый резиновый шнур. Потом включил его в розетку возле двери, и свет плеснул. Хуан поднял ящик с инструментами, шагнул за дверь и взглянул на темное небо. Воздух переменился. Ветерок колыхал молодые дубовые листья, шнырял между гераней – нерешительный влажный ветерок. Хуан принюхивался к нему, как принюхиваются к цветку.
– Если опять дождь, – сказал он, – ей-богу, это лишнее.
На востоке посветлело, стали обозначаться вершины гор. Подошел Прыщ с переносной лампой, разматывая за собой резиновый шнур. Большие деревья выступили навстречу свету, и он заблестел на желтоватой зелени молодых листиков. Прыщ отнес лампу к автобусу и вернулся в гараж за длинной доской на роликах, которая позволяла передвигаться, лежа под машиной. Он кинул доску около автобуса.
– Да, похоже, натягивает, – сказал он. – Так ведь весной в Калифорнии, считай, всегда дожди.
Хуан сказал:
– Против весны я ничего не имею, но шестеренка у нас полетела, а пассажиры ждут, а земля от дождей раскисла…
– Для урожая – хорошо, – заметил Прыщ.
Хуан умолк и оглянулся на помощника. От глаз у него разбежались веселые морщинки.
– Это точно, – сказал он, – точно.
Прыщ застенчиво отвернулся.
Автобус теперь освещала переносная лампа, и выглядел он непривычно и беспомощно, потому что там, где полагалось быть задним колесам, стояла пара тяжелых дровяных козел, и держал его не задний мост, а брус 10 × 10 сантиметров, положенный на козлы.
Это был старый автобус, на нем стоял четырехцилиндровый мотор с низкой степенью сжатия и специальная коробка скоростей с пятью передними передачами вместо трех, причем две – меньше нормальной первой, и двумя задними. Несмотря на толстый слой свежей серебрянки, на выпуклых бортах ясно проступали все бугры и вмятины, царапины и шрамы долгой и тяжелой службы. Почему-то от кустарной окраски старый автомобиль выглядит еще древнее и потасканнее, чем если бы ему предоставили честно приходить в упадок.
Внутри автобус тоже ремонтировали. Сиденья, некогда плетеные, были обиты красным дерматином, и хотя работа была аккуратная, она была непрофессиональная. В салоне стоял кисловатый душок дерматина и откровенный, назойливый запах бензина и масла. Это был старый, старый автобус, переживший много поездок и много трудностей. Дубовые планки пола были сточены и вытерты подошвами пассажиров. Борта были помятые и выправленные. Окна не открывались, потому что весь кузов слегка перекосило, и летом Хуан выставлял окна, а на зиму вставлял опять.
Кресло водителя протерлось до пружин, но на протертом месте лежала цветастая ситцевая подушка двоякого назначения – оберегать водителя и прижимать голые пружины. На ветровом стекле висели талисманы: детский башмачок – для охраны, потому что неверные ножки младенца требуют постоянной осмотрительности и Божьего попечения, и крошечная боксерская перчатка – это для силы, силы кулака на брошенном вперед предплечье, силы поршня, толкающего шатун, силы человека как ответственной и гордой личности. Еще на ветровом стекле висела пухленькая целлулоидная куколка в вишнево-зеленом головном уборе из страусовых перьев и соблазнительном саронге. Она была для радостей плоти, глаза, слуха, обоняния. На ходу игрушки крутились, качались и прыгали перед глазами водителя. Там, где ветровое стекло делила пополам средняя стойка, на приборной доске расположилась маленькая металлическая, ярко раскрашенная Дева Гвадалупская. Лучи от нее шли золотые, одежды на ней были лазоревые, и стояла она на молодом месяце, который держали херувимы. Она олицетворяла связь Хуана с вечностью. К церковной и догматической стороне религии это имело мало касательства, а больше – к религии как памяти и чувству. Смуглая Дева напоминала Хуану и о матери, и о темном домике, где мать, говорившая по-испански с легким ирландским акцентом, его вырастила. Потому что Деву Гвадалупскую мать выбрала своей личной богиней. Отставку получили св. Патрик и св. Бригита и десять тысяч бледных северных дев, на их место взошла эта смуглая, с настоящей кровью в жилах, близкая к людям.
Мать преклонялась перед своей Девой, чей день отмечают лопающимися в небе ракетами, а отец Хуана, мексиканец, понятно, не видел тут ничего особенного. Естественно, что в дни святых пускают ракеты. Как же иначе? Взлетающая с треском трубка – это, понятно, душа возносится в небо, а гремучая вспышка вверху – это торжественный вход в тронный зал Небес. Хуан Чикой, хотя и не был набожным человеком, в свои пятьдесят лет не вел бы автобус с легкой душой, если бы за ним не приглядывала Гвадалупана. Религия его была практическая.
Под святой в щитке было отделение для мелочей, и там лежали револьвер «смит-и-вессон» калибра 11,43 мм, бинт, пузырек йода, флакон лавандовой нюхательной соли и непочатая пол-литровая бутылка виски. Хуан считал, что с таким снаряжением он готов почти к любой непредвиденности.
На переднем бампере автобуса когда-то была надпись, до сих пор еще различимая: «El grand Poder de Jesus» – «Великая сила Иисусова». Она осталась от прежнего владельца. Теперь же на обоих бамперах было четко выведено простое слово «Любимая». И все, кто знал автобус, знали его как «Любимую». Сейчас «Любимая» была парализована: задние колеса сняты, зад висел в воздухе, опираясь на десятисантиметровый брус, перекинутый между козлами.
Хуан держал новую коронную шестерню, катал в ней ведущую.
– Поднеси поближе свет, – сказал он Прыщу и прокатил шестеренку по всему кольцу. – Помню, раз поставил новое кольцо со старой шестерней – сразу полетело.
– Когда зуб ломается, гремит прилично, – сказал Прыщ. – Звук такой, как будто он сквозь пол в тебя летит. Как вы думаете, почему он сломался?
Хуан держал кольцевую шестерню перед собой торцом и медленно вел по ней малую, проверяя на просвет зацепление.
– Не знаю, – ответил он. – В металле и вообще в машинах много непонятного. Возьми Форда. Он выпустит сотню машин, и две или три из них – ни к черту. Не что-нибудь одно барахлит – вся машина барахло. И рессоры, и мотор, и помпа, и вентилятор, и карбюратор. Она вся помаленьку разваливается, и никто не знает, почему так. Возьми другую машину, тоже с конвейера, – вроде такая же, как все, да не такая. В ней что-то есть, чего в других нет. В ней силы больше. Как в крепком человеке. Делай с ней что хочешь – все выдержит.
– У меня была такая, – сказал Прыщ. – «Форд-А». Я его продал. Спорить могу, он еще бегает. Ездил на нем три года и десяти центов на ремонт не истратил.
Хуан положил новые шестерни на подножку и поднял с земли старую. Он пальцем потрогал обломок зуба.
– Металл – хитрая вещь, – сказал он. – Иногда он как будто устает. Знаешь, у нас в Мексике люди держали по два, по три мясных ножа. Одним пользовались, а остальные втыкали в землю. Говорили: «Лезвие отдыхает». Не знаю, так ли, но эти ножи можно было заточить, как бритву. Я думаю, никто не понимает металла, даже те, кто его делает. Давай посадим шестерню. Ну-ка поднеси туда свет.
Хуан положил доску с роликами позади автобуса, лег на нее спиной и, отталкиваясь ногами, въехал под днище.
– Передвинь свет немного левее. Нет, выше. Вот. Теперь пихни мне ящик с инструментами, можешь?
Руки Хуана работали четко: масло капнуло ему на щеку. Он стер его тыльной стороной ладони.
– Поганая работенка.
Прыщ заглянул к нему под автобус.
– Может, повешу лампу тут на гайку? – спросил он.
– Да нет, через минуту надо будет перенести, – ответил Хуан.
Прыщ сказал:
– Хорошо бы вы сегодня починили. В своей кровати охота поспать. В кресле не отдыхаешь.
Хуан фыркнул:
– Ты видал, как они разозлились, когда нам пришлось вернуться из-за шестерни? Можно подумать, я нарочно это устроил. До того были злы, что и на Алису накинулись из-за пирога. Наверно, думают, она их сама печет. В дороге люди очень не любят задержек.
– Спали на наших кроватях, – заметил Прыщ. – Не понимаю, чего они разоряются. В креслах-то спали мы с вами да Алиса с Нормой. А хуже всех – эти, Причарды. Не девушка, конечно, не Милдред, а старики. Им все чего-то кажется, что их надувают. Он мне сто раз сказал, что он там президент или еще кто и он этого так не оставит. Возмутительно, говорит. А сам с женой спал на вашей кровати. Интересно, где Милдред спала? – Глаза у Прыща слегка заблестели.
– На диване, наверно, – сказал Хуан. – А может, с папой, с мамой. Который игрушками торгует, ночевал в комнате Нормы.
– Этот мне понравился, – сказал Прыщ, – он не ругался. Сказал, что с удовольствием заночует. А чем занимается, не говорил. Зато Причарды за всех пошумели – не Милдред, а старики. А знаете, куда они едут, мистер Чикой? По Мексике. Милдред учит в колледже испанский. Она им будет вместо переводчицы.
Хуан вставил шпонку и несильными ударами загнал ее до конца. Потом выбрался из-под автобуса.
– Давай собирать задний мост.
Свет просачивался в небо из-за гор. В сером и черном, бесцветная, занималась заря, и в ней белые и синие предметы стали серебряными и красными, а темно-зеленые были черны. Черны и белы были молодые листья больших дубов, и очертания гор обозначились резко. Слабо порозовели восточные кромки тяжелых и пузатых облаков, колобками катившихся по небу.
Внезапно в закусочной вспыхнул свет и вырвал из небытия грядку гераней перед домом. Хуан оглянулся на свет.
– Алиса встала, – сказал он. – Скоро кофе поспеет. Давай кончать с задним мостом.
Мужчины работали слаженно. Каждый знал, что делать. Каждый делал свое. Прыщ тоже лежал на спине, затягивал гайки на картере, и от дружной работы рождалось хорошее чувство.
Хуан напряг руку, подтягивая гайку, ключ сорвался, и он ссадил костяшку пальца. Густая черная кровь потекла по грязной руке. Он пососал ссадину, и вокруг рта осталось кольцо темного масла.
– Сильно ободрали? – спросил Прыщ.
– Да нет, это, наверно, к удаче. Без крови работу не сделаешь. Так мой отец говорил. – Он опять пососал палец; кровь шла тише.
Тепло и розовый отсвет зари исподволь разливались вокруг, и электрический свет как будто терял яркость.
– Интересно, сколько еще приедет на «борзом», – праздно полюбопытствовал Прыщ. И тут из хорошего чувства к мистеру Чикою родилась волнующая мысль. Мысль была такая пронзительная, что стало даже больно. – Мистер Чикой… – начал он с запинкой, робким, униженным, умоляющим тоном.
Хуан перестал навинчивать гайку и ждал просьбы – о выходном, о прибавке, о чем-нибудь. Просьба была неминуема. Она слышалась в голосе и для Хуана означала неприятность. Неприятности всегда так начинались.
Прыщ молчал. Он не находил слов.
– Чего ты хочешь? – осторожно спросил Хуан.
– Мистер Чикой, мы не могли бы договориться… вы не могли бы, ну… больше не звать меня Прыщом?
Хуан отнял ключ от гайки и повернул голову. Оба лежали на спине, лицом друг к другу. Хуан видел воронки от старых прыщей, набухающие бугорки и один в соку, тугой, с желтой головкой, готовый лопнуть. Хуан смотрел, и взгляд его смягчался. Он сообразил. До него вдруг дошло – и он удивился, что только сейчас, а не раньше.
– Как тебя звать? – грубо спросил он.
– Эд, – ответил Прыщ. – Эд Карсон, я дальний родственник Кита Карсона. Пока этими не пошел, меня в школе звали Китом. – Голос был намеренно ровный, но грудь его тяжело подымалась, и он сопел носом.
Хуан отвернулся и снова взглянул на массивный шар дифференциала.
– Ладно, – сказал он, – давай ставить домкраты. – Он выехал из-под автобуса. – Сперва накачай туда масло.
Прыщ быстро ушел в гараж и вернулся со шприцем, таща за собой воздушный шланг. Он повернул кран, и воздух с шипением вошел в шприц со смазкой. Шприц попукивал, нагоняя в картер смазку, пока она не полезла наружу. Прыщ ввернул пробку.
Хуан сказал:
– Кит, вытри руки и погляди, как там у Алисы кофе, ладно?
Прыщ пошел к закусочной. Перед дверью, под большим дубом было еще почти черно. Он постоял там, задержав дыхание. Его трясло как в ознобе.