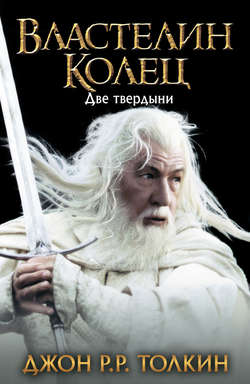Читать книгу Две твердыни - Джон Толкин - Страница 5
Книга 3
Глава IV
Древень
ОглавлениеМежду тем хоббиты поспешно и бестолково пробирались напрямик темной лесной чащобой близ тихоструйной речки к западным горным склонам, все дальше и дальше уходя в глухую глубину Фангорна. Становилось не так страшно, и спешить вроде было уже незачем. Однако же задышка не проходила, а усиливалась, точно не хватало воздуха или воздух сделался таким, что его не хватало.
В конце концов Мерри потерял всякую прыть.
– Все, больше сил нет, – выговорил он непослушным ртом. – Глоток бы воздуха!
– Глотнем хотя бы воды, – сказал Пин. – А то у меня глотка совсем пересохла.
Он спустился к воде по извилистому толстому корню, присел и зачерпнул пригоршню. Вода струилась чистая и студеная, он никак не мог нахлебаться. Мерри рядом с ним – тоже. Питье освежило их, и на сердце полегчало; они посидели на берегу, омывая речной водой измученные ноги и поглядывая на молчаливые деревья, ряд за рядом возвышавшиеся над ними, тонувшие в сером сумраке.
– Заблудиться-то пока не успел? – спросил Пин, прислонившись спиной к могучему стволу. – А то смотри, пойдем обратно по течению и выйдем, где вошли.
– Оно бы можно, – сказал Мерри, – да на ноги плоха надежда, а тут еще и дышать нечем.
– Да, тускловато здесь и малость затхловато, – подтвердил Пин. – Мне, знаешь, припоминаются заброшенные палаты Старинной норы Кролов – ну, в смиалах. Дворец дворцом, запущенный только, мебель там отродясь не двигали, как стояла, так и стоит. Говорят, будто жил там сам Старый Крол, жил и жил, дряхлел вместе с палатами, а потом умер – и никто туда ни ногой вот уже лет сто. Старик мне доводится прапрадедушкой; дела, сам понимаешь, давние. Но с этим лесом сравнить – так вчера это было! Ты только посмотри на лишайник: всюду вырос, все оплел, висит-качается, точно бородой трясет. Деревья тоже, глянь, в сухой листве: листопадов для них словно и не бывало! Не прибрано, в общем. Вот уж не знаю, какая здесь может быть весна, а тем более весенняя уборка.
– Однако же солнце сюда порой заглядывает, – заметил Мерри. – Помнишь, Бильбо расписывал Лихолесье – так здесь вовсе совсем даже не то. Там все черно и гадко, там всякая мразь ютится. А здесь тускло, глухо и одни деревья. Зверья никакого нет, зверье здесь жить не станет, им здесь не житье.
– И хоббитам не житье, – согласился Пин. – Взять хоть меня, – мне и идти через Фангорн ох как неохота. Идти миль сто, а есть нечего. Запас у нас как, имеется?
– Имеется, только пустяковый, – сказал Мерри. – Побежали-то мы как дураки, с пачкой-другой путлибов в карманах. Остальной припас в лодках остался.
Они проверили, сколько у них было эльфийских галет: крошево, дней на пять, да и то впроголодь.
– И ни тебе одеяльца, – вздохнул Мерри. – Ох и озябнем мы нынче ночью, куда бы нас ни понесло.
– Впору подумать, куда нас понесет, – заявил Пин. – Утро уж, поди, разгорается.
Лес впереди вдруг просиял золотистым светом: где-то, должно быть, лучи просквозили древесный шатер.
– Ишь ты! – сказал Мерри. – Пока мы тут с тобой торчали, солнце, наверно, пряталось за облаком, а теперь вот выглянуло. А может, взошло так высоко, что ему листва и ветки не помеха. Вот оно где сквозит – пойдем-ка поглядим!
Неблизко оно сквозило, пришлось попотеть: склон стал чуть ли не круче прежнего и уж куда каменистей. А свет разливался, и вскоре навис над ними скалистый откос: то ли обрез холма, то ли скос длинного отрога дальних гор. Он был голый – ни деревца, – и солнце вовсю искрилось на каменном сломе. Лес у подножия распростер ветви, точно согреваясь. Только что все казалось серым и тусклым, а тут проблеснуло густо-коричневое, и чернопятнистые стволы засверкали, залоснились, словно зверьи шкуры. Понизу они отливали зеленью под цвет юной травы: ранняя весна, не во сне ли увиденная, оставила им свой блеск.
Откос, однако, был вроде лестницы, грубой и неровной, образовавшейся, должно быть, по милости погоды, услужливо выветривавшей камень. Высоко-высоко, почти вровень с древесными вершинами, тянулся широкий уступ, по краям обросший жесткими травами, а на нем стояло одинокое дерево – обрубок с двумя склоненными ветвями, ни дать ни взять какой-то корявый человечище: выбрался и стоит, греется на солнышке.
– А ну-ка, наверх! – воскликнул Мерри. – Глотнем воздуху, а заодно и оглядимся!
Оскользаясь, карабкались они по скалистому склону. Если и правда здесь проложили лестницу, то уж точно не для них: чьи-то ноги были побольше и шагали пошире. Они очень спешили и поэтому не заметили, что их раны и порезы, ссадины и ушибы сами собой зажили и сил против прежнего прибавилось. Наконец они добрались до уступа возле того самого высокого обрубка; вскочили и обернулись спиной к взгорью, передохнули немного и поглядели на восток. Стало видно, что они прошли по лесу всего лишь три или четыре мили: судя по верхушкам деревьев, никак не больше. От опушки вздымался черный дым, крутясь и стремясь вслед за ними.
– Переменился ветер, – сказал Мерри. – Снова дует с востока. Холодно здесь.
– Да, холодно, – сказал Пин. – И вообще: вот погаснет солнце, и все снова станет серое-серое. Жалость какая! Лес прямо засверкал под солнцем в своих ветхих обносках. Мне уж даже показалось, что он мне нравится.
– Даже показалось, что Лес ему нравится, ах ты, скажите на милость! – произнес чей-то неведомый голос. – Ну-ка, ну-ка, обернитесь, дайте я на вас спереди посмотрю, а то вот вы мне прямо-таки совсем не нравитесь, сейчас не торопясь порассудим да смекнем, как с вами быть. Давайте, давайте обернемся-ка!
На плечи хоббитам легли долгопалые корявые ручищи, бережно и властно повернули их кругом и подняли к глазам четырнадцатифутового человека, если не тролля. Длинная его голова плотно вросла в кряжистый торс. То ли его серо-зеленое облачение было под цвет древесной коры, то ли это кора и была – трудно сказать, однако на руках ни складок, ни морщин, гладкая коричневая кожа. На ногах по семь пальцев. А лицо необыкновеннейшее, в длинной окладистой бороде, у подбородка чуть не ветвившейся, книзу мохнатой и пышной.
Но поначалу хоббиты приметили одни лишь глаза, оглядывавшие их медленно, степенно и очень проницательно. Огромные глаза, карие с прозеленью. Пин потом часто пытался припомнить их въяве: «Вроде как заглянул в бездонный колодезь, переполненный памятью несчетных веков и долгим, медленным, спокойным раздумьем, а поверху искристый блеск, будто солнце золотит густую листву или мелкую рябь глубокого озера. Ну вот как бы сказать, точно земля проросла древесным порожденьем, и оно до поры дремало или мыслило сверху донизу, не упуская из виду ни корешочка, ни лепестка, и вдруг пробудилось и осматривает тебя так же тихо и неспешно, как издревле растило самого себя».
– Хррум, хуум, – прогудел голос, густой и низкий, словно контрабас. – Чудные, чудные дела! Торопиться не будем, спешка нам ни к чему. Но если бы я вас увидел прежде, чем услышал – а голосочки у вас ничего, милые голосочки, что-то мне даже как будто напоминают из незапамятных времен, – я бы вас попросту раздавил, подумал бы, что вы из мелких орков, а уж потом бы, наверно, огорчался. Да-а, чудные, чудные вы малыши. Прямо скажу, корни-веточки, очень вы чудные.
По-прежнему изумленный Пин бояться вдруг перестал. Любопытно было глядеть в эти глаза, но вовсе не страшно.
– А можно спросить, – сказал он, – а кто ты такой и как тебя зовут?
Глубокие глаза словно заволокло, они проблеснули хитроватой искринкой.
– Хррум, ну и ну, – пробасил голос, – так тебе сразу и скажи, кто я. Ладно уж, я – онт, так меня называют. Так вот и называют – онт. По-вашему если говорить, то даже не онт, а Главный Онт. У одних мое имя – Фангорн, у других – Древень. Пусть будет Древень.
– Онт? – удивился Мерри. – А что это значит? Сам ты как себя называешь? Как твое настоящее имя?
– У-у-у, ишь вы чего захотели! – насмешливо прогудел Древень. – Много знать будете – скоро состаритесь. Нет уж, с этим не надо спешить. И погодите спрашивать – спрашиваю-то я. Вы ко мне забрели, не я к вам. Вы кто такие? Прямо сказать, ума не приложу, не упомню вас в том древнем перечне, который заучил наизусть молодым. Но это было давным-давно, может статься, с тех пор и новый перечень составили. Погодите-ка! Погодите! Как бишь там, а?
Слух преклони к изначальному Перечню Сущих!
Прежде поименуем четыре свободных народа:
Эльфы, дети эфира, встречали зарю мирозданья;
Горные гномы затем очнулись в гранитных пещерах;
Онты-опекуны явились к древесным отарам;
Люди, лошадники смелые, смертный удел обрели.
Хм, хм, хм-м-м…
Бобр – бодрый строитель, баран быстроног и брыклив,
Вепрь – свирепый воитель, медведь – сластена-мохнач,
Волк вечно с голоду воет, заяц-затейник пуглив…
Хм, хм-м-м…
Орлы – обитатели высей, буйволы бродят в лугах,
Ворон – ведун чернокрылый, олень осенен венцом,
Лебедь, как лилия, бел, и, как лед, холоден змей…
Н-да, хм-хм, хм-хм-хм, как же там дальше? Там-тарарам-татам и татам-тарарам-там-там. Не важно, как дальше, вас все равно там нет, хотя список и длинный.
– Вот так и всегда нас выбрасывали из списков и выкидывали из древних легенд, – пожаловался Мерри. – А мы ведь не первый день живем на белом свете. Мы – хоббиты.
– Да просто надо вставить! – предложил Пин.
Хоббит хоть невелик, но хозяин хорошей норы —
ну, в этом роде. Рядом с первой четверкой, возле людей, Громадин то есть, – и дело с концом.
– Хм! А что, неплохо придумано, совсем неплохо! – одобрил Древень. – Пожалуй, так и будем соображать. Вы, значит, в норках живете? Хорошее, хорошее дело. М-да, а кто же это вас называет хоббитами? Звучит, знаете ли, не по-эльфийски, а все старинные имена придумали эльфы: с них и началось такое обыкновение.
– Никто нас хоббитами не называет, мы сами так себя зовем, – сказал Пин.
– У-гу-гу, а-га-га! Ну и ну! Вот заторопились! Вы себя сами так называете? Ну и держали бы это про себя, а то что же – вот так бряк первому встречному. Эдак вы невзначай и свои имена назовете.
– А чего тут скрывать? – засмеялся Мерри. – Если уж на то пошло, так меня зовут Брендизайк, Мериадок Брендизайк, хотя вообще-то называют меня просто Мерри.
– А я – Крол, Перегрин Крол, и зовут меня Пин, короче уж просто некуда.
– Эге-ге, да вы и впрямь, как я погляжу, сущие торопыги, – заметил Древень. – Что вы мне доверяете, за это спасибо, но вы бы лучше поосторожнее. Разные, знаете, бывают онты; а вернее сказать, онты онтам рознь, со всеми всякое бывает, иные, может, вовсе и не онты, хотя, по правде сказать, похожи, да, очень похожи. Я буду, если позволите, звать вас Мерри и Пин – хорошие имена. Но свое-то имя я пока что вам не скажу – до поры до времени незачем. – И зеленый проблеск насмешки или всеведения мелькнул в его глазах. – Начать с того, что и говорить-то долговато: имя мое росло с каждым днем, а я прожил многие тысячи лет, и длинный получился бы рассказ. На моем языке, по-вашему, ну скажем, древнеонтском, подлинные имена рассказывают, долго-долго. Очень хороший, прекрасный язык, однако разговаривать на нем трудно, и долго надобно разговаривать, если стоит поговорить и послушать.
Ну а если нет, – тут его глаза блеснули здешним блеском и как бы немножко сузились, проницая, – тогда скажите по-вашему, что у вас нынче творится? И вы тут при чем? Мне отсюда кое-что и видно, и слышно (бывает, и унюхаешь тоже) – ну отсюда, с этой, как ее, с этой, прямо скажу, а-лалла-лалла-румба-каманда-линд-ор-буруме. Уж не взыщите: это малая часть нашего названья, а я позабыл, как ее называют на других языках, – словом, где мы сейчас, где я стою погожими утрами, думаю, как греет солнце, как растет трава вокруг леса, про лошадей думаю, про облака и про то, как происходит жизнь. Ну так как же? При чем тут Гэндальф? Или эти – бурарум, – точно лопнула контрабасная струна, – эти орки, что ли, и молодой Саруман в Изенгарде? Новости я люблю. Только без всякой спешки.
– Большие дела творятся, – сказал Мерри. – И как ни крути, а долгонько придется нам тебе о них докладывать. Ты вот нас просишь не спешить – так что, может, и правда спешить не будем? Не сочти за грубость, только надо бы тебя сперва спросить, как думаешь с нами обойтись, на чьей ты вообще-то стороне? Ты что, знаешь Гэндальфа?
– А как же, знаю, конечно: вот это маг так маг – один, который по-настоящему о деревьях заботится. А вы его тоже знаете?
– Очень даже знали, – печально выговорил Пин. – Он и друг наш был, и вожатый.
– Тогда отвечу и на другие ваши вопросы, – сказал Древень. – «Обходиться» я с вами никак не собираюсь: обижать вас, что ли? Нет, зачем же. Может, у нас вместе с вами что-нибудь да получится. А насчет «сторон», простите, даже и в толк не возьму. У меня своя, ничья сторона: хорошо, коли нам с вами окажется по дороге. Да, а про Гэндальфа вы почему так говорили, будто его уж и в живых нет?
– Нет его в живых, – угрюмо сказал Пин. – Вроде бы и надо жить дальше, а Гэндальфа с нами уж нет.
– Ого-го, ничего себе, – сказал Древень. – Хум, хм, вот тебе и на´. – Он примолк и поглядел на хоббитов. – Н-да, ну извините, не знаю, что и сказать. Дела, дела!
– Захочешь подробнее, мы тебе и подробнее расскажем, – пообещал Мерри. – Только это много времени займет. Ты опусти-ка нас на землю, а? Посидим, погреемся на солнышке, пока оно не спряталось. Устал, поди, держать-то нас.
– Хм, устал, говоришь? Нет, я не устал. Со мной такого почти что не бывает. И сидеть я не охотник. Я, как бы сказать, сгибаться не люблю. Но солнце и правда норовит спрятаться. Давайте-ка уйдем с этой – как вы ее называете?
– С горы, что ли? – предположил Пин.
– С уступа, с лестницы? – не отстал Мерри.
Древень медленно и задумчиво взвесил предложенные слова.
– Ну да, с горы. Вот-вот. Слово-то какое коротенькое, а она ведь здесь стоит спокон веков. Ну ладно, ежели вам так понятней. Тогда пошли, уйдем отсюда.
– Куда уйдем-то? – спросил Мерри.
– Ко мне домой, домов у меня хватает, – отвечал Древень.
– А далеко это?
– Вот уж не знаю. По-вашему, может, и далеко. А какая разница?
– Видишь ли, мы ведь чуть не нагишом остались, – извинился Мерри. – Еды, и той почти что нет.
– А! Хм! Ну, это пустяки, – сказал Древень. – Я вас так накормлю-напою, что вам только расти да зеленеть. А если наши пути разойдутся, я вас доставлю куда захотите, на любую свою окраину. Пошли, пошли!
Бережно и плотно примостив хоббитов на предплечьях, Древень переступил огромными ногами и оказался у края уступа. Пальцы ног его впивались в камень, точно корни. Осторожно и чинно прошел он по ступеням и углубился в лес.
Широкими, ровными шагами шествовал он напрямик сквозь чащу, не отдаляясь от реки, все выше по лесистому склону. Из деревьев многие словно дремали, не замечая его: ступай, мол, своей дорогой; но были и такие, что с радостным трепетом вздымали перед ним ветви. Он шел и разговаривал сам с собой, и долгий, мелодичный поток странных звуков струился и струился мимо ушей.
Хоббиты помалкивали. Им почему-то казалось, что пока все более или менее в порядке, и надо поразмыслить, прикинуть на будущее. Пин наконец решился и заговорил.
– Древень, а Древень, – сказал он, – можно немного поспрашивать? Вот почему Келеборн не велел к тебе в Лес соваться? Он сказал нам, мол, берегитесь, а то мало ли.
– Н-да-а, вот что он вам сказал? – прогудел Древень. – Ну и я бы вам то же самое сказал, иди вы от нас обратно. Да, сказал бы я, вы поменьше плутайте, а главное – держитесь подальше от кущей Лаурелиндоренана! Так его встарь называли эльфы; нынче-то называют короче, Кветлориэн нынче они его называют. Так-то вот: звался Золотозвончатой Долиной, а теперь всего лишь Дремоцвет, если примерно по-вашему. И недаром, должно быть: ихнему бы краю цвести да разрастаться, а он, гляди-ка, чахнет, он все меньше и меньше. Ну, словом, неверные те места, и не след туда забредать, вовсе даже незачем, ни вам, ни кому другому. Вы оттуда выбрались, а зачем туда забрались, пока не знаю, и такого что-то ни с кем, сколько помню, не бывало. Да, неверный край.
Наши места тоже, конечно, хороши. Худые здесь случались дела со странниками, ох, худые, иначе не скажешь. М-да, от нас не выберешься: Лаурелиндоренан линдолорендор малинорнелион орнемалин, – как бы нехотя произнес он. – За Кветлориэном они, похоже, уж и света белого не видят. Келеборн застрял в своей юности, а с тех пор что у нас, что вообще за опушками Златолесья много чего переменилось. Но все же верно, что Таурелиломеа-тумбалеморна Тумбалетауреа Ломеанор, это да, это как и прежде. Да-да, многое переменилось, однако же это по-прежнему, хоть и не везде.
– Ты это о чем? – спросил его Пин. – Что не везде?
– Деревья с онтами, онты и деревья, – ответствовал Древень. – Сам-то я не очень понимаю, что происходит, и не смогу, наверно, толком объяснить. Однако попробую: вот некоторые из нас как были онты, так и есть, и живут по-положенному; а другие призаснули, вроде бы одеревенели, что ли. Деревья – наоборот, они все больше деревья как деревья, а некоторые, и очень таких многовато, пробуждаются. Иные даже и совсем пробудились: из этих кое-какие ни дать ни взять онты, хотя куда им до онтов. Да, дела, что ни говори.
Вот тебе дерево: растет-зеленеет как ни в чем не бывало, а сердцевина-то у него гнилая. Древесина – нет, древесина добротная, я не о том. Да взять те же древние ивы у нижнего тока Онтавы: их уж нет теперь, только в моей памяти навечно остались. Совсем они прогнили изнутри, держались еле-еле, а были тихие и простые, мягкие и легкие, что твой весенний листочек. И есть, наоборот, деревья в предгорьях – ядреные, как орех, а на поверку – дрянь дрянью. Сущая это зараза. Нет, правда, пожалуй что, очень опасно к нам зазря забредать. Есть у нас черные, угрюмые лощины, как были, так и есть.
– Вроде как там на севере, в Вековечном Лесу? – робко осведомился Мерри.
– Ну да, ну да, вроде как там, только гораздо хуже, чернее. Оно конечно, Великая Тьма и там, на севере, обрушилась, и там у вас тоже дурной памяти хватает. Только у нас кое-где Тьма изначально как лежала, так и лежит, а деревья-то иной раз постарше меня. Ну, мы, конечно, делаем, что можем. Отгоняем чужаков, не подпускаем кого не надо, учим и умудряем, выхаживаем и ухаживаем.
Мы, онты, издревле назначены древопасами. Теперь нас маловато осталось. Говорят, пастух и овца преподобны с лица, но и это вовсе не сразу, а жизнь им отмерена короткая. Зато онты с деревьями – живое подобие друг друга: века они обвыкают рядом. Ведь онты, они вроде эльфов: сами себе не слишком-то и любопытны, не то что люди, и уж куда лучше людей умеют вникать в чужие дела. И однако же люди нам, может, и больше сродни: мы, как бы сказать, переменчивей эльфов, видим снаружи, не только изнутри. Вообще-то что эльфы, что люди нам не чета: онты тверже ходят и дальше смотрят.
Кое-кто из моей близкой родни совсем уж одеревенел, им хоть в ухо труби, а сами только шепотом и разговаривают. Но есть и деревья, которые разогнулись, и с ними у нас идет разговор. Разговор, конечно, эльфы завели: они, бывало, будили деревья, учили их своему языку и учились по-ихнему. Древние эльфы, они были такие, им лишь бы разговоры выдумывать – ну со всеми обо всем говорили. А потом пала Великая Тьма, и они уплыли за Море или обрели приют в дальних краях, там сложили свои песни о веках невозвратных. Да, о невозвратных веках. В те давние времена отсюда до Лунных гор тянулся сплошной лес, а это была всего лишь его восточная опушка.
То-то было времечко! Я распевал и расхаживал день за днем напролет, гулким эхом вторили моему пению лесистые долы. Тогдашний лес походил на Кветлориэн, однако ж был гуще, мощнее, юнее. А какой духовитый был воздух! Я, помню, стоял неделями и надышаться не мог.
Древень примолк, вышагивая размашисто и бесшумно, потом снова забормотал, бормотание стало напевом, в нем зазвучали слова, и хоббиты наконец расслышали обращенное к ним песнопение:
У ивняков Тасаринена бродил я весенней порой.
О пряная свежесть весны, захлестнувшей Нантасарион!
И было мне хорошо.
К вязам Оссирианда на лето я уходил.
О светлый простор Семиречья, о звонкоголосица вод!
И радостней мне не бывало.
А осенью я гостил в березняках Нелдорета.
О Таур-на-Нелдор в осеннем, златобагряном уборе!
Я не видел прекрасней тебя.
На взгорьях Дортониона я встречал холода.
О ветер, о белоснежье, о зимний Ород-на-Тхон!
И я возвысил голос и восславил творенье.
А теперь эти древние земли сокрылись на дне морском,
Остались мне Амбарон, Тауреморне и Аладоломэ,
Брожу по своим краям и обхожу свой Фангорн,
Где корни впились глубоко-глубоко,
Где годы слежались, как груды палой листвы,
У меня, в Тауреморналомэ.
Отзвучали медленные слова; Древень шествовал молча, а кругом стояла непроницаемая тишь.
День померк, и дымкой окутывались деревья у корней. В вышине возникли из полусвета и надвинулись темные взлобья: они подошли к южной оконечности Мглистых гор, к зеленым подножиям великана Метхедраса. От высокогорных истоков неслась по уступам и прыгала с круч шумливая, резвая Онтава. По правую руку тянулся отлогий, сумеречно-серый травянистый склон. Ни деревца на нем, сливавшемся с облачными небесами; уже мерцали из бездонных промоин ранние звезды.
Древень пошел вверх по склону, почти не сбавляя шага. Внезапно, хоббитам на изумление, гора расступилась. Два высоких дерева явились по сторонам прохода, точно неподвижные привратники, но никаких ворот не было, вход преграждали лишь переплетенные ветви. Перед старым онтом ветви разомкнулись и поднялись, приветственно всплеснув листвою, темной, крупной, вечнозеленой; она лоснилась в тусклом сумраке. Открылась широкая травяная гладь – пол горного чертога с наклонными стенами-скалами высотою до полусотни футов; вдоль стен, крона за кроной, выстроились густолиственные стражи.
Дальней стеной чертога служила отвесная скала, прорезанная сквозной аркой – входом в сводчатый внутренний покой; остальной чертог от небосвода заслоняли одни воздетые ветви, и деревья так столпились возле арки, что видна была только широкая входная тропа. От реки оторвался ручеек и, угодив на отвесную скалу над аркой, расструился, затенькал, сделался серебристой занавесью. Внизу вода стекалась в каменный водоем, осененный деревьями, и, переполняя его, бежала к откосу, а там опять становилась ручьем, и мчалась вниз, и догоняла Онтаву в лесистых предгорьях.
– Кгм! Ну вот и пришли! – промолвил Древень, прерывая долгое молчание. – Отмерили мы с вами тысяч эдак семьдесят моих, онтских шагов, а сколько это будет вашим счетом, того не ведаю. Словом сказать, мы у гранитных корневищ Последней горы. Как это место называется? Ну, если маленький кусочек его названия перевести на ваш язык, то оно, пожалуй что, называется Ключищи. Я здесь люблю бывать. Здесь и переночуем.
Он опустил хоббитов на травяной ковер, и они побежали вслед за ним к дальней арке. Снизу им стало видно, как он шагает, почти не сгибая колен, впиваясь в землю широкими пальцами, а потом уж опускаясь на всю ступню.
Древень постоял под струистой завесой, глубоко-глубоко вздохнул, рассмеялся и вошел в покой. Там стоял большой каменный стол, но никаких сидений возле него не было. Из углов ползла темнота. Древень поставил на стол две каменные чаши, должно быть с водой, повел над ними ладонями, и одна засветилась золотым, другая – темно-зеленым светом. Покой озарился, по стенам и своду забегали зелено-золотые блики, точно лучистое летнее солнце пронизывало молодую листву. Хоббиты огляделись и увидели, что стали светиться деревья во всем чертоге, сначала чуть-чуть, а потом все ярче, и наконец всякий лист оделся ореолом – зеленым, золотым, медно-красным, а стволы казались колоннами, изваянными из прозрачного камня.
– Ладно, теперь и поговорим, – сказал Древень. – Только вам ведь, наверно, пить хочется. А может, вы, чего доброго, и устали. Ничего, сейчас освежитесь!
Он отошел в угол, в цветной полумрак: там обнаружились высокие корчаги с массивными крышками. Древень поднял и отложил крышку, запустил в корчагу черпак и наполнил три кубка, один огромный и два маленьких.
– В домах у онтов, – сказал он, – сидений не бывает. Так что вы давайте садитесь пока что на стол.
Он разом поднял обоих хоббитов и посадил их на гранитную плиту футах в шести над землей; они сидели, болтали ногами и прихлебывали из кубков.
В кубках была вода, на вкус вроде такая же, как из Онтавы близ опушки, но был в ней другой, какой-то несказанный привкус и запах, точно вдруг повеял свежий ночной ветерок и пахнуло дальним лесом. От пальцев ног свежая, бодрящая струя разлилась по всему телу, аж до корней волос. Да и волосы взаправду шевельнулись, стали расти, виться, курчавиться. А Древень пошел за арку к водоему и подержал ноги в воде, потом вернулся, взял наконец свой кубок и опорожнил его одним долгим, прямо-таки нескончаемым глотком.
И поставил на стол пустой кубок.
– У-ух, а-ах, – выдохнул он. – Гм, кгм, мда-а, поговорим. Слезайте, садитесь на пол, а я прилягу, чтоб мне питье-то в голову не бросилось, не заснуть бы.
У правой стены была большая кровать фута два вышиной, застланная сеном и хворостом. Древень медленно опустился на нее, чуть-чуть прогнувшись посредине, и улегся в свое удовольствие, заложив руки за голову и глядя в потолок, на цветные зайчики. Мерри с Пином пристроились возле него на пышных копнах.
– Давайте рассказывайте, только без спешки! – приказал Древень.
И хоббиты принялись рассказывать с самого начала, с тех самых пор, как они покинули Норгорд. В рассказе их не было порядка, они все время перебивали друг друга, да и Древень то и дело останавливал рассказчика вопросами о том, что было раньше и что случилось после. Про Кольцо они ни слова не сказали, не сказали и о том, зачем они пустились в путь и куда направлялись.
А он ужас как любопытствовал обо всем: выспрашивал и про Черных Всадников, и про Элронда, и про Раздол, про Вековечный Лес, Тома Бомбадила, копи Мории, про Кветлориэн и про Владычицу Галадриэль. Хоббитанию, Норгорд и вообще свои места им пришлось описать не один раз. Древень слушал-слушал, а потом вдруг спросил:
– Вы там у себя не видели, кгм, онтов, нет? Онтов-то нет, я не о том, онтицы вам не встречались?
– Онтицы? – удивился Пин. – Они какие, вроде тебя?
– Ну да, вроде меня, хотя, кгм, нет, не вроде. Пожалуй что, уж и не помню, какие они, – задумчиво проговорил Древень. – Но им бы ваши края понравились, я потому и спросил.
Особенно же он любопытствовал насчет Гэндальфа и еще того пуще – про Сарумана и про все его дела. Хоббиты переглядывались и огорчались, что так мало об этом знают: только со слов Сэма, что говорилось на Большом Совете, что Гэндальф сказал. Одно они знали точно: Углук со всей его сворой – изенгардцы, и хозяин их – Саруман.
– Гм, кгм! – сказал Древень, когда их рассказ кое-как подошел к концу и они наперебой повествовали о битве орков с ристанийскими конниками. – Н-да, нечего сказать, целая груда у вас новостей. Рассказали вы мне, конечно, не все, чего там, очень много пропустили, это сразу видно, н-да. Ну, Гэндальф вам, наверно, так бы и велел. У вас там, видать, большие дела творятся, большие, н-да, а что за дела, узнается в свое время, лишь бы не позже. Ах ты, корни-веточки, вот ведь штука: откуда ни возьмись, явился народец, даже и в перечень не занесенный, и вот поди ж ты! Про Девятерых все давно уж и позабыли, кто они такие, а они объявились и гонятся за малышами; Гэндальф зачем-то берет малышей с собой в дальний путь, Галадриэль дает им приют в Карас-Галадхэне, орки гоняются за ними по голой степи – н-да, попали детки в большую переделку. Теперь только держись!
– А ты-то с кем? – рискнул спросить Мерри.
– Кгм, гм, мне дела нет до ваших Великих Войн, – отвечал Древень. – Пусть их люди с эльфами разбираются, как умеют. Туда же и маги: чародействуют, хлопочут, о будущем пекутся. Меня будущее не касается. И я – ни с кем, со мной-то ведь, соображайте, никого нет, верно? Моя забота – Лес, а нынче кто о Лесе заботится? Бывало, эльфы заботились, да эльфы давно уж не те. Все же если с кем бы то ни было, так, пожалуй, с эльфами: они ведь нас когда-то излечили от немоты, а такое не забывается, хоть и выпали нам разные пути. Н-да, и уж само собой, не по пути мне со всякой мразью вроде этих, эти-то враги всегдашние («бурарум», – сердито пророкотал он на своем языке), – орки-то эти, и их хозяева тоже.
Когда они захватили Лихолесье, я встревожился, а потом они убрались в Мордор, и я думать о них забыл. Мордор – вон он где, далеко Мордор. Конечно, ежели повеет страшным ветром с востока, то и от лесов ничего не останется. Что тут делать старому онту? Погибай, либо уж как-нибудь.
Однако же вот Саруман! Саруман – наш сосед. Это так оставить нельзя. Надо, наверно, что-то делать. Я уж и то все время думал: как быть с Саруманом?
– А Саруман, он – кто? – спросил Пин. – Ты про него-то много ли знаешь?
– Саруман, он – маг, – объяснил Древень. – Маг, да и все тут. Мало я про них знаю, про магов. Маги эти объявились, когда из-за Моря приплыли большие корабли: может, на кораблях они к нам приехали, а может, и нет, дело неясное. Саруман, помнится, был у них в большом почете. Поначалу он все разгуливал там да сям и совался не в свои дела, в людские и в эльфийские, а потом перестал соваться – давным-давно перестал, вам и не объяснить когда, – и облюбовал крепость Ангреност, по-ристанийски Изенгард. Держал себя тише тихого, а прославился на все Средиземье. Его, говорят, выбрали главою Светлого Совета, ну и, наверно, зря выбрали. Я уж теперь думаю, не тогда ли он стал склоняться ко злу. Однако соседей он до поры до времени никак не задевал. Любил со мной потолковать, по нашим местам гуляючи. Он прежде был учтивый, на все у меня позволения спрашивал, ежели мы встречались, и слушал в оба уха. Много я ему тогда порассказал такого, что сам бы он в жизни не выведал; а он держал язык на привязи. Ни разу не разговорился. Дальше – больше: и глаза-то его, как мне помнится (а давненько же я его не видел), стали ни дать ни взять окна в каменной стене, да-да, занавешенные окна.
Теперь-то мне, пожалуй, и понятно, чего ему надо. Власти ему надо, всемогущества. В голове у него одни колесики да винтики, а живое – глядишь, на что и сгодится, а нет – пропадай. Понятно, понятно; предатель он, не иначе. Это ж надо, с орками связался, всякая дрянь у него под началом. Бр-р-р, кгм! Да нет, еще того хуже, он и с ними как-то там чародействует, черные дела творит. Изенгардцы по вашим рассказам выходят не просто орки, а злодеи на людскую стать. Злыдням и нежити, отродью Великой Тьмы, дневной свет невмоготу; а Сарумановы новоявленные орки хоть и злобствуют, да терпят. Что же это такое он там намудрил? Людей, что ли, испортил или орков обчеловечил? Хуже мерзости не придумаешь!
Древень бурчал и рокотал, точно про себя предавал Сарумана неизбывному, земляному, онтскому проклятию.
– То-то я в толк не возьму, с чего это орки так осмелели и средь бела дня шляются у меня по Лесу. Давеча только я додумался, что виною тут Саруман: он давным-давно разведал все лесные тропинки, а я, дурак, раскрывал ему здешние тайны. Вот он теперь и хозяйничает со своими сворами. Деревьев на опушках порубили видимо-невидимо – а хорошие были деревья. Много оставлено бревен – пусть, мол, гниют сорокам на радость, а еще больше оттащили в Изенгард, на растопку тамошних печей. Нынче Изенгард все время дымится.
Да чтоб ему сгинуть от корня до последней веточки! Я с этими порубленными деревьями дружил, я их многих помнил с малого росточка, и голоса их помню, а теперь их нет, как и не было. Где была звонкая чаща, там торчат пни и стелется кустарник. Нет, я, видать, проморгал. Запустил я свои дела. Хватит!
Древень рывком встал с постели, распрямился и ударил кулаком по столу. Огненные чаши вздрогнули и выплеснули цветное пламя. Глаза его тоже сверкнули зеленым огнем, и борода вздыбилась пышной метлою.
– Нет уж, хватит! – загудел он. – И вы со мной пойдете. Глядишь, чем и поможете. Не мне, а своим друзьям: им-то, в Ристании и Гондоре, каково, ежели враг и спереди, и с тыла. Пока пойдем вместе – на Изенгард!
– Да, мы пойдем с тобой, – согласился Мерри. – И попробуем быть тебе не в тягость.
– Непременно пойдем! – подхватил Пин. – И с ихней Белой Дланью обязательно разделаемся. На что другое, а на это я погляжу, пусть от меня и не будет толку. Углука я не забуду, и как мы бежали – тоже.
– Вот и ладно, и не забывай! – сказал Древень. – Но слова мои были поспешные, а торопиться не надо. Разгорячился я. Надо успокоиться и подумать, а то ведь легко сказать «хватит»! Кому хватит, а кому и нет. Разберемся!
Он пошел под арку и постоял под струйчатой занавесью. Потом рассмеялся и встряхнулся, разбрызгивая зеленые и алые капли. Подумал, возвратился, лег на постель и лежал молча.
Вскоре хоббиты услышали, как он забормотал. И вроде бы считал на пальцах.
– Фангорн, Финглас, Фладриф, ага, всего-то, – вздохнул он. – Н-да, маловато нас осталось, вот в чем печаль. – И обратился к слушателям: – Только трое осталось из тех, что бродили, пока не обрушилась Великая Тьма, ну да, трое: я, Фангорн, а еще Финглас и Фладриф – это их эльфийские имена; можете называть их Листвень и Вскорень, если вам так больше нравится. И вот из нас-то из троих Листвень и Вскорень уже никуда не годятся. Листвень заспался, совсем, можно сказать, одеревенел: все лето стоит и дремлет, травой оброс по колено. И весь в листьях, лица не видать. Зимой он, бывало, встрепенется, да теперь уж и зимой шелохнуться лень. А Вскорень облюбовал горные склоны к западу от Изенгарда – самые, надо сказать, ненадежные места. Орки его ранили, родичей перебили, от любимых деревьев и пней не осталось. И ушел он наверх, к своим милым березам; теперь там и живет, и оттуда его не выманить. А все ж таки, сдается мне, молодых-то я, может, и наберу – вот только объяснить бы им, чтобы поняли, поддеть бы их как-нибудь, а то ведь мы ох как тяжелы на подъем. Экая жалость, что нам счет чуть ли не по пальцам!
– А почему по пальцам, вы же здесь старожилы? – удивился Пин. – Умерли, что ли, многие?
– Да нет! – сказал Древень. – Как бы это вам сказать: сам по себе никто из нас не умер. Ну, бывали, конечно, несчастья, за столько-то лет, а больше одеревенели. Нас и так-то было немного, а поросли никакой. Онтят не было – ну, детишек, по-вашему, – давным-давно, с незапамятных лет. Онтицы-то ведь у нас сгинули.
– Ой, прости, пожалуйста! – сказал Пин. – Прямо все до одной перемерли?
– Не перемерли они! – чуть не рассердился Древень. – Я же не сказал «перемерли», я сказал «сгинули». Запропастились невесть куда, никак не отыщутся. – Он вздохнул. – Я думал, все об этом знают, сколько песен про это: и эльфы их пели, и люди, от Лихолесья до Гондора, – как онты ищут онтиц. Надо же, совсем уж все позабыли.
– Вовсе мы ничего не забыли, – возразил Мерри. – Просто к нам, в Хоббитанию, песни из-за гор не дошли. Ты вот возьми да расскажи поподробнее, как было дело, а заодно и песню бы спел, какая лучше помнится. Расскажи, а?
– Ладно уж, расскажу и даже, так и быть, спою, – согласился явно польщенный Древень. – Поподробнее-то рассказывать некогда, придется покороче: время позднее, а завтра надо совет держать, заводить большой разговор, да, глядишь, и в путь собираться.
– Чудно об этом вспоминать и грустно рассказывать, – вымолвил он, призадумавшись. – В ту изначальную пору, когда повсюду шумел и шелестел дремучий Лес без конца и края, жили да были онты и онтицы, онтики и онтинки, и тогда, в дни и годы нашей давней-предавней юности, не было краше моей Фимбретили, легконогой Приветочки, – где-то она, ах, да! Да! Так вот, онты и онтицы вместе ходили-расхаживали, вместе ладили жилье. Однако же сердца их бились вразлад: онты полюбили сущее в мире, а онтицы возжелали иного; онтам были в радость высокие сосны, стройные осины, густолесье и горные кручи, пили они родниковую воду, а ели только паданцы. Эльфы стали их наставниками, и на эльфийский лад завели они беседы с деревьями. А у онтиц под опекой были деревья малые, и радовали их залитые солнцем луговины у лесных подножий; лиловый терновник проглядывал в зарослях, брезжил по весне вишневый и яблоневый цвет, летом колыхались пышные заливные луга, и клонились потом осенние травы, рассеивая семена. Беседовать с ними у онтиц нужды не бывало: те лишь бы слышали, что им велят, и делали, что велено. Онтицы-то и велели им расти как надо, плодоносить как следует; им, онтицам, нужен был порядок, покой и изобилие (ну, то есть нужно было, чтобы все делалось по-положенному). И онтицы устроили роскошные сады. А мы, онты, по-прежнему расхаживали да скитались и только иногда, редко навещали ихние сады. Потом Тьма заполонила север, и онтицы ушли за Великую Реку, разбили там новые сады, распахали новые поля, и совсем уж редко мы стали видеться. Тьму одолели, и тогда еще пышнее расцвела земля у наших подруг, и не бывало изобильнее их урожаев. Разноплеменные люди переняли их уменья, и онтицы были у них в большом почете; а мы словно бы исчезли, ушли в полузабытую сказку, стали темной лесной тайной. Однако же мы вот они, а от садов наших онтиц и следа не осталось. Люди называют тамошние места Бурыми Равнинами, Бурятьем.
И вот еще помню, как сейчас, а сколько времени прошло – когда Заморские Рыцари взяли в плен Саурона, очень мне захотелось повидать Фимбретиль. Я ее помнил все такой же красавицей, хотя в последний раз она была вовсе не та, что в былые времена. И немудрено: они ведь трудились не покладая рук, стали сутулыми и смуглыми, волосы у них выцвели под солнцем, а щеки задубели яблочным румянцем. Но все же глаза у них наши – наши, зеленые глаза. Мы пересекли Андуин, мы явились в тамошний край и увидели пустыню, изувеченную промчавшейся войной. И не было там наших онтиц. Мы их звали, мы их долго искали и спрашивали всех, кто нам ни попадался. Одни говорили, что не видали, другие – что видели, как они уходили на запад, на восток, а может, и на юг. Туда и сюда мы ходили: не было их нигде. Очень нам стало горько. Но Лес позвал нас обратно, и мы вернулись в любимое густолесье. Год за годом выходили мы из Леса и звали наших подруг, выкликали их милые, незабвенные имена. А потом выходили все реже, и выходили недалеко. Теперь наших онтиц как и не было, только и остались, что у нас в памяти, и отросли у нас длинные седые бороды. Много песен сложили эльфы про то, как мы искали наших подруг; потом и люди переиначили эльфийские песни. Мы об этом песен не слагали, мы про них помнили и напевали их древние имена. Наверно, мы с ними все-таки встретимся, и, может быть, еще отыщется край, где мы заживем вместе. Однако же предсказано другое, что мы воссоединимся, потерявши все, что есть у нас теперь. Нынче, кажется, к тому и дело идет. Тот Саурон, прежний, выжигал сады, а нынешний Враг, похоже, все леса норовит извести под корень.
Н-да, и вот эльфы давным-давно сложили про все про это одну такую песню. Пели ее всюду по берегам Великой Реки. Эльфийская это песня: мы бы не так пели, наша была бы очень длинная, чересчур даже длинная, пожалуй. Но эту-то, эльфийскую, мы все помним наизусть. По-вашему вот она как будет:
ОНТ. Березы оделись прозрачной листвой и вешним соком полны,
Резвится и блещет лесной поток, прыгая с крутизны,
Шагается вольно, ветер свеж, рокочет эхо в горах —
Скорей, скорей возвращайся ко мне, в веселый весенний край!
ОНТИЦА. Весна залила поля и луга, расплеснулась зеленой волной,
В цвету, как в снегу, блистают сады серебряной белизной,
Брызжет солнце и плещут дожди, чтоб жажду земли утолить.
Зачем же я возвращусь к тебе из своих цветущих долин?
ОНТ. Простерся и млеет летний покой, золотистый, знойный, дневной,
Под лиственным кровом лесные сны бредут чудной чередой,
В прохладных чертогах зеленая тишь, и западный веет ветер —
Приди же ко мне! Возвратись ко мне! Здесь лучше всего на свете!
ОНТИЦА. Вызревают в летнем тепле плоды, и ягоды все смуглей,
Золотые снопы и жемчуг зерна вот-вот повезут с полей,
Наливаются яблоки, соты в меду, и пусть веет западный ветер —
Я к тебе не вернусь ни за что: у меня лучше всего на свете!
ОНТ. Но грянет сумрачная зима, и мертвенной станет тень,
В древесном треске беззвездная ночь поглотит бессолнечный день,
Ветер с востока все омертвит, обрушится черный дождь,
И сам я тогда разыщу тебя, если ты сама не придешь!
ОНТИЦА. Небывалой зимой обомрут поля, кладбищами лягут сады,
Заглохнут песни, и смех отзвучит, и сгинут наши труды.
Тогда былое явится вновь, и мы друг друга найдем
И вместе пойдем в подзакатный край под черным, злобным дождем!
ОБА. Мы вместе пойдем заповедным путем за дальние рубежи,
И нам откроется новый край, и снова заблещет жизнь.
Древень допел и примолк.
– Да, вот такая песня, – сказал он погодя. – Эльфийская, это само собой: траля-ля-ля, словцо за словцом, раз-два, и дело с концом. Однако же неплохо сочинили, ничего не скажешь. Только онтов малость обидели: очень уж коротко они говорят. Н-да, ну ладно, я, пожалуй, постою да посплю. А вы где встанете спать?
– Мы обычно спать не встаем, а ложимся, – сказал Мерри. – Мы бы, если можно, прямо здесь, на ложе, и поспали бы.
– Как то есть ложитесь спать? – удивился Древень. – Ах, ну да, конечно! Гм, кгм, спутался я: пришли мне на память древние времена и показалось, будто я говорю с онтятами, вот ведь как, ишь ты! Что ж, тогда ложитесь и спите. А я постою под ручеечком. Покойной ночи!
Хоббиты пристроились на постели, с головой зарывшись в душистое сено, свежее, мягкое, теплое. Мало-помалу угасли светильники и померкли разноцветные деревья; но все равно было видно, как Древень неподвижно стоит под аркой, закинув руки за голову. Вызвездило, и замерцали струи, тихо стекавшие к его ногам, и тенькали, тенькали, тенькали сотни серебряных звездных капель. Под этот капельный перезвон Мерри с Пином крепко-крепко уснули.
Когда они проснулись, пышнозеленый чертог освещало лучистое утреннее солнце, проникая в укромный покой. Высоко в небесах порывистый восточный ветер рассеивал облачные клочья. Древень куда-то подевался, и Мерри с Пином пока что пошли купаться в бассейне за аркой – и заслышали его гуденье и пенье, а потом и сам он появился на широкой тропе меж деревьев.
– Кгм, кха! Ну, доброе утро, Мерри и Пин, – прогудел он при виде хоббитов. – Вы, однако, поспать горазды! А я уж нынче отшагал шагов под тысячу. Сейчас вот попьем водички и отправимся на Онтомолвище!
Он нацедил им по полному кубку из каменной корчаги, но не из вчерашней, из другой. И вкус у воды был не тот, что вечером: она была гуще и сытнее, вроде и не питье вовсе, а прямо-таки еда. Хоббиты прихлебывали, сидя на краю высокого ложа, и закусывали эльфийскими хлебцами-путлибами (они были вовсе не голодные, но как-никак завтрак, жевать что-то полагается), а Древень стоял дожидался их, напевая то ли на онтском, то ли на эльфийском, то ли еще на каком языке и поглядывая на небо.
– А где оно, ваше Онтомолвище? – отважился наконец спросить Пин.
– Кгм, как? Онтомолвище-то где? – переспросил Древень, обернувшись. – Это не место, Онтомолвище, это собрание онтов, нынче такие собрания созываются очень-очень редко. Ну, сейчас-то многие, н-да, многие мне накрепко обещали быть. А соберемся мы, где и всегда: людское название этому месту – Тайнодол. Отсюда малость на юг. Надо нам подойти туда к полудню, не позже.
Вскоре они тронулись в путь. Древень, как накануне, усадил хоббитов на предплечьях. Выйдя из чертога, он свернул вправо, шутя перешагнул через бурливый ручей и пошел на юг возле безлесных подножий высоких обрывистых склонов. За каменистыми осыпями виднелись березняк и рябинник, а выше – темное густое краснолесье. Потом Древень отошел от предгорий и подался в Лес, где деревья были такие высокие, раскидистые и толстые, каких хоббиты в жизни не видывали. Поначалу их, почти как на опушке Фангорна, прихватило удушье, но очень скоро дыханье наладилось. Древень с ними не заговаривал. Он раздумчиво бухтел себе под нос, и слышалось только «бум-бум, рум-бум, бух-трах, бум-бум, трах-бах, бум-бум, та-ра-рах-бум» или вроде того – то угрюмей, то радостней, то глуше, то гулче. Иногда хоббитам чудился ответный гул, трепет или звук, не то из-под земли, не то над головой, а может быть, гудели стволы; но Древень знай себе вышагивал, не глядя по сторонам.
Пин принялся было считать мерные «онтские шаги», но сбился со счету на третьей тысяче, а тут и Древень пошел чуть помедленнее. Внезапно остановившись, он опустил хоббитов на траву, раструбом приложил ладони ко рту и, словно из гулкого рога, огласил лес протяжным кличем. «Гу-у-гу-у-гу-умм!» – раскатилось окрест, и деревья явственно вторили зову. Потом со всех сторон издалека донеслось: «Гу-у-гу-у-гу-у-гу-у-гумм!» – и это был уже не отзвук, а отклик.
Древень примостил хоббитов на плечи и опять зашагал, время от времени повторяя громогласный призыв. Отклики слышались все ближе. Так они шли да шли – и наконец уперлись в глухую стену вечнозеленых деревьев неведомой хоббитам разновидности: они ветвились от самых корней, густой темноглянцевитой листвой походили на падуб и были усыпаны крупными, налитыми оливковыми бутонами.
Древень свернул налево, и через несколько шагов живая преграда вдруг разомкнулась: утоптанная тропа ныряла в узкий проход и вела вниз по крутому склону в просторную чашеобразную долину, обнесенную поверху вечнозеленой изгородью. На округлой травянистой глади не было ни деревца, лишь посреди долины высились три белоснежные красавицы березы. По откосам сбегали еще две тропы, с запада и с востока.
Одни онты уже пришли, другие шествовали вдали по тропам, третьи вереницей спускались за Древнем. Пин и Мерри озирались и изумлялись: они-то ожидали, что онты все похожи на Древня, как хоббиты друг на друга (если, конечно, глядеть посторонним глазом), а оказалось – ничего подобного. Они были разные, как деревья: как деревья одной породы, но разного возраста и по-разному возросшие; или совсем уж несхожие, как бук и береза, дуб и ель. Были старые онты, бородатые и заскорузлые, точно могучие многовековые деревья (и все же по виду намного моложе Древня), были статные и благообразные пожилые исполины, но ни одного молодого, никакой поросли. Десятка два их сошлось у берез; с разных сторон брели еще двадцать или около того.
Сперва у хоббитов глаза разбежались от несхожести их фигур и окраски, обхвата и роста – и руки-ноги разной длины, и пальцев на них неодинаково (не меньше трех, не больше девяти). С подобиями дубов и буков Древень все же мог бы, наверно, посчитаться родней, но многие онты вовсе на него не походили. Иные были вроде каштанов: кожа коричневая, разлапистые ручищи, короткие толстые ноги. Иные – вроде ясеней: рослые серокожие онты, многопалые и длинноногие. Были еще пастыри сосен и елей (эти самые высокие), пестуны берез, рябин и лип. Но когда все онты столпились возле Древня, чинно кланяясь и учтиво приветствуя его благозвучными голосами, разглядывая чужестранцев неспешно и пристально, тут хоббитам сразу стало яснее ясного, до чего они друг на друга похожи: глаза-то у всех такие же – ну, не такие, конечно, бездонные, как у Древня, но спокойные, задумчивые, внимательные, с зеленым мерцанием.
Подоспели последние; онты обступили Древня широким кругом и завели прелюбопытный и загадочный разговор. Полилась плавная молвь: каждый вступал в свой черед, и общий медленный распев притихал по одну сторону круга и гулко гудел по другую. Хотя Пин не различал и не понимал слов – по-онтски все ж таки разговаривали онты, – однако поначалу ему очень понравилось их слушать, пока не надоело. Он слушал и слушал (а они все говорили и пели) и наконец начал думать, что онтский язык слишком уж медленный, интересно, сказали они или нет друг другу «доброе утро», а коли Древень делает перекличку, то когда они доскажут ему свои имена.
«Хотел бы я знать, как по-онтски да или нет», – подумал он и зевнул.
Древень мгновенно все учуял.
– Кгм, кха-кха, ты вот что, друг мой Пин, – сказал он, и звучный хоровод онтов вдруг примолк. – Я и забыл, что вы такие несусветные торопыги. Но и то правда, скучновато слушать разговор на непонятном языке. Подите-ка погуляйте. Имена ваши на Онтомолвище названы, все вас разглядели, и все согласны, что вы не орки и что нужно добавить строку-другую в древний перечень. На этом мы пока что и порешили, и очень, я вам скажу, быстро порешили, едва ли не чересчур. Вы с Мерри побродите пока по долине, чем вам плохо. Пить захотите – там есть на северном склоне, повыше, очень вкусный источник. А тут еще надо изрядно поговорить, чтобы устроилось настоящее Онтомолвище. Я потом приду вас проведать, тогда расскажу, как у нас чего.
Он опустил Пина и Мерри наземь, а они, не сговариваясь, оба враз сообразили низко и благодарственно поклониться. Онтов это очень позабавило: они о чем-то перемолвились, и зеленые искры замелькали в их взорах. Но вообще-то им, видимо, было уже не до хоббитов. А те побежали наверх западной тропой: надо же поглядеть, что там, за оградой, с этой стороны Тайнодола. Там громоздились лесистые откосы, и за высокогорным ельником сверкал сахарно-белый пик. Слева, на юге, тоже виднелся лес, лес и лес, уходивший в серую расплывчатую даль с бледной прозеленью. «Наверно, Ристанийская равнина», – догадался Мерри.
– А где, интересно, Изенгард? – спросил Пин.
– Знал бы я, куда хоть нас занесло, – отозвался Мерри. – Ну, если это вот вершина Метхедраса, то у подножия его, помнится, как раз и есть Изенгард, крепость в глубоком ущелье. Небось вон там, слева за хребтиной. Видишь, не то дым сочится, не то туман?
– Изенгард, он какой? – выспрашивал дальше любопытный Пин. – Он ведь онтам, поди, не по зубам.
– Да и я тоже думаю – куда им, – согласился Мерри. – Изенгард – это скалистое кольцо, внутри каменная гладь, а посредине торчит высоченная гранитная башня, называется Ортханк. Там и живет Саруман, гранит на граните, на возвышении. Кругом скалы, во сто раз толще любых стен, ворот не помню сколько, может и не одни, и в каменном русле бежит горная речка, которая пересекает Врата Ристании. Да, онтам вроде бы там делать нечего. Но про онтов, понимаешь, как-то мне странно думается: не такие они смирные, не такие смешные. С виду-то оно, конечно, – чудаковатые тихони, терпеливые, опечаленные, обиженные, обойденные жизнью; но, если их обидишь, тогда хватайся за голову и смазывай салом пятки.
– Ага, ага, – подтвердил Пин. – Сидит себе старая корова и жует свою жвачку; и глазом не успеешь моргнуть, как это не корова, а бык, и не сидит он, а вскачь несется на тебя. Да, хорошо бы старик Древень их расшевелил. Затем, видать, и собрал, только трудное это дело. Вчера, помнишь, как он сам собой разошелся, а потом пых-пых – и выкипел.
Хоббиты вернулись в долину. Онтомолвище продолжалось вовсю: то глуше, то громче звучала напевная неспешная беседа. Солнце поднялось над оградой, брызнули серебром кроны срединных берез, и желтоватым светом озарился северный склон. Блеснул незаметный родник. Хоббиты пошли закраиной круглой долины, возле вечнозеленой изгороди – так отрадно было не спеша брести по свежей мягкой траве, – и напрямик спустились к искристому фонтанчику. От кристальной студеной воды щемило зубы; они уселись на обомшелый валун и смотрели, как бегают по траве солнечные блики и проплывают тени облаков. Онтомолвище не смолкало. Какие-то все ж таки непонятные, совсем уж чужедальние это были места, точно все былое осталось в другой жизни. И чуть не до слез захотелось увидеть лица и услышать голоса друзей – особенно Фродо, особенно Сэма и особенно Бродяжника.
Вдруг стихли голоса онтов, и невдалеке появился Древень, да не один, а со спутником.
– Кгум, кгу-гум, вот и я, – сказал Древень. – А вы тут, поди, притомились, всякое терпенье у вас кончается, кгмм, а что, разве не так? Нет уж, терпеньем вы запаситесь как следует. На первый случай мы все проговорили, это да; однако еще надо много чего растолковать и разжевать, довести до ума тех наших, кто живет далеко-далеко от Изенгарда, и еще тех, кого я не застал дома, когда утром приглашал на разговор; потом уж будем сообща решать, что нам делать. Ну, правда, онты не слишком долго решают, что им делать, ежели перед тем все как есть обговорено и разобрано до последнего листочка-корешка. Но толком-то если, еще поговорить надо: день-другой, не меньше. Так вот, я вам пока что товарища привел. Он здесь живет неподалеку. По-эльфийски зовут его Брегалад. Он говорит, решенье, мол, у него готово, на Онтомолвище ему, дескать, делать нечего. Гм, гм, таких торопливых онтов прямо-таки свет не видывал. Вы с ним поладите. Вот и до свидания! – И Древень удалился.
Брегалад стоял замерши, пристально разглядывая хоббитов; а те сидели в ожидании, когда-то он заторопится. Высокий, стройный и гибкий, он, наверно, считался у онтов молодым: гладкая, блескучая кора обтягивала его руки и ноги; у него были темно-алые губы и пышные серо-зеленые волосы. Наконец Брегалад заговорил, и звучный, как у Древня, голос был, однако же, тоньше и звонче.
– Кха-ха, эге-гей, ребятки, пойдемте-ка погуляем! – пригласил он. – Меня, как сказано было, зовут Брегалад, по-вашему – Скоростень. Но это, конечно, не имя, а всего-то навсего кличка. Так меня прозвали с тех пор, как один наш старец едва-едва напыжился задать мне важный вопрос, а я ему ответил: «Да, конечно». Опять же и пью я слишком быстро: добрые онты только-только бороды замочили, а я уж губы утираю. Словом, идемте со мной, не пожалеете!
Он протянул им руки – очень красивые, длинные, долгопалые. Весь день пробродили они втроем по лесу – хором пели песни, дружно смеялись. А смеялся Скоростень часто, и смеялся всегда радостно. Смеялся он, когда солнце являлось из-за облаков, смеялся при виде родника или ручья; смеясь, останавливался и кропил водой ноги и голову. Слышал трепет или шепоток деревьев – и тоже заливался смехом. А завидев рябину, стоял, раскинув руки, стоял и пел, гибкий, точно юное деревце.
Под вечер он привел их к себе домой: впрочем, дома-то никакого у него не было, а был мшистый камень в уютной зеленой лощинке. Рябины осеняли ее, и журчал ручей, как в любом жилище онта: этот, звеня, бежал сверху. Они разговаривали, пока не стемнело, а в темноте где-то неподалеку гудело Онтомолвище, басовитое, гулкое и по-новому беспокойное; время от времени чей-нибудь голос звучал громче и тревожнее других, и общий гомон смолкал. Но их слух заполняла тихая речь Брегалада, и шелестели знакомые, понятные слова: он вел рассказ о том, как разорили его древний край, где старейшиной был Вскорень. «Вот оно что, – подумали хоббиты, – с орками у него, стало быть, особые счеты, то-то он долго и не раздумывал».
– Рябинник обступал мой дом, – печально повествовал Брегалад, – и рябины эти взрастали вместе со мною в тишине и покое незапамятных лет. Иные из них, самые старинные, были посажены еще ради онтиц, но те лишь взглянули на них и с усмешкой покачали головами: в наших, мол, землях у рябин и цветы белей, и ягоды крупнее. А по мне, так не бывало и быть не могло деревьев прекраснее и благороднее этих. Они росли и росли, раскидывая тенистую густолиственную сень и развешивая по осени тяжкие, ярко-багряные, дивные ягодные гроздья, и птицы слетались стаями на роскошный рябиновый пир. Я люблю птиц, хоть они и болтушки, и чего-чего, а уж ягод им хватало с избытком. Однако птицы почему-то стали грубые, злые и жадные, они терзали деревья, отклевывали грозди и разбрасывали никому не нужные ягоды. Явились орки с топорами и срубили мои рябины. Я приходил потом и звал их по именам, незабвенным и нескончаемым, но они даже не встрепенулись, они не слышали меня и отозваться не могли, они лежали замертво.
О Орофарнэ, Лассемисте, Карнимириэ!
Рябины мои нарядные, горделивые дерева!
Рябины мои ненаглядные, о, как мне дозваться вас?
Серебряным покрывалом вас окутывал вешний цвет,
В ярко-зеленых уборах встречали вы летний рассвет,
Я слышал ваши приветные, ласковые голоса,
Венчалась червонными гроздями рябиновая краса.
Но рассыпаны ваши кроны ворохами тусклых седин,
Голоса ваши смолкли навеки, и я остался один.
О Орофарнэ, Лассемисте, Карнимириэ!
И хоббиты мирно уснули, внимая горестным песнопениям Брегалада, оплакивавшего на разных языках гибель своих возлюбленных, несравненных деревьев.
Наутро они снова пошли гулять втроем и провели весь день невдалеке от его жилища. Ходили они мало, больше сидели под зеленой закраиной; ветер стал холоднее, солнце редко пробивалось сквозь нависшие серые облака, и немолчные голоса онтов звучали то гулко и раскатисто, то глухо и печально; то почти наперебой, то медленно и скорбно, как погребальный плач. Настала вторая ночь, а совещанье все длилось; в разрывах мчащихся туч мутно мерцали звезды.
Забрезжил третий рассвет, ветреный и угрюмый. Онтомолвище загремело и снова притихло. Прояснилось утро, ветер улегся, и неподвижный воздух точно отяжелел в ожидании. Хоббиты заметили, что теперь-то Брегалад прислушивался в оба уха, хотя до их лощинки вроде бы доносился лишь смутный гул.
Близился вечер, солнце клонилось к западу, за мглистые вершины, и длинные желтые лучи пронизывали облака. Стало как-то уж очень тихо, кругом ни звука, ни шороха. Ну вот, значит, кончилось Онтомолвище. Чем же оно кончилось? Брегалад напряженно замер, глядя на север, в сторону Тайнодола.
Вдруг по лесу раскатился зычный и дружный возглас: «Тррам-тарарам-тарам!» Деревья затрепетали и пригнулись, словно под могучим порывом ветра. Снова все смолкло, а потом донесся мерный, как будто барабанный рокот, его перекрывало грозное многогласие:
– Идем под барабанный гром: трамбам-барам-барам-бам-бом!
Онты приближались, и все оглушительнее гремел их походный напев:
– Идем-грядем, на суд зовем: трумбум-бурум-бурум-бум-бом!
Брегалад подхватил хоббитов и поспешно выбрался из лощины.
Навстречу им шагали пятьдесят с лишним онтов; широкими, ровными шагами спускались они колонною по двое. Во главе их шествовал Древень, они отбивали такт ладонями по бедрам. Вблизи стало видно, что глаза их полыхают зеленым светом.
– Кхум, кхам! Вот и мы, идем-гремим, не так уж и долго пришлось нас ждать! – возгласил Древень, завидев Брегалада с хоббитами. – Давайте становитесь в строй! Мы выступили в поход. В поход на Изенгард!
– На Изенгард! – подхватила дружина, и грянуло в один голос: – На Изенгард!
На Изенгард! Пусть грозен он,
стеной гранитной огражден,
Пусть щерит черепной оскал
за неприступной крепью скал, —
Но мы идем крушить гранит,
и Изенгард не устоит!
Горит кора, обуглен ствол,
бушует лес и мрачен дол —
Обрушим своды и столбы
стопой разгневанной судьбы!
Идем под барабанный гром,
Идем-грядем, судьбу несем!
Так пели онты, шагая на юг.
Брегалад с сияющими глазами пристроился к колонне возле Древня. Тот пересадил хоббитов к себе на плечи, они торжествующе оглядывали шагавшую вслед за ними онтскую дружину и прислушивались к суровому, монотонному напеву. Они хоть и надеялись, что в конце концов что-нибудь да случится, но такой разительной перемены вовсе не ожидали – точно потоком прорвало плотину.
– А ведь быстро рассудили онты, правда же? – радостно задыхаясь от собственной смелости, спросил Пин, когда онты перестали петь и слышалась лишь тяжкая поступь да гулкое прихлопывание.
– Быстро, говоришь? – отозвался Древень. – Хм! Да, пожалуй что и быстро. Быстрее, чем я думал. Уж и не припомню, когда мы в последний раз так сердились: много-много веков назад. Мы, онты, сердиться-то не любим и очень редко сердимся, только если почуем, что нашим деревьям и нам самим чуть ли не гибель грозит. Такого в нашем краю не бывало со времен войны Саурона и Заморских Витязей. А всё эти орки, древорубы треклятые – рарум! – ишь, размахались топорами, ладно бы уж на дрова рубили, мерзавцы, еще куда бы ни шло, на дрова много не надо, – так ведь нет, для одного изуверства. Тут от соседа впору помощи ждать, а он, смотрите пожалуйста, заодно с ними. Нет, уж коли ты маг, с тебя и спрос особый; и то сказать, другие маги все ж таки не ему чета. Ни на эльфийском, ни на онтском, ни на людских языках и проклятья-то ему подходящего никак не сыщу. Долой Сарумана, да и только!
– А вы что, взаправду собрались сокрушить изенгардские стены? – осторожно поинтересовался Мерри.
– Ха, хм-м, да как тебе сказать, а почему бы и нет! Вам ведь небось и невдомек, какие мы сильные? Про троллей когда-нибудь слышали? Они очень сильные, тролли. Но они, тролли, не сами собой на свет появились, их вывел Предвечный Враг под покровом Великой Тьмы: вывел в насмешку над онтами, вроде как орков – над эльфами. Так вот мы гораздо сильнее троллей. Мы – кость от кости самой земли. Как древесные корни впиваются в камень, знаете? Только они впиваются веками, а мы – сразу, ну если, конечно, рассердимся. Изрубить-то нас, сильно постаравшись, можно, сжечь или чародейством каким одолеть – тоже не очень, но все-таки можно, а мы зато, коли захотим, и Изенгард вдребезги разнесем, и от стен его одно крошево оставим, понятно?
– Но Саруман-то не будет смотреть на вас сложа руки?
– Кгм, да, нет, он не будет, это верно, и я об этом не забыл. По правде сказать, я как раз об этом все время и думаю. Но я из нас самый старый, многие онты куда помоложе, на сотни древесных веков. Сейчас они осерчали и у них одно на уме – сокрушить Изенгард. А потом немного поодумаются, поостынут, выпьют водички на ночь – и начнут успокаиваться. Ох, изрядно водички мы выпьем на ужин! Ну а пока пусть их топают и поют! Идти нам еще далеко, поразмыслить времени хватит. Лиха беда начало.
И Древень подхватил общий напев, раздававшийся с прежней силой. Однако мало-помалу голос его притих и смолк, а нахмуренный лоб глубоко взбороздили морщины. Потом он поднял глаза, и Пин заметил в них скорбь – но не уныние. Казалось, зеленый огонь разгорелся еще сильнее, но светил он как бы издали, из темной глубины его мыслей.
– Оно, конечно, друзья мои, может статься иначе, – медленно промолвил он. – Может статься и так, что судьба против нас, что нас постигнет рок, что это – последний поход онтов. Но если бы мы остались дома в блаженном бездействии, мы бы своей судьбы не миновали, раньше ли, позже ли, не все ли равно? Мы об этом давно размышляем – потому и в поход двинулись. Нет, спешки тут не было: просто решенье созрело. Зато, глядишь, и песни сложат когда-нибудь о нашем последнем походе. Да, – вздохнул он, – сами, может, и сгинем, но хоть другим поможем. Жаль только, если вопреки старым песням мы никогда больше не встретимся с онтицами. Очень бы мне хотелось еще разок повидать Фимбретиль. Однако ж, друзья мои, песни – они ведь как деревья: плодоносят по-своему и в свою пору, а случается, что и безвременно засыхают.
Онты шагали ровно и размашисто. Вначале путь их лежал на юг длинною логовиной; потом приняли вправо и двинулись наискосок, все выше и выше, к вздымавшимся за верхушками деревьев западным кряжам Метхедраса. Лес отступал; рассыпался купами окраинный березняк, а там лишь кое-где на голом склоне торчали одинокие сосны. Солнце кануло за темный гребень. Стелились сумерки.
Пин оглянулся. То ли онтов прибавилось, то ли – что за наваждение? За ними оставался пустой и тусклый откос, а теперь он был покрыт деревьями. И деревья не росли, не стояли – они двигались! Неужели Фангорн очнулся от вековечной дремы и выслал на горный хребет древесное воинство? Он протер глаза: может, он сам задремал или ему померещилось в сумерках – но нет, серые громады шествовали вверх по склону, разнося глухой шум, гудение ветра в бесчисленных ветвях. Онты всходили на гребень и давно уже не пели. Воцарились темень и тишь: только земля трепетала от поступи древопасов и пробегал шелест, зловещий многотысячелиственный шепот. С вершины стала видна далеко внизу черная пропасть, огромное ущелье между последними отрогами Мглистых гор – Нан-Курунир, Долина Сарумана.
– Изенгард окутала ночь, – вымолвил Древень.