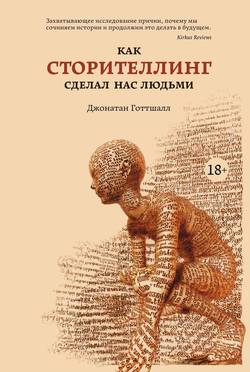Читать книгу Как сторителлинг сделал нас людьми - Джонатан Готтшалл - Страница 2
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Предисловие
ОглавлениеСпециалисты по статистике убеждены, что, если бы у них получилось поймать нескольких бессмертных обезьян, запереть их в комнате с пишущей машинкой и заставить достаточно долго бить по клавишам, те в итоге напечатали бы точную копию «Трагической истории о Гамлете, принце датском» – со всеми паузами, запятыми и «Черт возьми!». Обезьяны обязательно должны быть бессмертными; такой эксперимент, разумеется, оказался бы довольно длительным.
Некоторым людям такой исход событий кажется сомнительным. В 2003 году ученые из Плимутского университета[1] в Великобритании попытались проверить теорему о бесконечных обезьянах[2]– «попытались», поскольку бессмертных обезьян, как и возможности проводить эксперимент бесконечно, у них не было. Вместо этого в эксперименте, поставленном с помощью старого компьютера, участвовали шесть хохлатых павианов. Ученые оставили компьютер в их клетке и вышли из комнаты.
Обезьяны уставились на компьютер. Они столпились вокруг него, бормоча. Они прикасались к нему ладонями. Они пытались повредить его, швыряя в него камни. Они садились на клавиатуру, испражнялись на нее, а также пробовали ее на вкус и с громкими воплями бросали на пол. Они начали тыкать в клавиши – сначала медленно, потом все быстрее. Наблюдавшие за всем этим ученые продолжали ждать.
Рис. 1. Шимпанзе за пишущей машинкой
Прошла целая неделя, за ней еще одна, а ленивые обезьяны так и не напечатали «Гамлета» – ни одной сцены. Их действия, впрочем, породили пять страниц некоторого текста, который гордые исследователи облекли в кожаный переплет и опубликовали в интернете под названием «Примечания к полному собранию сочинений Шекспира» (Notes Towards the Complete Works of Shakespeare). Приведу здесь один из абзацев:
Ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasssssssssssssssssfssssfhgggggggsss Assfssssssgggggggaaavmlvvssajjjlssssssssssssssssa[3]
Самым примечательным открытием, сделанным в результате этого эксперимента, было явное предпочтение павианами буквы «s» всем остальным, хотя об истинном значении этого явления можно только догадываться. Зоолог Эми Плоуман, возглавлявшая исследователей, трезво рассудила: «Работа была интересной, но имела малое научное значение; единственное, что нам удалось сделать, – это показать, что теорема о бесконечных обезьянах далека от совершенства».
Все это значит, что величайшая мечта любого занимающегося статистикой человека – однажды прочитать напечатанную бессмертной обезьяной копию «Гамлета» – неосуществима.
Впрочем, грустить по этому поводу не стоит: литературовед Дзиро Танака утверждает, что хотя «Гамлет» технически не написан обезьяной, его автором является высший примат. Когда-то, в доисторическую эпоху, пишет Танака, «чуть менее чем бесконечная в своем разнообразии группа двуногих гоминидов отделилась от не столь разнообразной группы походивших на шимпанзе австралопитеков, после чего в свою очередь выделила из своей среды некоторое количество менее волосатых приматов, одним из которых через какое-то время и был написан “Гамлет”»[4].
Задолго до того, как один из этих приматов мог бы подумать о том, чтобы написать «Гамлета», какой-нибудь любовный роман или историю о Гарри Поттере, – задолго до того, как они вообще могли подумать о возникновении письма, – они собирались вокруг пылающих очагов, обмениваясь небылицами про хитрых обманщиков и юных влюбленных, самоотверженных героев и искусных охотников, угрюмых вождей и мудрых старух, а также историями о происхождении солнца, звезд, богов, духов и всего остального.
Десятки тысяч лет назад, когда только появилось человеческое сознание, мы, люди, рассказывали друг другу истории. И теперь, когда наш вид расселился по всей планете, большинство из нас все еще придерживается мифологических теорий происхождения всего сущего; нас все еще потрясает многообразие сюжетов книг, пьес и телепередач – об убийствах, войнах, заговорах, о любви, правде и лжи. Мы физиологически зависим от них; когда тело человека засыпает, мозг продолжает бодрствовать и, по сути, рассказывает сказки самому себе.
Эта книга – о примате Homo fictus (человеке выдумывающем)[5], обладающем мозгом, способным к сторителлингу. Можно этого не осознавать, но каждый из нас создан воображаемым миром Нетландии[6] – домом, в котором мы проводим десятилетия своей жизни. Не отчаивайтесь, если до сих пор не замечали этого: истории для человека – то же, что вода для рыбы, всеобъемлющая и вместе с тем практически неощутимая. Пока ваше тело зафиксировано в конкретной точке пространственно-временного континуума, ваше сознание сохраняет способность путешествовать по фантастическим мирам. И оно путешествует.
Нетландия, впрочем, по большей части остается неизведанной страной, не отмеченной ни на какой карте. Мы не знаем, отчего мы тоскуем по историям; не знаем, существует ли вообще Нетландия и как именно (если это вообще происходит) время, проведенное там, влияет на нас как на индивидов и членов общества. Пожалуй, в жизни человека нет ничего столь же важного, о чем бы мы так мало знали.
Идея этой книги пришла ко мне, пока я слушал музыку. Чудесным осенним днем я ехал по загородному шоссе, крутя ручку радиоприемника; началась песня в стиле кантри. Обычно я реагирую на подобные происшествия неистовыми ударами по приемнику – лишь бы эта ерунда скорее закончилась, – однако на этот раз в голосе певца было нечто по-настоящему проникновенное. Я так и не прикоснулся к ручке, дослушав до конца песню о молодом человеке, пришедшем просить руки своей возлюбленной. Отец девушки просит его подождать в гостиной, где тот рассматривает фотографии маленькой девочки, играющей в Золушку, катающейся на велосипеде и «бегущей через струи садовой поливалки, измазавшись мороженым, танцующей с отцом и глядящей на него снизу вверх». Молодой человек внезапно осознает, что он собирается забрать у отца нечто чрезвычайно ценное: он уводит у него Золушку.
Еще до того, как песня закончилась, я рыдал так сильно, что был вынужден съехать на обочину. В песне «Похищая Золушку» (Stealing Cinderella) Чака Уикса была та сладкая боль, которую испытывает отец, осознавая, что он не всегда будет самым важным мужчиной в жизни своей дочери.
Я довольно долго просидел в машине, грустя и одновременно восхищаясь тем, как быстро коротенький музыкальный рассказ Уикса превратил меня – взрослого мужчину, отнюдь не плаксу, – в совершенно беспомощное существо. Как это странно, думал я, что великолепным осенним днем такая история может подкрасться к нам и заставить нас плакать или смеяться, почувствовать себя влюбленными или сердитыми, ощутить мурашки, полностью изменить наше восприятие мира и самих себя. Как невероятно то, что, когда мы знакомимся с сюжетом – не важно, книга ли это, фильм или песня, – мы позволяем рассказчику полностью овладеть нами. Он захватывает контроль над нашим мозгом. Чак Уикс был в моей голове – съежившийся посреди темных лимфоузлов и воспламеняющихся нейронов.
На страницах этой книги я обращаюсь к достижениям биологии, психологии и нейробиологии для того, чтобы попытаться объяснить, что произошло со мной в тот день. Я понимаю, что многим покажется пугающей сама идея вторжения науки – с ее отполированными машинами, суровой статистикой и не самым легким языком – в Нетландию. Вымысел, фантазии и сны для человеческого воображения составляют нечто вроде священной, заповедной территории; они – последний оплот магии. Это единственное место, куда наука не может – точнее, не должна – врываться, сводя древние таинства к электрохимическим бурям внутри мозга или бесконечным войнам генов. Люди боятся, что, объяснив силу притяжения Нетландии, они навсегда потеряют ее. Убьют, исследуя, как сказал Вордсворт[7]. Но с этим я не согласен.
Вспомните конец «Дороги» Кормака Маккарти. Автор рассказывает историю мужчины и его сына, пересекающих опустевший мир, «мертвое пространство», в поисках необходимого для выживания: пищи и человеческого общества. Я читал роман, лежа в квадрате солнечного света на ковре в гостиной, совсем как в детстве, – и, дочитав, еще долго содрогался, переживая за мужчину и мальчика, за собственную короткую жизнь и весь свой гордый и глупый вид.
В конце «Дороги» мужчина умирает. Его сын выживает и уходит с небольшой семьей «хороших» людей. В семье есть маленькая девочка, что дает надежду. Мальчик еще может стать новым Адамом, а девочка – новой Евой. Однако все еще достаточно опасно. Вся экосистема мертва, и не ясно, дождутся ли люди ее восстановления. Последний абзац романа отвлекает нас от судьбы мальчика и его новой семьи, и Маккарти заканчивает произведение удивительным по красоте отрывком стихотворения в прозе.
Когда-то в горной речке водилась форель. Было видно, как рыбы стоят в янтарной воде, а течение медленно покачивает их плавники с дрожащими белыми каемками. Рыбины оставляли на руках запах тины. Гладкие, мускулистые, напряженные. На спинах – замысловатые узоры. Карты зарождающегося мира. Карты и запутанные лабиринты. То, что назад не вернуть. И никогда уже не исправить. В глубоких впадинах, где прятались рыбы, все дышало древностью и тайной. А человечество еще только делало свои первые шаги[8].
Что это значит? Неужели это надгробная песнь миру, который больше никогда не даст побегов жизни, или, может быть, действительно карта «зарождающегося мира»? Жив ли еще мальчик, ушедший вместе с людьми, которые ловят форель? Или его зарезали и съели? Никакая наука не сможет ответить на эти вопросы.
Однако наука может объяснить, почему такие истории обретают над нами власть. Эта книга – о том, как исследователи из разных областей используют новые инструменты и подходы для того, чтобы освоить неизведанные до того просторы Нетландии. Она о том, как истории – от телевизионной рекламы до грез или пародийного представления соревнования по армрестлингу – насыщают нашу жизнь. Она о глубине смысла, заключенного в радостной неразберихе детских фантазий, и о древнем происхождении сторителлинга; о том, как выдумка понемногу формирует то, во что мы верим, как себя ведем и что считаем этичным, – как она меняет всю культуру и историю человечества; о древних загадках удивительных ночных историй, которые мы называем снами; о том, как мозг обрабатывает информацию – обычно безупречно, но порой как будто шутя – и силой упорядочивает хаос нашего существования. Она также и о неопределенном настоящем фантазий, и об их будущем, полном надежд. В общем, она о великой загадке вымысла. Почему люди так зависят от Нетландии? Как мы стали животными, рассказывающими истории?
1
BBC News 2003.
2
BBC News 2003.
3
Elmo et al. 2002. (Здесь и далее полные выходные данные см. в разделе «Библиография».)
4
Tanaka 2010.
5
Э. M. Форстер использует этот термин в своей работе «Аспекты романа» (Forster E. M. Aspects of the Novel. 195P. 55), чтобы описать литературных персонажей. См. также: Niles 1999.
6
Нетландия (Neverland) – вымышленная страна, в которой происходит действие книг Джеймса Барри (1860–1937) о Питере Пэне. – Здесь и далее, если не указано иное, примеч. ред.
7
Перефраз стихотворения Уильяма Вордсворта (1770–1850) «Всё наоборот» (The Tables Turned): «…наш бесцеремонный интеллект уродует прекрасные вещи: мы убиваем, исследуя».
8
Пер. Ю. Степаненко.