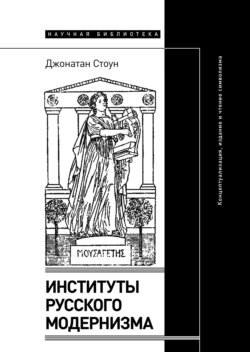Читать книгу Институты русского модернизма. Концептуализация, издание и чтение символизма - Джонатан Стоун - Страница 2
Введение[1]
ОглавлениеИзданная летом 1895 года дебютная поэтическая книга скандально известного модерниста Александра Добролюбова, нарочито загадочно озаглавленная «Natura naturans. Natura naturata», вызвала бурный отклик у русских читателей. Петр Перцов вспоминал:
Первый сборник Александра Добролюбова … можно сказать, ошеломил критику и публику, как свалившийся на голову кирпич. Все в нем пугало, начиная с непонятного названия…[2]
Слова Перцова побуждают задуматься о становлении понятия «символизм» в литературном дискурсе, о смысле применения термина «символистский» как к материальным, так и нематериальным репрезентациям раннего русского модернизма. Для этого необходимо исследовать подобные «свалившиеся на голову» моменты – задача, которая оказывается неразрывно связанной с вопросом о публике и месте читателя в русском символизме. Такие вопросы не перестают возникать на протяжении всей истории этого важного литературного течения: для России символизм явился точкой входа в художественный модерн. Зародившись в середине 1890‐х, уже к 1910 году он объявил о своем кризисе, но еще не одно десятилетие продолжал жить в творчестве и мемуарах российских писателей. Сознательно управляя чтением и восприятием своих произведений, группа практиковавших это новое искусство поэтов сумела систематизировать и институционализировать свою эстетику.
Ил. 1. Стихотворение Валерия Брюсова «О закрой свои бледные ноги» в третьем выпуске «Русских символистов» (1895)
Молодые и смелые русские поэты середины 1890‐х годов, называвшие себя символистами, знали толк в привлечении внимания. В выпуске их группового альманаха «Русские символисты» 1895 года было напечатано стихотворение, послужившее беспроигрышной приманкой для рецензентов и критиков: «О закрой свои бледные ноги». Этому моностиху Валерия Брюсова суждено было определить критическую рецепцию символистской – брюсовской и не только – поэзии на годы вперед. Его сознательная провокационность задела ту часть русской публики, которая была настроена высмеивать и принижать нарождавшиеся модернистские тенденции, теперь проникшие и на русскую почву. Целями летевших в эту поэзию камней нередко становились ее противоречивый стиль и образность. И все-таки одному из первых рецензентов удалось нащупать важный аспект становления и концептуализации символизма в России. Вот как этот анонимный критик из «Русского листка» предлагал исправить – и одновременно объяснял – брюсовское одностишие: «„О, закрой эту книжку, читатель!“ Так же коротко, но много яснее»[3].
Эта острота отразила один часто упускаемый из виду факт: для того чтобы завладеть вниманием публики и критиков, символистские стихи должны были сначала проложить себе дорогу в печать и достичь читателя. Уже самим своим физическим расположением в книге – орнаментированной буквой «О» и обилием пустого места вокруг этих пяти слов, кроме которых на странице больше ничего не было, – брюсовский моностих стремился как можно сильнее поразить читателя (см. ил. 1). Подобная экономность придает странице подчеркнуто поэтический характер, как бы утверждая разницу между чтением стихов и чтением прозы. Однако дать оценку самому стиху затруднительно. В шутку это написано или всерьез? Возмутительно это или восхитительно? Как конвенциональный вид страницы соотносится с помещенной на ней неоднозначной строчкой? Во всех аспектах подготовки книги: написании, редактуре, финансировании и печати – 21-летний Брюсов умышленно добивается такой неопределенности. Фигура Брюсова, принадлежавшего к числу и первых, и последних русских символистов, – важный фокус «Институтов русского модернизма». Брюсов деятельно участвовал в создании символизма на всех уровнях. Его многочисленные роли: поэт, редактор, издатель, организатор, читатель и покровитель – сделали его центральным узлом сетей, из которых складывался русский символизм. Мой рассказ о символизме ведется через призму этих ролей, а Брюсов раз за разом оказывается в центре внимания. Обширный вклад Брюсова в концептуальные и материальные выражения русского символизма позволяет говорить о нем как о движущей силе всего течения.
Существование в России символизма проявлялось по-разному: в издательской динамике; в наличии сетей, которые, связывая поэтов и читателей, формировали восприятие модернизма; и в процессах репрезентации и оценки нового искусства. Уже сам факт, что читатель мог открыть или закрыть томик русской символистской поэзии, для 1895 года был значительным достижением. Те первые книги, с которых началось взаимодействие символизма с российским обществом, напоминают нам о важнейшей роли, которую символистская материальная культура будет играть на протяжении всей истории русского модернизма. Брюсовское одностишие, отнюдь не сводимое к простой провокации против гражданственной русской поэзии конца XIX века, стояло на пороге кардинальных перемен в производстве и потреблении литературы в России. Воплощением указанного сдвига станет переплетение концепций символистской книги и читателя-символиста.
Эта институционализация приняла форму гибкого лавирования между доступностью и элитарностью. Управляя процессами чтения и интерпретации произведений, символизм представлял собой череду попыток стать понятнее для читателя. Однако вместе с тем он стремился воспитать себе аудиторию, открытую ключевой модернистской идее переоценки эстетических ценностей. В «Институтах русского модернизма» показано: модернистский как по форме, так и по содержанию русский символизм реорганизовал издательские сети и переосмыслил роли и функции основных участников литературного производства. Материальные объекты наподобие «кирпичей», сброшенных на читательские головы Добролюбовым и Брюсовым, приближают нас к пониманию символизма, каким его видели современники. Они раскрывают зависимость концептуальной идентичности символизма – так сказать, символистского «бренда» – от готовности читателей признать и даже принять собственную символистскую идентичность. Столь фундаментальная перестройка актов письма и чтения наложила неизгладимый отпечаток на самую суть русской литературной культуры рубежа столетий. В попытке нарисовать относительно полную картину институтов модернизма я предлагаю такую историю русской литературы, при которой сложность и хаотичность литературного производства рассматриваются как нечто столь же значимое, сколь и собственно литературная продукция.
Эта книга посвящена прежде всего развитию новых форм в русской литературе с начала 1890‐х годов по второе десятилетие XX века. Ярко выраженное стремление к эстетическому новаторству, доступность новых средств производства и упрочение представления о читателе как о неотъемлемой составляющей художественного творчества – все это делает указанный двадцатилетний отрезок русской культуры особенно подходящим для исследования через призму ее институтов. Культурный институт как сеть, состоящая из связей между авторами, редакторами и читателями, способен соединять людей, идеи и материальные объекты. Он может затрагивать вопросы социальных условностей, изменений отдельных эстетических тенденций, технического прогресса и концептуальных сдвигов в самой сущности искусства и литературы. Эти сложные системы, выступающие предметом настоящей книги, рассказывают нам о механизмах культурного производства. Для литературоведов и культурологов процесс значим не менее, чем результат.
Модернизм – новаторское, переломное эстетическое течение – вводит практику демонстрации собственной «сделанности» перед аудиторией. Он с готовностью обнажает динамику своего формирования. Исследование модернизма сосредоточивается на том, как этот процесс влиял на создание и восприятие самих произведений. Такой подход не обязательно ограничивается изучением конкретного периода или конкретной литературы, а используемые мною методы применимы и к другим контекстам и движениям. Внимание к контексту литературного производства, к взаимодействию людей и книг, к связям – случайным и установленным намеренно – между концепциями и их материальными воплощениями созвучно и другим историческим моментам. Все это инструменты, позволяющие лучше понять важные общественно-культурные изменения. Состоящие из людей и объектов сети повлияли на наше мировосприятие. Изучение этих сетей – ценный способ постижения любых парадигматических сдвигов в эстетическом, научном или культурном производстве. Моменты, определяемые Томасом Куном как революции, следует изучать с точки зрения процесса, через призму тех институциональных движущих сил, которыми эти моменты подготовлены. Модернизм, особенно русский, – идеальный объект приложения такой методологии.
2
Перцов П. П. Литературные воспоминания, 1890–1902 (1933) / Под ред. А. Лаврова. М.: Новое литературное обозрение, 2002. С. 183.
3
Содержится в собранной Брюсовым коллекции газетных вырезок, хранящейся в московском архиве поэта: РГБ. Ф. 386. Карт. 124. Ед. хр. 1. Л. 8–9.