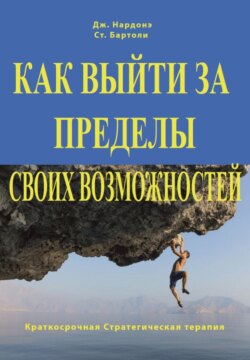Читать книгу Как выйти за пределы своих возможностей. Наука и искусство высоких достижений - Джорджио Нардонэ, Пауль Вацлавик - Страница 4
Глава 1. Мышление деятеля
Меняться, оставаясь собой: гибкость и адаптивность
ОглавлениеТот, кто мягок и податлив, идёт дорогой жизни; тот, кто негибок и твёрд, идет дорогой смерти.
Лао-цзы
Внимательно наблюдая за явлениями природы, древнекитайские даосские мудрецы замечали, как гибкое и мягкое побеждает жёсткое и твёрдое: так вода одерживает победу надо всем, потому что она подстраивается под любую вещь. Вода – единственное вещество в природе, способное изменять своё состояние, приспосабливаясь к обстоятельствам: замерзая, она становится твёрдой; нагреваясь, она превращается в пар; в обычных условиях она остаётся жидкой. Вода может быть спокойной и безмятежной, бурной и быстрой, стремительным водопадом или сметающей волной. Она может быть обжигающей или ледяной, солёной или пресной, целебной или ядовитой. Именно поэтому вода считается самым сильным природным элементом.
Вторым важнейшим преимуществом людей, достигающих выдающихся результатов, является способность приспосабливаться к постоянным изменениям. Они умеют адаптироваться, сохраняя при этом свои отличительные характеристики, и поэтому продолжают добиваться успехов. Действительно, как в природе становится хрупким то, что затвердевает, так и человек, который фокусируется лишь на одном аспекте, ослабевает. Гибкость ума, как и гибкость физическая, является одним из важнейших условий для любого достижения высокого уровня, для каждого человека, намеревающегося выйти за пределы своих личных ограничений. На уровне теории эти рассуждения вполне принимаются, однако на уровне практического применения из-за сопротивления изменениям наша человеческая природа и функционирование организма препятствуют гибкости. Это происходит из-за стремления поддерживать гомеостатическое равновесие[5], даже когда оно влечёт за собой дисфункциональные последствия. Как было указано в других работах (Nardone, Watzlawick, 1990; Нардонэ, Балби, 2019, Nardone, Balbi, 2008; Nardone, Milanese, 2018), изменения и сопротивление изменениям – это феномены, общие для всех организмов. Эта естественная биологическая амбивалентность воспроизводится на интеллектуальном уровне и в аффективной динамике: индивид постоянно колеблется между предрасположенностью к изменениям и сопротивлению им, стагнацией и эволюцией, открытостью и закрытостью по отношению к новому, даже когда последнее очевидно предпочтительнее. Вспомним, например, о любовных и эмоциональных конфликтах, или о сомнениях, мешающих принять решение, даже когда оно представляется наилучшим с рациональной точки зрения. Ещё более универсальным является повторение схем поведения, которые привели к успеху в прошлом, но не подходят к нынешним обстоятельствам (Нардонэ, Балби, 2019, Nardone, Balbi, 2008). На механизме предпринятых попыток решения – изначально успешных, а затем превратившихся в провальные стратегии (Вацлавик и др., 2020, Watzlawick et al., 1974) – фокусируется стратегическое изменение (Nardone, Watzlawick, 1990; Нардонэ, Балби, 2019, Nardone, Balbi, 2008; Nardone, Milanese, 2018): именно воздействие на эту динамику с помощью умственных и поведенческих уловок позволяет подорвать устойчивый повторяющийся механизм и открыть дорогу стратегически запланированному решению проблемы. В этом отношении современные исследования сочетаются с древней мудростью (Вацлавик и др., 2020, Watzlawick et al., 1974; Nardone, 2017) в том, что рассматривают постоянные изменения вещей в качестве двигателя жизни, которому, однако, противопоставляется обратная тенденция поддержания равновесия в живых системах, т. е. гомеостаз (Bernard, 1859; Shannon, 1949). В даосизме есть понятия Инь и Янь: эти две противоположных силы, объединённые в Дао, чередуются и дополняются, превращаясь друг в друга в динамике круговой зависимости. Понятием энантиодромии (от греч. enantios – «противоположный»; dromos – «бег») греческий философ Гераклит обозначал способ, которым изменяются вещи, «крутясь» вокруг самих себя и постоянно превращаясь в собственную противоположность. Энтропия живых систем проявляется в виде небольшого беспорядка внутри порядка системы, вызывая в ней слом, чем приводит систему к равновесию более высокого уровня. Всё это может быть представлено в концепции эволюционного изменения (Nardone, Milanese 2018), то есть постоянного изменения системы, которое модифицирует свои менее значимые характеристики и поддерживает характеристики основополагающие. Этот процесс происходит в соответствии с дарвиновской эволюцией, то есть через способность к адаптации, что позволяет организму улучшать собственные характеристики и достижения посредством естественного отбора наиболее функциональных свойств в связи с определёнными целями. Отличие примитивных, просто организованных живых организмов от развитых существ, имеющих сложную организацию – таких, как человек – состоит в способности последних принимать решения относительно своего поведения, чего лишены первые. На протяжении веков человек развил способность не только управлять окружающей средой, но и самим собой, став творцом собственной судьбы. Иными словами, в ходе эволюции человек освободился от непосредственной необходимости выживания, типичной для дарвиновского понятия приспособления, и создал реальность, в которой главным образом несёт ответственность за эволюцию, переставшую быть исключительно биологической.
Это исключает любую форму детерминизма в искусстве достижений, которое больше не сводится только лишь к таланту: талантливыми рождаются и ими становятся (Nardone, 2017). Природные способности, если они не поддерживаются и не тренируются, не развиваются наилучшим образом, или же становятся грузом, который нужно нести. И, наоборот, даже без особенного таланта можно достичь выдающихся результатов благодаря упорной и постоянной практике. Развитие гибкости и способности адаптироваться к обстоятельствам и условиям среды требует ещё более упорной практики для того, чтобы не оставаться в ловушке предвзятых идей и убеждений. Сопротивление эволюционному изменению скрывается в естественной склонности разума к схематизации и избыточному повторению действий, которые когда-то позволили достичь определённых результатов. Речь идёт об одной из самых коварных «психологических ловушек» (Нардонэ, 2020, Nardone, 2013), которые возникают в отношениях с самим собой, другими и миром. Они являются очень удобной стратегий упрощения тех невероятных сложностей, с которыми мы сталкиваемся, взаимодействуя с реальностью. Риск возникает тогда, когда эти умственные и поведенческие схемы становятся ригидными, кристаллизуются, что препятствует постоянному и необходимому процессу реадаптации. Когда Протагор утверждал, что «мастерство – это синтез предрасположенности и постоянной практики», он имел в виду именно непрестанную работу, которую должны выполнять те, кто хочет выйти за пределы привычных ограничений, адаптируя свои навыки и способности к эволюции окружающего мира.
Это второе важнейшее преимущество людей, достигающих выдающихся результатов, нельзя приобрести раз и навсегда; его нужно ежедневно завоёвывать путём постоянной практики. Если великий учёный начнёт почивать на лаврах своих успехов, прекратит учиться, открыто конфронтировать с другими точками зрения, отличными от его собственных, очень скоро он закостенеет в своих идеях, будет терять способность «познавать», все более ориентируясь на то, чтобы «распознавать», и поэтому станет неспособным к открытиям, находясь в плену собственных теорий. Так же и творческий деятель, который прекращает экспериментировать, вскоре «кристаллизирует», облекает лишь в одну форму свою творческую активность. Когда управленец в производственной сфере упорствует в реализации определенных стратегий успеха, не наблюдая их эволюции, он неизбежно ведёт компанию к краху (Nardone, Tani, 2018; Nardone et al., 2008). К сожалению, катастрофы – это правило, а не исключение в тех сферах деятельности, где высокие достижения индивида и сообщества постоянно востребованы. Именно поэтому необходима постоянная бдительность в отношении тенденции к закреплению определённых стратегий мышления и поведения, а также введение альтернативных точек зрения и иных способов действия. Вышесказанное не означает, что нужно постоянно что-то менять; важно сохранять некоторый уровень трансформации, что-то вроде запланированной «энтропии системы», которая бы удерживала её от закостенения, жёсткости. Если есть подходящая идея, необязательно её менять, но важно отдавать себе отчёт в том, когда, где и как она может перестать быть успешной. Когда мы планируем стратегию, ориентируясь на определённый результат и не хотим повторять то, что мы уже успешно использовали в прошлом, мы должны научиться смотреть на вещи с разных точек зрения, разрабатывать различные тактики, сравнивая их по прогнозируемым результатам и, наконец, выбирать способы действия, которые окажутся наиболее эффективными. В любом случае, мы должны подготовить «план Б» и быть готовыми к последующим изменениям в случае неуспеха или неудовлетворительных результатов. В этом последнем случае мы не должны менять всю стратегию, но только внести изменения, которые поддержат её эффективность.
Действенный метод сохранения собственной гибкости и адаптивности состоит в том, чтобы постоянно изучать новое, вводить небольшие поступательные изменения в способ восприятия и поведения. Полезно научиться смиренно принимать то, что мы чего-то не знаем или не умеем, признавая таким образом свои ограничения. Эта практика способствует развитию обоих важнейших качеств людей, достигающих высоких результатов. Мы говорили об этом ранее: прикладывая усилия к изучению нового, человек совершенствует как свою гибкость и адаптивность, так и способность преодолевать фрустрацию. Как утверждал Грегори Бейтсон, «учиться тому, чтобы учиться – это одна из наиболее высоко развитых способностей человеческого существа».
В этом отношении нельзя недооценивать важность языка, который часто «владеет нами больше, чем мы владеем им» (Wittgenstein, 1980). Действительно, лингвистические коды структурируют наше мышление, и мы не осознаём этот процесс. Чем больше мы используем скудный и предметный язык, тем труднее нам будет разрабатывать сложные идеи; чем более сложные слова мы используем, тем больше склоняемся к высокомерию, становясь менее способными рассматривать альтернативы. Когда мы общаемся на причудливом, фантазийном языке, нам трудно сохранять контакт с реальностью в нашем восприятии и поведении. Чем больше мы пользуемся рациональным языком, тем менее мы способны ко взлётам фантазии. Это лишь несколько полезных примеров, которые показывают влияние используемой нами речи на то, кто мы, и что мы делаем.
С первого взгляда может показаться, что невозможно освободиться от этого условия. На самом деле, мы можем пересечь этот океан сложностей, разделяя рулевых нашего корабля, чтобы они были способны направить нас к желанным целям. Нужно приложить усилия, чтобы использовать язык вместо того, чтобы быть им использованными. Это означает умение искусно владеть языком, обращаясь к как можно большему числу лингвистических кодов и выбирая их согласно цели, чередуя рациональный и образный языки, используя инструменты риторики и проводя сравнение с изучением других языков. В античности благороднейшим искусством считалась именно риторика, искусство убеждения (Nardone, 2015), которая служила не только для того, чтобы склонить к какому-то поведению или мысли умы других, но прежде всего – убедить самого себя. Греческие софисты, основоположники риторики убеждения, знали, что мудрое использование языка и стратегической коммуникации – это способ развития гибкости и адаптивности мышления. Неслучайно именно они впервые сформулировали «конструктивистское» видение (Watzlawick, 1981; Foerster, 1974; Glasersfeld, 1975) человека и его реальности. Нас не должно удивлять то, что больше двух с половиной тысяч лет назад софисты достигли такого уровня личного и социального благополучия, какому можем позавидовать и мы, современные люди. Историки и биографы, такие как Плутарх, Ксенофонт, Лукиан Самосатский описывали их, кроме прочего, как долгожителей, здоровых и успешных людей. Самый впечатляющий пример – жизнь Горгия. Он был столь искусен в искусстве убеждения, что умел убедить аудиторию сначала в одном тезисе, затем – в противоположном. В возрасте 106 лет, произнеся фразу «Мне больше нечего делать в этом мире», великий софист уснул, и его сон постепенно перешёл в вечный покой. Горгий осуществил две основополагающих цели бытия: прекрасную жизнь и хорошую смерть.
Изменяться, оставаясь самим собой – это ментальный настрой и, одновременно, модальность непрерывного действия. Говоря «совершенство – это привычка», Аристотель обозначал, что ориентация на улучшение – это скорее подход, отношение, нежели предрасположенность. Никогда не нужно стремиться исключительно к совершенству, но важно оставаться способными к совершенствованию и открытыми к улучшениям. В этом смысле образцом является урок Монтеня: «Совершенствуй несовершенное».
5
Термин «гомеостаз» происходит от греческих слов òmois – «одинаковый» и stasis – «положение» и означает тенденцию всех живых организмов поддерживать постоянные условия жизни во внутренней среде, то есть собственное равновесие, несмотря на изменения во внешней среде.