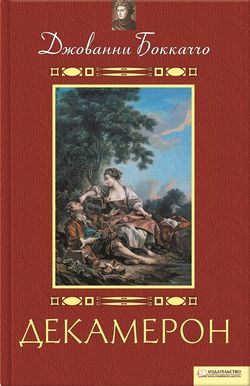Читать книгу Декамерон - Джованни Боккаччо - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
День первый
Новелла седьмая
ОглавлениеБергамино своим рассказом о Примасе и аббате Клюньи ловко уличает необычную скупость Кане делла Скала
Забавный тон Эмилии и ее новелла заставили и королеву и всех остальных смеяться, выхваливая небывалую выходку крестоносца. Когда смех прекратился и все успокоились, Филострато, за которым была очередь рассказывать, начал так:
– Хорошо, достойные дамы, попасть в цель, которая не движется, но граничит почти с чудом, если что-нибудь необычайное покажется внезапно и стрелок внезапно же попадет в него. Греховная и грязная жизнь клериков, являющаяся во многих случаях почти точным показателем порочности, легко дает повод говорить о ней, укорять ее и порицать всякому, кто того желает; потому, хотя и хорошо сделал тот добрый человек, уличив инквизитора в лицемерном милосердии монахов, отдающих беднякам, что подобало бы отдать свиньям или выбросить, – более похвалы заслуживает, по моему мнению, тот, о котором я намерен рассказать, будучи наведен на то предыдущей новеллой: мессера Кане делла Скала, щедрого государя, он уязвил за внезапно и необычно проявившуюся в нем скупость, рассказав ему новеллу и в другом лице изобразив, что хотел сказать о себе и о нем. Рассказ следующий.
Как по всему свету гласит славная молва, мессер Кане делла Скала, которому счастье благоприятствовало во многом, был одним из самых замечательных и щедрых властителей, какие только известны были в Италии от времени императора Фридриха II и по сию пору. Затеяв устроить в Вероне знатное, чудесное празднество, к которому явилось бы со всех сторон множество народу, особенно потешных людей всякого рода, он внезапно, какая бы тому ни была причина, раздумал и, наградив некоторых из прибывших, отпустил их. Один только Бергамино, находчивый и красноречивый рассказчик, каким не представит его себе никто, кто его не слышал, не будучи ни награжден, ни отпущен, остался в надежде, что это случилось, быть может, не без будущей для него выгоды. Но у Кане засела мысль, что дать ему что-либо – хуже потратить, чем если бы бросить в огонь, и он не говорил и не поручал передать ему о том ни слова. По прошествии нескольких дней, когда Бергамино увидел, что его не зовут и ничего не требуют от его ремесла, и что, кроме того, он со своими конями и слугами проживается в гостинице, его стала забирать меланхолия; а он все еще выжидал, полагая, что будет неладно, если он уедет. С собою он привез три прекрасных, дорогих костюма, подаренных ему другими синьорами, чтобы с почетом предстать на праздник; но так как хозяин требовал платы, он сначала отдал ему один костюм, затем, оставшись более долгое время, второй, и принялся уже питаться на счет третьего, решив остаться и посмотреть, на сколько его хватит, а там и уехать. И вот, когда он уже начал питаться на счет третьего, случилось однажды, что когда мессер Кане сидел за обедом, Бергамино предстал перед ним с печальным видом. Увидел его мессер Кане и сказал, более затем, чтоб помучить его, чем потешиться какой-нибудь его прибауткой: «Что с тобой, Бергамино? Ты так печален; расскажи нам что-нибудь». Тогда Бергамино, недолго думая, но словно долго о том поразмыслив, тотчас рассказал, чтобы поправить свои дела, следующую новеллу.
– Государь мой, вам должно быть известно, что Примас был большой знаток латыни и паче всякого другого замечательный и находчивый стихотворец, и эти качества сделали его столь знаменитым и славным, что если лично его и не везде знали, не было почти никого, кто бы не знал, по имени и молве, кто такой Примас.
Случилось однажды, что он был в Париже в нищем виде, в каком большею частью обретался, потому что его доблести мало ценились людьми можными, и здесь услышал, как рассказывали об аббате Клюньи, которого считают самым богатым, по доходам, прелатом, какие только есть в божией церкви, за исключением Папы; слышал он дивные вещи о его щедрости и что при его дворе постоянный праздник и никому, кто бы ни явился в его местопребывание, не было запрета есть и пить, лишь бы попросился, когда аббат за столом. Услышав о том, Примас, любивший водиться с именитыми людьми и синьорами, решился пойти и убедиться воочию в щедрости этого аббата, и спросил, далеко ли он живет от Парижа. Ему отвечали, что милях в шести, в своем поместье, и Примас рассчитал, что, выйдя рано утром, он может прибыть туда к обеденному часу. Попросив указать себе дорогу и не найдя никого, кто бы направлялся туда же, он побоялся, как бы ему, на его несчастие, не сбиться с пути и не зайти в такое место, где не так-то легко будет найти что поесть; вот почему, на случай, если бы это приключилось и дабы ему не терпеть недостатка в пище, он решил захватить с собою три хлеба, полагая, что воду (хотя она ему и не особенно была по вкусу) он найдет всюду. Положив хлебы за пазуху, он отправился в путь, и так удачно, что ко времени обеда пришел к месту, где находился аббат. Войдя, он начал озираться кругом и, увидев множество накрытых столов и большие приготовления в кухне и все другое, потребное для обеда, сказал про себя: «В самом деле этот аббат так щедр, как о нем говорят». Когда он некоторое время разглядывал кругом, сенешаль аббата велел подать воды для омовения рук, так как настал час обеда, и когда подали воду, рассадил всех за столом. Случилось так, что Примаса посадили как раз против двери, из которой аббат должен был выйти в столовую. Был при его дворе такой обычай, что на стол никогда не подавалось ни вина, ни хлеба и никакой еды и питья, пока не сел аббат. Когда сенешаль накрыл на стол, велел доложить аббату, что ждет его приказа, а обед готов. Аббат велел открыть покой, откуда был выход в залу; проходя, посмотрел вперед себя, и первый, случайно попавшийся ему на глаза, был Примас, плохо одетый и по виду ему незнакомый. Увидел его, и тотчас же взбрела ему на ум нехорошая мысль, никогда дотоле не приходившая ему: кого только я кормлю от моего достатка! Вернувшись к себе, он велел запереть дверь и спросил бывших с ним, не знает ли кто того бродягу, что сидит за столом прямо против двери его комнаты? Все отвечали, что не знают. Примаса с прогулки и непривычки поститься разбирал голод; подождав немного и видя, что аббат не выходит, он вынул из-за пазухи один из трех хлебов, которые принес с собою, и принялся есть. Обождав некоторое время, аббат приказал одному из своих приближенных посмотреть, не ушел ли Примас. Тот отвечал: «Нет, мессере, напротив, он ест хлеб, и это доказывает, что он принес его с собой». – «Пусть ест свое, коли есть, – сказал аббат, – а нашего сегодня он есть не будет». Ему хотелось, чтобы Примас сам собой ушел, ибо ему казалось неприличным спровадить его. Когда съеден был один хлеб, а аббат не являлся, Примас принялся за второй; и это также доложено было аббату, велевшему поглядеть, не убрался ли он. Наконец, так как аббат все еще не выходил, Примас, съев второй хлеб, начал есть и третий. Когда о том сказали аббату, он начал так размышлять, говоря про себя: «Что это за небывальщина пришла мне сегодня в голову? Что за скупость, что за озлобление – и к кому же? Сколько лет кормил я с моего стола всех желающих есть, невзирая на то, именитый ли то был человек или обманщик; собственными глазами видел я, как мое добро пожирали бесчисленные бродяги – и никогда мне в голову не приходила мысль, которую я питаю по отношению к этому человеку. Наверно, скаредность овладела мною не к простому человеку: в том, кто мне представляется бродягой, должно быть нечто особенное, если мой дух оказался столь неподатливым к чествованию его». Сказав это, аббат пожелал узнать, кто он такой; узнав, что это Примас, пришедший поглядеть на его щедрость, о которой наслышался, и издавна известный аббату по слухам за достойного человека, он устыдился и, желая загладить вину, принялся ублажать его на разные лады. После обеда велел его богато одеть, как приличествовало достоинству Примаса, и, снабдив его деньгами и конем, предоставил ему выбор: остаться у него или уехать. Довольный этим, Примас воздал ему отменную благодарность и верхом вернулся в Париж, откуда пришел пешком.
Мессер Кане, как человек разумный, отлично понял, без всяких разъяснений, что разумел Бергамино, и, улыбаясь, сказал: «Бергамино, ты очень ловко показал свою обиду и искусство и мою скаредность – и то, чего ты от меня желаешь; поистине, никогда скупость не овладевала мною, как только теперь, по отношению к тебе; но я прогоню ее той самой палкой, которую ты изобрел». И велев уплатить хозяину Бергамино, одев его в свое богатое платье, снабдив деньгами и конем, предоставил на этот раз на его произвол – уехать или остаться при нем.