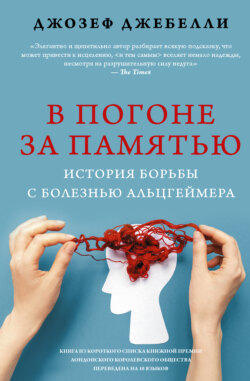Читать книгу В погоне за памятью. История борьбы с болезнью Альцгеймера - Джозеф Джебелли - Страница 5
Часть I
Истоки
Глава вторая
Настоящая эпидемия
ОглавлениеУ историка науки возникает искушение воскликнуть, что при перемене парадигмы меняется весь мир.
Томас Кун.
Структура научных революций (1962)
В течение десятилетий после того, как баварский врач впервые описал болезнь, получившую его имя, ученые, патофизиологи и психиатры жарко спорили о том, что же Альцгеймер на самом деле открыл. Одно несомненно: Альцгеймер обнаружил уникальную разновидность патологии мозга, для которой характерны «особые» бляшки и клубки среди остатков мертвых нервных клеток. Но сложность состояла в том, что эти так называемые «характерные признаки» болезни Альцгеймера обнаруживаются и в мозге людей, у которых не было ни малейших умственных отклонений, если они прожили достаточно долго. Более того, при вскрытии у четверти покойников старше шестидесяти обнаруживают бляшки и клубки, даже если на момент смерти они были в здравом уме и твердой памяти. А Августе Детер было всего 56 лет. Может быть, ее мозг просто преждевременно состарился по какой-то причине? Если так, то дело жизни Альцгеймера оказывалось под вопросом – ведь старение мозга никак нельзя назвать болезнью.
Здесь и таится проблема. При деменции, в отличие от рака или инфекционных болезней наподобие туберкулеза или оспы, нет очевидных физических отклонений, которые можно было бы лечить терапевтически – ни злокачественной опухоли, ни чужеродного патогена. Не с чем бороться. Как будто мозговые клетки отмирают по собственной воле.
Многие исследователи считали, что из-за этого загадка не имеет решения. Болезнь Альцгеймера пряталась за дымовой завесой нормального старения, подобно тому как в пору младенчества медицины истинные причины болезней скрывались под покровом мифологии и суеверий.
Возникшая неопределенность раздражала сторонников Альцгеймера, и в середине 1920-х годов они решили дать окончательный ответ на этот вопрос. Если болезнь Альцгеймера – это болезнь, прежде всего нужно определить ее симптомы. Среди единомышленников Альцгеймера был и Эрнест Грюнталь, немецко-швейцарский психиатр, ученик Крепелина, впоследствии вынужденный бежать из Германии из-за своего еврейского происхождения. В 1926 году Грюнталь описал самые, по его мнению, бесспорные отличительные черты болезни. В их число вошли постепенная потеря памяти, нарушения восприятия, небрежность в работе, неряшливость и неопрятность, дезориентация в пространстве и времени, сокращение словарного запаса, нечеткая речь, притупление когнитивных навыков, крайняя раздражительность, беспорядочные движения1.
При такой пестроте симптомов не приходится удивляться, что труды Грюнталя не стали особенно авторитетными. У разных больных эти симптомы проявлялись по-разному, а иногда и вовсе отсутствовали. С учетом этого некоторые психиатры предположили, что болезнь Альцгеймера и деменция – одно и то же с той лишь разницей, что первая протекает гораздо тяжелее и поражает относительно молодых людей. Кто-то считал, что у болезни Альцгеймера много подтипов, которые зависят от личности и условий жизни больного. Начали появляться размытые, произвольные возрастные критерии болезни. Считалось, что верхний предел болезни Альцгеймера – 55 лет, а если подобные симптомы проявляются в более пожилом возрасте, это уже деменция. В 1940-е годы планку подняли до 65 и даже 70 лет, но пределы были так расплывчаты, что договориться о классификации не удавалось.
Фрейдисты воспользовались этой неопределенностью, чтобы в очередной раз заявить, что биологические причины играют незначительную роль, и подчеркнуть главенство своих представлений. Дэвид Ротшильд, американский психиатр, учившийся психоанализу, в 1941 году заявил, что деменция вызывается «факторами в основном личностной природы»2.
Возникшая путаница сильно подорвала уверенность школы Альцгеймера и грозила вернуть исследования деменции в средневековье, а между тем именно в те годы психиатрические больницы Европы и Америки отмечали, что количество больных с этим диагнозом резко повысилось. «Наши учреждения с годами превратятся в обширные лазареты, где молодым людям с излечимыми заболеваниями останется сравнительно мало места», – предупреждал Ричард Хатчингс в своем президентском обращении к Американской психиатрической ассоциации в 1939 году.
В здравоохранении назревал кризис, поэтому нужно было как можно скорее изменить представления общества об этом заболевании. Пришло время для появления новой породы исследователей.
«Ну и что мне со всем этим делать?» – думал Майкл Кидд, выходя с собеседования. Он-то хотел обсудить свои последние находки в области заболеваний сетчатки – он был положительно очарован простотой и элегантностью ее слоистой клеточной структуры, – а теперь его наставник требовал, чтобы он изучал мозг при помощи сложного новомодного устройства под названием электронный микроскоп.
Дело было в октябре 1961 года. Кидд, врач, завершавший исследования по нейрофизиологии в Университетском колледже в Лондоне, наотрез отвергал все советы, связанные с карьерным продвижением. Он учился в Эшфорде, маленьком кентском городке, и сначала поступил в ВВС Великобритании, где служил операционным медбратом, после чего получил высшее медицинское образование в престижном Университетском колледже, а затем был принят туда на должность исследователя. Но теперь его контракт заканчивался, и оставался только один вариант – попробовать перейти в больницу на Мейда-Вейл на севере Лондона, где собирались при помощи последних достижений техники изучать разновидность деменции, так называемую болезнь Альцгеймера, о которой Майкл не имел ни малейшего представления, так что перед собеседованием пришлось восполнять пробелы3.
А Роберт Терри ни в чем не сомневался. Он был на десять лет старше Кидда и уже провел несколько лет в Париже – учился работать с электронным микроскопом в рамках курса патологии. Во время Второй мировой войны он служил в Восемьдесят второй Воздушной дивизии. Коллеги считали его человеком «сильным», «серьезным», «исключительно дельным»4. А теперь он работал в Нью-Йорке, в Медицинском колледже имени Альберта Эйнштейна в Бронксе, и ему не терпелось испытать микроскоп в чем-нибудь новом и оригинальном. Именно такой ему и виделась болезнь Альцгеймера – нехоженое поле, задача, которую никто в его области не пытался решать, насколько ему было известно.
Электронный микроскоп – трехметровая махина весом в полтонны – больше напоминал перископ подводной лодки, а не обычный микроскоп. При таких габаритах под него в большинстве лабораторий отводили отдельное помещение. Он был изобретен в 1930-е годы, а до этого ученые полагались на оптический микроскоп, который придумал голландский биолог-любитель Антони ван Левенгук (открывший с его помощью красные кровяные тельца). Оптический микроскоп собирает видимый свет при помощи системы линз и добивается увеличения до 1000 раз. А электронный микроскоп, который изобрели немецкие физики Эрнст Руска и Макс Кнолль, строит изображение при помощи пучка электронов и способен увеличивать предметы в два миллиона раз, то есть в 2000 раз сильнее прежнего. В 1937 году венгерский физик Ладислав Мартон начал с его помощью делать изображения биологических образцов и опубликовал первые снимки бактерий, полученные на электронном микроскопе. Вскоре после этого и другие исследователи получили фото крылышек мухи, вирусов и клеток кожи.
Для исследований болезни Альцгеймера это была настоящая революция. Под обычным микроскопом клетки мозга похожи на скопление планет на ночном небе, а под электронным получается словно бы съемка со спутника: на каждом небесном теле видны континенты, горные кряжи, раскинувшиеся города. В европейских и американских лабораториях без электронного микроскопа было уже не обойтись. И вот тогда Кидд и Терри и приступили к изучению подробностей ландшафта мозга, пораженного болезнью Альцгеймера.
Кидд и Терри независимо брали пробы мозговой ткани у живых больных болезнью Альцгеймера и при помощи электронного микроскопа рассматривали бляшки и клубки5. Ни тот, ни другой не представляли себе, чего можно ожидать. Они тщательно нацеливали электронный душ – и в поле зрения выползал призрачный темный силуэт. Бляшки Альцгеймера, еще недавно такие далекие и непонятные, уже не напоминали россыпь маленьких безобидных частичек. Теперь стало видно, что каждая бляшка – это огромный ком переплетенных черных нитей, спутанных, будто моток колючей проволоки. Теперь стало понятно, откуда взялась их разрушительная сила. Эти темные нити сокрушали нервные клетки, а иногда прямо-таки прошивали их насквозь.
Еще пристальнее вглядевшись в эти руины, ученые вскоре натолкнулись еще и на какие-то узлы вещества, которые словно бы душили клетки изнутри. И почти сразу стало понятно, что этот враг совсем иного рода. Эти волокна были на удивление аккуратно скручены в жгуты, очень похожие на двойную спираль ДНК, которую открыли десятью годами раньше Уотсон и Крик.
«Хочешь понять функцию – пойми структуру», – учил, как известно, Крик. Кидд и Терри мыслили в этом же ключе и начали изучать атомную архитектуру бляшек и клубков, сравнивали с тем, что они уже знали о поведении органических молекул. Они и не подозревали, что только что заключили важнейший союз со стремительно развивающейся наукой биохимией.
Ученые единодушно заключили, что компоненты бляшек очень напоминают вещество под названием амилоид. Этот термин ввел в обращение Рудольф Вирхов в 1854 году – латинское слово amylum («крахмал») с греческим суффиксом «-оид» – «подобный»; Вирхов принял это вещество за разновидность сахара. К тому времени, как Кидд и Терри приступили к исследованиям, уже было установлено, что на самом деле амилоиды состоят из больших белков.
Белки – это химические рабочие лошадки живой материи. В любой клетке организма тысячи разных белков. Одни, простые и маленькие, и исполняют рутинные задачи – например, поддерживают структуру клетки, – другие, большие и сложные, играют множество ролей в различных задачах: обеспечивают мобильность клетки, коммуникацию и защиту от рака. Белки состоят из цепочек аминокислот, свернутых в сложные трехмерные структуры, и служат в клетке «актерами» (а, скажем, гены просто пишут «сценарий», «инструкции», по которым строятся белки). То есть гены – источник жизни, однако состоит она из белков. Но иногда какой-нибудь белок ломается, пропадает с радара и откладывается в органах и вокруг них. К шестидесятым годам ученые начали замечать интересную особенность амилоидных отложений: их много при многих заболеваниях, в том числе при диабете, почечной недостаточности и некоторых сердечно-сосудистых болезнях. Видимо, болезнь Альцгеймера тоже следовало включить в этот список.