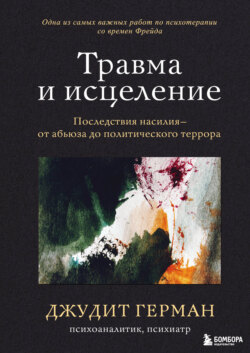Читать книгу Травма и исцеление. Последствия насилия – от абьюза до политического террора - Джудит Герман - Страница 8
Часть I. Травматические расстройства
Глава 1. Забытая история
Героическая эпоха истерии
ОглавлениеВ последние два десятилетия XIX века расстройство под названием «истерия» являлось основным предметом серьезных исследований. Термин истерия в то время был настолько общепонятным, что никто даже не потрудился дать ему систематизированное определение. По словам одного историка, «на протяжении двадцати пяти веков истерия считалась странным заболеванием с непоследовательными и невнятными симптомами. Большинство врачей считали ее болезнью, присущей женщинам и берущей начало в матке»[12]. Отсюда и название – истерия (от греч. ὑστέρα – матка). Как объяснял другой историк, истерия была «драматической медицинской метафорой для всего того, что мужчины считали таинственным или неуправляемым в противоположном поле»[13].
Главным исследователем истерии был великий французский невролог Жан-Мартен Шарко. Его царством был Сальпетриер, старинный обширный больничный комплекс, который издавна служил домом призрения для самых обездоленных слоев парижского пролетариата: нищих, проституток и сумасшедших. Шарко превратил это никому не нужное заведение в храм современной науки, и самые одаренные и амбициозные представители новых дисциплин, неврологии и психиатрии, съезжались в Париж, чтобы учиться у мастера. Среди множества маститых врачей, в свое время совершивших паломничество в Сальпетриер, были Пьер Жане, Уильям Джеймс и Зигмунд Фрейд[14].
Исследования истерии заворожили общество своим великим походом в царство неведомого. Исследования Шарко славились не только в медицинском мире, но и за его пределами – в литературе и политике. Его «лекции по вторникам» представляли собой этакие театральные представления, которые привлекали «полную нездорового любопытства разномастную аудиторию, стекавшуюся со всего Парижа: писателей, ученых, ведущих актеров и актрис, модных дам полусвета»[15]. На этих лекциях Шарко иллюстрировал свои открытия в области истерии живыми демонстрациями. Пациентками, которых он выставлял на обозрение публики, были молодые женщины, нашедшие в Сальпетриере убежище от жизни, полной непрестанной агрессии, эксплуатации и сексуального насилия. Лечебница обеспечивала им большую безопасность и защиту, чем они видели за всю предыдущую жизнь, а избранной группе женщин, которые становились звездами представлений Шарко, даже доставалось нечто вроде славы.
Шарко называли отважным храбрецом уже за то, что он вообще решился исследовать истерию; его личный авторитет обеспечил доверие к сфере, которая считалась выходящей за пределы дозволенного в серьезных научных исследованиях. До Шарко женщин с истерией считали симулянтками, а их лечение отдавали на откуп гипнотизерам и модным целителям. После смерти Шарко Фрейд назвал его освободителем и покровителем страждущих:
«Людям с истерией ни в чем не было никакой веры. Первое, что сделал Шарко, – помог занять этой теме подобающее положение; постепенно все отвыкли от насмешливых улыбок, на которые прежде только и могла рассчитывать пациентка. Она перестала быть симулянткой по определению, ибо Шарко всем весом своего авторитета встал на сторону подлинности и объективности феномена истерии»[16].
Подход Шарко к истерии, которую он называл «великим неврозом», был таксономическим. Он подчеркивал необходимость пристального наблюдения, описания и классификации. Он документировал характерные симптомы истерии исчерпывающе – не только письменно, но и в рисунках и фотографиях. Шарко фокусировался на симптомах истерии, напоминавших неврологические повреждения: двигательных параличах, потере сенсорных ощущений, судорогах и амнезиях. К 1880 году он успел продемонстрировать, что эти симптомы имели психическую природу, поскольку могли быть искусственно вызваны и сглажены с помощью гипноза.
Хотя Шарко уделял более чем пристальное внимание симптомам своих пациенток с истерией, их внутренняя жизнь его совершенно не интересовала. Он рассматривал их эмоции как симптомы, которые следовало занести в каталог. Он описывал их речь как «вокализацию» – голосовой сигнал. Его позиция в отношении пациенток становится совершенно очевидной из стенограммы одной из его вторничных лекций, во время которой молодая женщина в гипнотическом трансе использовалась для демонстрации конвульсивного истерического приступа:
ШАРКО: Нажмем еще раз на истерогенную точку. (Один из ассистентов-мужчин дотрагивается до живота пациентки в районе яичников.) Ну вот, опять [начинается припадок]. Иногда подопытные могут даже закусить себе язык, но такое бывает нечасто. Обратите внимание на выгнутую дугой спину, феномен, так подробно описанный в медицинской литературе.
ПАЦИЕНТКА: Матушка, мне страшно!
ШАРКО: Обратите внимание на всплеск эмоций. Если мы и дальше оставим его без контроля, то очень скоро вернемся к эпилептоидному поведению… (Пациентка снова кричит: «Ой, матушка!»)
ШАРКО: Опять же, обратите внимание на эти крики. Так сказать, много шума из ничего[17].
Честолюбивые последователи Шарко стремились превзойти его труды, продемонстрировав причины истерии. Особенно рьяное соперничество развернулось между Жане и Фрейдом. Каждый из них хотел первым совершить это великое открытие[18]. Преследуя свою цель, исследователи выяснили, что недостаточно просто наблюдать и классифицировать женщин с истерией. Необходимо беседовать с ними. На одно короткое десятилетие ученые мужи подошли к женщинам с уважением и вниманием, невиданными ни прежде, ни потом. Ежедневные встречи со страдавшими истерией пациентками, часто длившиеся часами, были в то время не редкостью. Описания случаев того периода читаются почти как истории сотрудничества между терапевтом и пациенткой.
Это изучение принесло свои плоды. К середине 1890-х Жане во Франции и Фрейд вместе со своим сотрудником Йозефом Брейером в Вене независимо пришли к поразительно похожим выводам: истерия была сочтена состоянием, вызываемым психологической травмой. Невыносимые эмоциональные реакции на травмирующие события вызывали измененное состояние сознания, которое, в свою очередь, вызывало истерические симптомы. Жане назвал это изменение в сознании «диссоциацией»[19]. Брейер и Фрейд назвали его «двойным сознанием»[20].
И Жане, и Фрейд распознали важнейшее сходство между измененными состояниями сознания, вызванными психологической травмой, и состояниями, вызываемыми гипнозом. Жане полагал, что способность к диссоциации или гипнотическому трансу – признак психологической слабости и внушаемости. Брейер и Фрейд, напротив, утверждали, что истерия вместе со связанными изменениями сознания может обнаруживаться у «людей яснейшего ума, сильнейшей воли, величайшего характера и высочайших критических способностей»[21].
Как Жане, так и Фрейд признавали, что соматические симптомы истерии представляют собой замаскированные проявления вызвавших сильный дистресс событий, которые были изгнаны из памяти. Жане описывал своих пациенток с истерией как управляемых «подсознательными навязчивыми идеями», воспоминаниями о травмирующих событиях[22]. Брейер и Фрейд в своем бессмертном итоговом труде писали, что «люди с истерией страдают большей частью от реминисценций»[23].
К середине 1890-х эти исследователи также выяснили, что истерические симптомы могут сглаживаться, когда травматические воспоминания, равно как и сильные чувства, их сопровождавшие, заново открываются и облекаются в слова. Этот метод лечения лег в основу современной психотерапии. Жане называл эту технику «психологическим анализом», Брейер и Фрейд – «абреакцией» или «катарсисом», а позднее Фрейд переименовал ее в «психоанализ». Но самое простое и, пожалуй, лучшее название было придумано одной из пациенток Брейера – одаренной, интеллектуальной и тяжело больной молодой женщиной, которой он дал псевдоним Анна О. Она называла свой глубоко личный диалог с Брейером «лечением беседой»[24][25].
Это сотрудничество между врачом и пациенткой приобрело качества своего рода квеста, в котором ключ к тайне истерии мог быть найден с помощью скрупулезной реконструкции прошлого. Жане, описывая свою работу с одной пациенткой, отметил, что в процессе лечения раскрытие недавних травм открыло дорогу к исследованию более ранних событий. «Удаляя поверхностный слой иллюзий, я способствовал явлению старых и неуступчивых навязчивых идей, по-прежнему обитавших на дне ее сознания. Последние, в свой черед, исчезли, приведя, таким образом, к значительному улучшению»[26]. Брейер, описывая свою работу с Анной О., говорил о «прослеживании нити памяти»[27].
Дальше всех прошел по этой нити Фрейд, что неотвратимо привело его к изучению сексуальной жизни женщин. Вопреки старинной клинической традиции, которая признавала связь истерических симптомов с женской сексуальностью, наставники Фрейда – Шарко и Брейер – в высшей степени скептически отзывались о роли сексуальности в происхождении истерии. Сам Фрейд поначалу сопротивлялся этой идее:
«Когда я начал анализировать вторую пациентку… я был весьма далек от того, чтобы рассчитывать на сексуальный невроз как на основу истерии. Я только что окончил школу у Шарко и полагал связь истерии с половой тематикой своего рода оскорблением – как воспринимают ее и сами пациентки»[28].
Это подчеркнутое отождествление с реакциями пациенток характерно для ранних работ Фрейда об истерии. Описанные им случаи из практики раскрывают перед нами человека, одержимого страстной любознательностью, готового преодолеть собственные психические защиты и внимательно слушать. И то, что он услышал, его ужаснуло. Женщины неоднократно рассказывали ему о сексуальном насилии, унижениях и инцесте. Разматывая нить памяти, Фрейд и его пациентки обнаруживали важные травмирующие события детства, сокрытые под более недавними, часто сравнительно незначительными переживаниями, которые на самом деле служили триггером для начала проявления истерических симптомов. К 1896 году Фрейд верил, что обнаружил источник проблемы. В докладе о восемнадцати случаях из практики, озаглавленном «К этиологии истерии», он сделал драматическое заявление:
«Поэтому я выдвигаю тезис о том, что в основе каждого случая истерии лежит один или несколько эпизодов преждевременного полового опыта, которые относятся к самым ранним годам детства, но могут быть возвращены [в область сознания] с помощью психоаналитической работы, сколько бы ни миновало десятилетий. Я полагаю, что это важная находка, своего рода открытие caput Nili [истока Нила] в невропатологии»[29].
Столетием позже эта работа по-прежнему может посоперничать с современными клиническими описаниями последствий сексуального насилия, пережитого в детстве. Это блестящий, сострадательный, красноречивый, аргументированный и тщательно продуманный труд. Его триумфальное заглавие и ликующий тон указывают, что Фрейд рассматривал свою работу как высшее достижение в этой сфере.
В действительности же публикация «К этиологии истерии» лишь наметила грядущий отход от этой линии исследований. Не прошло и года, как Фрейд частным порядком отрекся от теории происхождения истерии как последствия психологической травмы. В своей переписке он ясно дает понять, что его все сильнее беспокоили радикальные социальные последствия этой гипотезы. Истерия была настолько широко распространена среди женщин, что, если истории его пациенток были правдивы, а его теория верна, Фрейд вынужден был бы прийти к выводу, что то, что он называл «извращенными актами против детей», было характерным явлением не только для пролетариата Парижа, где он начинал изучать истерию, но и в среде респектабельных буржуазных семейств Вены, где он основал свою практику. Эта идея была просто неприемлема. Поверить в нее было невозможно[30].
Столкнувшись с этой дилеммой, Фрейд перестал слушать своих пациенток. Этот поворотный момент отражен в знаменитой истории болезни Доры. Ее случай, последний из практических исследований Фрейда в области истерии, читается скорее как битва умов, чем как совместное предприятие. Взаимодействие между Фрейдом и Дорой описано как «эмоциональное сражение»[31]. В этом случае Фрейд все еще признает реальность опыта своей пациентки: подростком Дора была использована в затейливых сексуальных интригах ее отца. Отец, по сути дела, предлагал дочь своим друзьям в качестве сексуальной игрушки. Однако Фрейд отказывался признавать испытываемые Дорой чувства возмущения и унижения. Вместо этого он настаивал, чтобы она исследовала свое ощущение эротического возбуждения, словно ситуация сексуальной эксплуатации была исполнением ее желания. В ответ Дора прервала лечение – поступок, который Фрейд расценил как месть.
Распад их альянса знаменовал собой горький конец эпохи сотрудничества между честолюбивыми исследователями и пациентками с истерией. И в течение следующих почти ста лет этих пациенток снова отвергали и заставляли молчать. Последователи Фрейда были особенно злы на бунтарку Дору, которую впоследствии один из его учеников описал как «одну из самых отталкивающих истеричек, каких он знал»[32].
На руинах травматической теории истерии Фрейд построил психоанализ. Главная психологическая теория следующего столетия была основана на отрицании женской реальности[33]. Сексуальность осталась в ней центральным предметом изучения. Но эксплуататорский социальный контекст, в котором в действительности имеют место сексуальные отношения, оставался практически невидимым. Психоанализ стал исследованием внутренних перипетий фантазии и желания, оторванным от реальности опыта. К первому десятилетию XX века, даже не накопив никаких клинических данных, которые подтверждали бы существование ложных жалоб, Фрейд сделал вывод, что рассказы о сексуальном насилии в детстве его пациенток с истерией были неправдой:
«Я вынужден был признать, что эти сцены совращения никогда не имели места и что они представляли собой лишь выдумки, созданные моими пациентками»[34].
Отречение Фрейда означало закат героической эпохи истерии. С началом нового столетия вся линия исследований, начатая Шарко и продолженная его последователями, была предана забвению. Гипноз и измененные состояния сознания снова перешли в сферу оккультизма. Исследования психологических травм прекратились. Спустя некоторое время и саму истерию объявили практически исчезнувшей болезнью[35].
Этот драматический переворот не был делом рук одного человека. Чтобы понять, каким образом в исследованиях истерии мог произойти такой коллапс, как великие открытия могли быть столь быстро забыты, необходимо кое-что знать об интеллектуальном и политическом климате, изначально давшем стимул этим исследованиям.
Центральным политическим конфликтом во Франции XIX века была борьба между сторонниками монархии с государственной религией и приверженцами республиканской, светской формы правления. Семь раз, начиная с революции 1789 года, этот конфликт приводил к свержению правительства. С установлением в 1870 году Третьей республики отцы-основатели хрупкой новорожденной демократии развернули активную кампанию, чтобы консолидировать свою мощь и подорвать власть главного противника – католической церкви.
Республиканские вожди той эпохи были «сами себя сделавшими» выходцами из развивавшегося класса буржуазии. Они считали себя представителями традиции просвещения, вовлеченными в смертельную схватку с силами реакции – аристократией и духовенством. Главные политические сражения велись за власть над сферой образования. Идеологические – за лояльность мужчин и принадлежность женщин. Как выражается Жюль Ферри, отец-основатель Третьей республики, «женщины должны принадлежать науке, иначе они будут принадлежать церкви»[36].
Шарко, сын торговца, совершившего восхождение к богатству и славе, был видным представителем этой новой буржуазной элиты. Его салон стал местом встреч для правительственных министров и других именитых граждан Третьей республики. Он вместе со своими коллегами из правительства горел жаждой сеять в людских умах светские, научные идеи. Проведенная им в 1870-е годы модернизация Сальпетриера была сделана ради того, чтобы продемонстрировать преимущества светского обучения и управления больницей. А исследования истерии он проводил для того, чтобы показать превосходство светской картины мира над религиозной. Его «лекции по вторникам» были политическим театром. Его миссия состояла в том, чтобы утвердить власть науки над женщинами с истерией.
Формулировки истерии, данные Шарко, предлагали научное объяснение таких феноменов, как одержимость демонами, колдовство, экзорцизм и религиозный экстаз. Одним из его любимых проектов был ретроспективный диагноз истерии, отраженной в разные эпохи в произведениях искусства. Вместе со своим учеником Полем Рише он опубликовал собрание произведений средневекового искусства, иллюстрируя ими свой тезис о том, что религиозные переживания, изображенные в живописи, могут быть объяснены как проявления истерии[37]. Шарко и его последователи также вступали в ожесточенные дебаты с церковниками о современных мистических феноменах, в том числе о стигматиках, явлениях, видениях и исцелении верой. Особенно Шарко занимали чудесные исцеления, якобы происходящие в недавно созданном святилище в Лурде. Жане был озабочен возникновением в США христианской науки. Ученик Шарко Дезире-Маглуар Бурнвиль использовал установленные незадолго до этого диагностические критерии в попытке доказать, что знаменитая женщина-стигматик того времени, пламенно верующая Луиза Лато, на самом деле была истеричкой. Все эти феномены были объявлены примерами из сферы медицинской патологии[38].
Таким образом, именно крупное политическое движение стимулировало такой страстный интерес к истерии и дало импульс исследованиям Шарко и его последователей в конце XIX века. Раскрытие тайны истерии должно было стать триумфом светского просвещения над реакционными суевериями, а заодно и продемонстрировать моральное превосходство нового светского мира. Люди науки противопоставляли благосклонное покровительство по отношению к женщинам с истерией бесчинствам инквизиции. Шарль Рише, один из учеников Шарко, заметил в 1880 году:
«Среди пациенток, содержащихся в Сальпетриере, немало таких, кого в былые времена сожгли бы, чьи болезни были бы приняты за преступление»[39].
Уильям Джеймс десять лет спустя вторил этим мыслям:
«Среди всех многочисленных жертв медицинского невежества, прикрывавшегося авторитетом, бедным людям с истерией до сих пор приходилось хуже всего; их постепенная реабилитация и спасение будут входить в число филантропических завоеваний нашего поколения»[40].
В то время как эти ученые мужи считали себя благодетелями и спасителями, помогавшими женщинам подняться из униженного положения, им и в голову не приходила идея социального равенства между мужчинами и женщинами. Женщины должны были быть объектами изучения и гуманного отношения, а не самостоятельными субъектами. Те же мужчины, которые ратовали за просвещенный взгляд на истерию, часто противились допуску женщин к высшему образованию или «мужским» профессиям и категорически возражали против избирательного права для женщин.
В первые годы Третьей республики феминистское движение было сравнительно слабым. До конца 1870-х женские организации даже не имели права устраивать публичные мероприятия или публиковать свою литературу. На первом Международном конгрессе по правам женщин, проходившем в Париже в 1878 году, защитникам избирательного права для женщин не было разрешено выступить, поскольку их идеи сочли слишком революционными[41]. Понимая, что их судьбы зависят от выживания хрупкой новой демократии, защитники прав женщин обычно шли на уступки, чтобы сохранить консенсус внутри республиканской коалиции.
Но поколение спустя режим отцов-основателей прочно утвердился. Республиканское, светское правление во Франции не только выжило, но и процветало. К концу XIX века антиклерикальная битва была наконец выиграна. В то же время просвещенным мужчинам стало труднее выступать в роли защитников женщин, так как женщины теперь осмеливались говорить сами за себя. Воинственность феминистских движений из устоявшихся демократий Англии и Соединенных Штатов начала распространяться по континенту, и французские феминистки стали все решительнее защищать права женщин. Некоторые подчеркнуто критически отзывались об отцах-основателях и бросали вызов благодушному покровительству ученых мужей. Одна писательница-феминистка в 1888 году высмеяла Шарко за то, что он «препарировал женщин под предлогом изучения болезни», а также за его враждебность к женщинам, избиравшим медицинские профессии[42].
К началу следующего века политический импульс, породивший героическую эпоху истерии, исчерпал себя; больше не было никаких убедительных причин продолжать линию исследований, которая увела ученых мужей так далеко от изначально избранного места назначения. Исследования истерии заманили их в «нижний мир» транса, эмоциональности и секса. Теперь от них требовалось слушать женщин намного внимательнее, чем они рассчитывали, и узнавать о жизни женщин намного больше, чем они желали знать. Безусловно, ученые тех времен даже не намеревались изучать сексуальные травмы в жизни женщин. Коль скоро исследования истерии были частью идеологического крестового похода, открытия в этой сфере широко приветствовались, и ученых-исследователей прославляли за их гуманизм и смелость. Но когда политический импульс иссяк, те же исследователи с досадой обнаружили, что их компрометирует природа сделанных ими открытий и плотная вовлеченность в работу с пациентками.
Возврат к прежним позициям начался еще до смерти Шарко (он умер в 1893 году). Ему все чаще приходилось доказывать, что те самые публичные демонстрации истерии, которые так завораживали парижское общество, были достоверны. Широко расходились слухи о том, что эти представления были разыграны женщинами под гипнозом, которые, сознательно или нет, следовали сценарию, продиктованному их покровителем. В конце жизни Шарко уже откровенно сожалел о том, что открыл эту область исследований[43].
Как Шарко отступился от мира гипноза и истерии, так Брейер бежал из мира эмоциональных привязанностей женщин. Первый же опыт «лечения беседой» окончился поспешным бегством Брейера от Анны О. Возможно, он разорвал их отношения потому, что его жена была недовольна тесной связью мужа с этой обворожительной молодой женщиной. Брейер резко прекратил курс лечения, который включал длительные, почти ежедневные встречи с пациенткой на протяжении более чем двух лет. Этот внезапный разрыв спровоцировал кризис не только у пациентки, которую пришлось госпитализировать, но, по-видимому, и у врача, который пришел в ужас, осознав, что у его подопечной развилась страстная привязанность к нему. С последнего сеанса с Анной О он вышел «в холодном поту»[44].
Хотя Брейер впоследствии сотрудничал с Фрейдом в публикации описания этого экстраординарного случая из практики, исследования он вел с сомнением и без особой охоты. В особенности Брейера тревожило частое обнаружение сексуального опыта как источника истерических симптомов. Как жаловался Фрейд своему близкому другу, Вильгельму Флиссу, «недавно Брейер произнес в [Венском] обществе врачей большую речь обо мне, назвавшись новообращенным сторонником половой этиологии [неврозов]. Когда я лично поблагодарил его за это, он испортил мне всю радость словами: “И тем не менее я в это не верю”»[45].
Фрейд со своими исследованиями отважился дальше всех заглянуть в непризнанную реальность женской жизни. Его открытие, касающееся сексуальной эксплуатации в детстве как корня истерии, превысило лимит доверия общества и сделало автора объектом тотального остракизма в профессиональных кругах. Публикацию статьи «К этиологии истерии», которая, по расчетам Фрейда, должна была принести ему славу, встретило гробовое молчание как старшего поколения, так и его сверстников. Как он вскоре после этого писал Флиссу, «я изолирован настолько, насколько это вообще можно представить: как будто все сговорились меня покинуть, и вокруг меня образуется пустота»[46].
Последующий уход Фрейда из исследований психологических травм позднее стали расценивать как скандальный[47]. Его ругали за отречение, называя это проявлением личной трусости[48]. Однако участие в подобного рода личных нападках – своеобразный пережиток эпохи самого Фрейда, когда достижения в области знаний считались прометеевскими подвигами одинокого гения-мужчины. Какими бы неоспоримыми ни были его аргументы и наблюдения, открытия Фрейда не могли добиться общественного принятия в отсутствие политического и социального контекста, который поддерживал бы изучение истерии, независимо от того, куда это может привести. Такой контекст во Франции быстро исчезал, а в Вене его и вовсе никогда не существовало. Соперник Фрейда Жане, который не бросил своей травматической теории истерии и не отказался от пациенток с истерией, стал свидетелем того, как его работы предавались забвению, а от идей отказывались.
Интересно, что со временем отречение Фрейда от травматической теории истерии сделало его в этом отношении догматиком. Человек, который продвинул соответствующие исследования дальше всех и осознал их последствия наиболее полно, впоследствии пришел к их самому жесткому отрицанию, а в процессе резко отрекся от своих пациенток. Хотя их сексуальная жизнь по-прежнему оставалась главным фокусом его внимания, он перестал признавать реальность опыта сексуальной эксплуатации. С упрямой настойчивостью, которая подталкивала его ко все большему искажению теории, он настаивал, что эпизоды сексуального насилия, на которые жаловались женщины, были выдуманы пациентками и отражали их скрытые желания.
Пожалуй, стремительный характер отречения Фрейда можно понять, учитывая тяжесть испытания, с которым он столкнулся. Твердо держаться за свою теорию значило для него признать, насколько глубока бездна сексуального угнетения женщин и детей. Единственным потенциальным источником интеллектуальной валидации и поддержки для этой позиции было зарождавшееся феминистское движение, угрожавшее патриархальным ценностям, которыми дорожил Фрейд. Вступить в альянс с подобным движением было немыслимо для человека таких политических убеждений и профессиональных амбиций, которые были характерны для Фрейда. Слишком активно воспротивившись этому, он разом разорвал связь и с исследованиями психологической травмы, и с женщинами. Впоследствии он взялся разрабатывать теорию человеческого развития, в которой неполноценность и лживость женщин являются фундаментальными положениями всей доктрины[49]. В антифеминистском политическом климате эта теория благоденствовала и процветала.
Единственной из первой плеяды исследователей, кто продолжил изучение истерии до его логического завершения, была пациентка Брейера, Анна О. После того как Брейер отказался от нее, она, по-видимому, болела еще несколько лет. А затем выздоровела. Когда-то лишенная голоса женщина с истерией, придумавшая термин «лечение беседой», вновь обрела свой голос и спасение в движении за освобождение женщин. Под псевдонимом Пауль Бертольд она перевела на немецкий язык классический трактат Мэри Уолстонкрафт «В защиту прав женщин» и написала по его мотивам пьесу «Права женщин». Под собственным именем – Берта Паппенгейм – она стала видной феминистской общественной деятельницей, интеллектуалкой и организатором. За свою долгую и плодотворную карьеру она успела побывать директрисой сиротского приюта для девочек, основала феминистскую организацию для евреек, путешествовала по всей Европе и Ближнему Востоку, ведя кампанию против сексуальной эксплуатации женщин и детей. Ее решимость, энергия и преданность делу были поистине легендарными. По словам одной коллеги, «в этой женщине бурлил вулкан… Свою борьбу против насилия в отношении женщин и детей она ощущала почти как физическую боль»[50]. После ее смерти философ Мартин Бубер писал в память о ней:
«Я не только восхищался ею, но и любил ее и буду любить до своего смертного часа. Есть люди духа – и есть люди страсти; и те, и другие встречаются не так уж часто. Еще большая редкость – люди, объединяющие в себе дух и страсть. Но редчайшие из всех – обладающие страстным духом. Берта Паппенгейм была как раз одной из них. Не дайте умереть памяти о ней. Позаботьтесь о том, чтобы она продолжала жить»[51]. В своем завещании Берта выражает желание, чтобы те, кто придет на ее могилу, оставляли на ней по маленькому камешку – «как тихое обещание… служить миссии женских обязанностей и женской радости… непоколебимо и отважно»[52].
12
H. Ellenberger, The Discovery of the Unconscious (New York: Basic Books, 1970). С. 142.
13
M. Micale, «Hysteria and Its Historiography: A Review of Past and Present Writings», History of Science 27 (1989). С. 223–267 и 319–351, цит. cтр. 319.
14
Более полное обсуждение влияния Шарко см. в работах: Ellenberger, Discovery of the Unconscious; G. F. Drinka, The Birth of Neurosis: Myth Malady and the Victorians (New York: Simon & Schuster, 1984); E. Showalter, The Female Malady: Women, Madness, and English Culture, 1830–1980 (New York: Pantheon, 1985); J. Goldstein, Console and Classify: The French Psychiatric Profession in the Nineteenth Century (New York: Cambridge University Press, 1987).
15
A. Muntle. Цит. по кн. Drinka, The Birth of Neurosis. С. 88.
16
S. Freud, «Charcot», [1893] в изд. Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud (далее Standard Edition). Т. 3 / Пер. с нем. J. Strachey (London: Hogarth Press, 1962). С. 19.
17
C. Goetz (ред. и пер.) Charcot the Clinician: The Tuesday Lessons. Excerpts from Nine Case Presentations on General Neurology Delivered at the Salpêtrière Hospital in 1887—88 (New York: Raven Press, 1987). С. 104–105.
18
Это соперничество выродилось в пожизненную вражду. Каждый претендовал на первенство в открытии и принижал работу другого как производное от его собственной. См.: C. Perry and J. R. Laurence, «Mental Processing Outside of Awareness: The Contributions of Freud and Janet» // В сб. The Unconscious Reconsidered / Под ред. K. S. Bowers, D. Meichenbaum (New York: Wiley, 1984).
19
P. Janet, L’automatisme psychologique: essai de psychologie expérimentale sur les formes inférieures de l’activité humaine (Paris: Félix Alcan, 1889; Paris: Société Pierre Janet/Payot, 1973).
20
J. Breuer and S. Freud, «Studies on Hysteria», [1893—95] в Standard Edition. Т. 2 / Пер. с нем. J Strachey (London: Hogarth Press, 1955).
21
Там же. С. 13.
22
По словам Элленбергера, Жане первым стал употреблять слово «подсознание». Ellenberger, The Discovery of the Unconscious. С. 413, прим. 82.
23
Breuer and Freud, Studies on Hysteria. С. 7.
24
Авторство этого термина, сегодня широко применимого к любому виду разговорной терапии и являющегося синонимом определения «разговорная терапия», таким образом, принадлежит пациентке, описывающей свой инсайдерский опыт в терапевтических отношениях, пока они еще были сотрудничающими.
25
Там же. С. 30.
26
P. Janet, «Etude sur un case d’aboulie et d’idées fixes», Revue Philosophique 31 (1891) / Пер. и цит. по: Ellenberger, Discovery of the Unconscious. С. 365–366.
27
Breuer and Freud, Studies on Hysteria. С. 35.
28
Там же. С. 259–260.
29
S. Freud, «The Aetiology of Hysteria», [1896], в Standard Edition. Т. 3 / Пер. с нем. J. Strachey (London: Hogarth Press, 1962). С. 203.
30
M. Bonaparte, A Freud, and E. Kris (ред.), The Origins of Psychoanalysis: Letters to Wilhelm Fliess, Drafts and Notes: 1887–1902, by Sigmund Freud / Пер. E Mosbacher and J. Strachey (New York: Basic Books, 1954). С. 215–216.
31
S. Freud, Dora: An Analysis of a Case of Hysteria, ред. P. Rieff (New York: Collier, 1963). С. 13. Феминистскую критику случая Доры см. в работах: H. B. Lewis, Psychic War in Men and Women (New York: New York University Press, 1976); C. Bernheimer, and C. Kahane (ред.), In Dora’s Case: Freud-Hysteria-Feminism (New York: Columbia University Press, 1985).
32
F. Deutsch, «A Footnote to Freud’s ‘Fragment of an Analysis of a Case of Hysteria’», Psychoanalytic Quarterly 26 (1957). С. 159–167.
33
F Rush, «The Freudian Cover-Up», Chrysalis 1 (1977). С. 31–45; J. L. Herman, Father-Daughter Incest (Cambridge: Harvard University Press, 1981); J. M. Masson, The Assault on Truth. Freud’s Suppression of the Seduction Theory (New York: Farrar, Straus & Giroux, 1984).
34
S. Freud, «An Autobiographical Study», [1925], в Standard Edition. Т. 20 / Пер. с нем. J. Strachey (London: Hogarth Press, 1962). С. 34.
35
I. Veith, «Four Thousand Years of Hysteria» // В сб. Hysterical Personality, ред. M. Horowitz (New York: Jason Aronson, 1977). С. 7—93.
36
Цит. по кн.: P. K. Bidelman, Pariahs Stand Up! The Founding of the Liberal Feminist Movement on France, 1858–1889 (Westport, CT: Greenwood Press, 1982). С. 17.
37
J. M. Charcot and P. Richer, Les démoniaques dans l’art [1881]; (Paris: Macula, 1984).
38
Goldstein, Console and Classify.
39
Цит. и пер. по: Goldstein, Console and Classify.
40
W. James, «Review of Janet’s essays, ‘L’état mental des Hystériques’ and ‘L’amnésie continue,’» Psychological Review 1 (1894). С. 195.
41
Об истории феминистского движения в XIX в. во Франции см.: Bidelman, Pariahs Stand Up!; C. G. Moses, French Feminism in the Nineteenth Century (Albany, NY: State University of New York Press, 1984).
42
Цит. по кн.: Goldstein, Console and Classify. С. 375.
43
G. Tourette, «Jean-Martin Charcot», Nouvelle Iconographie de la Salpêtrière 6 (1893). С. 241–250.
44
E. Jones, The Life and Work of Sigmund Freud (New York: Basic Books, 1953); M. Rosenbaum, «Anna O (Bertha Pappenheim): Her History» // В кн. Anna O: Fourteen Contemporary Reinterpretations / Под. ред. M. Rosenbaum, M. Muroff (New York: Free Press, 1984). С. 1—25.
45
Bonaparte et al. The Origins of Psychoanalysis. С. 134.
46
Фрейд, письмо Вильгельму Флиссу от 4 мая 1896 г… Цит. по кн.: Masson, Assault on Truth. С. 10.
47
Masson, Assault on Truth; J. Malcolm, In the Freud Archives (New York: Knopf, 1984). Судебная тяжба между Массоном и Малкольмом все еще продолжалась на момент создания этой книги.
48
Masson, Assault on Truth.
49
Феминистская критика фрейдовской трактовки психологии женщин обширна. Два классических примера: K. Horney, «The Flight From Womanhood: The Masculinity Complex in Women as Viewed by Men and by Women», International Journal of Psycho-Analysis 7 (1926). С. 324–329, и K. Millet, Sexual Politics (New York: Doubleday, 1969).
50
Цит. из работы: M. Kaplan, «Anna O and Bertha Pappenheim: An Historical Perspective» // В кн. Rosenbaum and Muroff, Anna O. С. 107.
51
Цит. из работы: M. Rosenbaum, «Anna O (Bertha Pappenheim): Her History» // В кн. Rosenbaum and Muroff, Anna O. С. 22.
52
Цит. из работы: Kaplan, «Anna O and Bertha Pappenheim». С. 114.