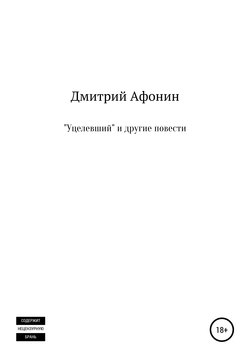Читать книгу «Уцелевший» и другие повести - Дмитрий Афонин - Страница 1
Уцелевший
Оглавление19 июля 2018 года в большинстве российских и некоторых зарубежных СМИ появилась новость о том, что при проведении работ по капитальному ремонту в Иоанно-Богословском монастыре в Рязанской области в стене одной из келий был обнаружен тайник. В нем находилась рукопись, предварительно датируемая серединой XIII века, подтверждающая существование Евпатия Коловрата как реального исторического персонажа. Внутри стены чудом сложился благоприятный микроклимат, и текст на одной тетради из подшитых палимпсестов1, для экономии места написанный без полей и не сопровожденный миниатюрами2, удалось восстановить.
Монголо-татары разоряли Рязанское княжество не единожды, но Богословскому монастырю, в котором нашли сенсационную рукопись, каждый раз удавалось уцелеть. Обитель оказалась вдалеке от основных путей передвижения татарских войск, и если первое время монголы еще опасались трогать «шаманов» северной страны в их храмах, то в дальнейшем они благоразумно не стали посылать в нее отряд, чтобы его не перебили скрывавшиеся в лесу ополченцы. Возможно еще и то, что монастырь, построенный в глухом мещерском бору, попросту не стали искать.
Найденная в обители рукопись создана одним из нескольких уцелевших соратников Евпатия, которым татаро-монгольский хан отдал тело убитого Коловрата, по версии древнерусской «Повести о разорении Рязани Батыем», в знак уважения перед мужеством русских воинов, вступивших в схватку с заведомо превосходившими силами противника.
Эпизод о Коловрате входит в «Повесть о разорении Рязани Батыем», которая в свою очередь содержится в единственном сохранившемся от рязанской литературы того времени памятнике – своде относительно самостоятельных произведений, созданном и пополнявшемся при церкви Николы в городе Заразске Рязанского княжества3 с XIV по XVI века. Исследователи, утверждающие, что Евпатий Коловрат – вымышленный фольклорный персонаж, опираются на следующее: история о нем встречается только в «Повести о разорении Рязани Батыем», ни в одном другом древнерусском тексте упоминания о Евпатии нет. Более того, в ранних списках Заразского свода нет и самого эпизода с Коловратом.
Дело в том, что в старину центрами грамотности были церкви и монастыри. Книгопечатания еще не существовало, и, чтобы обитель могла иметь у себя необходимый текст, его переписывали вручную. Как это бывает и при устном пересказе, при переписывании художественного текста монахи часто изменяли его согласно собственным убеждениям и текущей политической ситуации. Последующий переписчик, соответственно, изменял текст, уже «актуализированный» его предшественником. Так, например, житие святых мучеников Бориса и Глеба, одно из наиболее читаемых произведений на Руси, дошло до нас более чем в 250 списках.
На сегодняшний день известно 34 списка «Повести о разорении Рязани Батыем». Первые из них относятся к началу XIV века, и в них нет ни истории о перенесении чудотворной иконы Николы Заразского, ни плача Ингваря Ингваревича, ни вставной новеллы о подвиге Евпатия. К середине XIV века в списках уже встречаем добавленную историю о Заразской иконе, а к рубежу XIV-XV веков впервые появляется история о Коловрате. Этот факт дополнительно подтверждает то, что история о Евпатии, внешне носящая фольклорные элементы, была привнесена в «Повесть…» из устных народных преданий одним из позднейших переписчиков.
Некоторыми исследователями называется и причина внесения патетической истории о мужественном сражении русского православного воина с безбожными татарами. Предполагается, что она как нельзя кстати пришлась именно в XVI веке – времени походов и окончательного завоевания Иваном Грозным Казани. Более того, лишь к этому времени простой русский человек мог в действительности уверовать, что татаро-монгольское иго можно свергнуть. В XIII веке Русь была подавлена, деморализована захватчиками и, как показывает история, не смогла родить ни одного серьезного литературного произведения. Найденная же в рязанском монастыре тетрадь стала весомым доказательством того, что история о Коловрате не была придумана народом, а происходила в действительности: автор этого текста называет себя одним из немногих уцелевших воинов из отряда Евпатия, которым Батый отдал его тело.
Как уже упоминалось выше, на сегодняшний день известно несколько списков «Повести о разорении Рязани Батыем», содержащих «каноническую» истории о Коловрате, однако обнаруженная рукопись – это абсолютно иное по стилю произведение не только о легендарном богатыре, но и для всей древнерусской литературы в целом. Результаты палеографического4 и радиоактивного5 анализов находки были опубликованы почти одновременно – спустя четыре месяца после обнаружения тетради – и подтвердили то, в чем у ученых изначально не было сомнений: текст действительно является памятником середины XIII века, а не более поздней подделкой. Этот факт еще раз доказывает то, что Русь до татаро-монгольского нашествия уже обладала самобытной и высокой культурой. Причинами того, что текст Миколы-Пафнутия по стилю так разительно отличается не только от современных ему, но и от последующих произведений древнерусской литературы, исследователи считают то, что рукопись создана фактически не священнослужителем, всецело зависящим от церковных и светских властей и впитавшим русский литературный канон, а, во-первых, булгарином6 царских кровей, аманатом7, юридически подданным другого государства, а во-вторых, начальником службы безопасности и контрразведки Рязанского княжества, с юных лет привыкшим к самостоятельности и независимости суждений.
Вкратце напомним содержание «Повести о разорении Рязани Батыем». «Въ лето 67458 прииде безбожный царь Батый на Русскую землю» со множеством воинов, встал на реке Воронеже «близ Резанскиа земли» и запросил десятую часть «во князех, и во всяких людех, и во всем». Владимирский князь в помощи рязанцам отказал. Тогда великий рязанский князь Юрий послал к татарам с дарами сына Федора, чтобы Батый «не воевал Резанския земли». Батый «притворно» это пообещал, но стал просить у рязанских князей9 дочерей и сестер «собе на ложе». «Некий от велмож резанских» донес монгольскому хану, что жена Федора «лепотою-телом красна бе зело». Федор от лица христиан водить жен к Батыю отказался, и хан велел перебить рязанское посольство. Жена Федора, услышав об этом, бросилась с сыном с «превысокаго храма». Великий князь Юрий собрал войско, пошел на Батыя и стал мужественно биться с ним около рязанских границ, но погиб вместе с несколькими другими рязанскими князьями. Батый разорил Пронск, Белгород Рязанский, Ижеславец и осадил Рязань. На 6-й день противостояния город пал, и татары не оставили в нем ни одного живого.
Рязанский вельможа Евпатий Коловрат был в то время в Чернигове. Услышав о нашествии, он с «малою дружиною» помчался в Рязань. Увидев разоренный город, «Еупатий воскрича в горести душа своея и разпалаяся въ сердцы своем», собрал «мало дружины» – 1700 человек, которых «бог соблюл вне града», нагнал татар, внезапно напал на них и начал сечь их «без милости». Татары, помня, что в городе не осталось ни одного живого, решили, что мертвые восстали и мстят им, и запаниковали. Пятеро с трудом захваченных русских пленных, «изнемогших от великых ран», поведали монголам, что они «от полку Еупатиева Коловрата». Батый послал биться с Евпатием один на один богатыря Хостоврула, но Коловрат «рассек его на половины до седла». Тогда татары стали стрелять по Евпатию из камнеметных орудий и едва смогли его убить. Батый отдал «тело Еупатево его дружине останочной, которые поиманы на побоище» и велел их «отпустить, ничем не вредить».
Рукопись, написанная одним из этой «дружины останочной», сначала вызвала большое воодушевление, так как явилась доказательством того, что история о Евпатии не была рождена безымянным коллективным сознанием народа, а происходила в действительности. Однако, когда волнение улеглось и ему на смену пришло планомерное научное изучение литературного памятника, этот факт стал все больше подвергаться сомнению.
Однако обо всем по порядку. Приведем сначала текст найденной рукописи, в современном изложении10.
А повесть сею пишу я, смиренный монах Пафнутий, сидючи в келье своей в Богословском монастыре в княжестве Рязанском в лето 676511. Не ведомо, сколь еще Господь отпустит мне веку, сколь еще землю мне топтать и хлеб монастырский жевать, да только чую я, что конец мой приходит. Привиделось мне намедни странное: будто детство мое, и утро раннее, и играюся я у нас дома во внутреннем дворе у фонтана, а батька мой вышел и смотрит на меня – улыбается, радостный, и солнце ему, радостному, глаза слепит. Никогда такого и не было вовсе: угрюмый он всегда был, никогда дома от дел и не бывал, почитай, а когда и был, не смотрел на меня, лишь изредка. А тут проснулся я утром в келье своей, солнце в глаза бьет, а я радостен, да плачу, слезы ручьями по щекам текут, а мне так легко вдруг на душе стало… Тут и понял я, что это батька покойный меня к себе зовет: заскучал ли, про меня вспомнил… И сделалось сразу мне так легко, и стал я в дорогу собираться. Стал поститься да читать молитвы покаяния. Игумену сказал, что исповедаться хочу. Брехались мы до того с ним нещадно, не терпели друг друга, а тут сошлися, аки братья во Христе, и покаялся я, как полагается, а отец Игнатий покаяние мое принял да грехи мне отпустил.
Причастился я после того, на милостыню оставил хорошо и стал ждать смерти. А она все нейдет. «Дело, может, тебя какое держит?» – спрашивает игумен. Стал я думать. Пожалуй, что и так. Сидит во мне горесть, нет мне покою с того, что сойду я в могилу и унесу с собою то, что собирал с усердием и кропотливостью всю жизнь. Ныне люди живут, как рабы, жизни иной не ведают, а мы жили, как последние свободные люди, о жизни такой собачьей и помыслить не могли. Сейчас каждый стремится угодить татарину, робость пред ним великую имеет, а мы еще сражалися, еще рубили их, окаянных, и была нам в том радость и свобода. Да только кого ж в том винить, что дети наши и внуки живут, как рабы? Сами мы в том и виноваты. Наказание это нам за грехи наши, а всего более – за гордыню. Не захотели сплотиться пред лицом врага единого, каждый свою гордыню лелеял, вот и получили по заслугам. Встанет ли еще Русь, иль вскоре сотрется и сама память о ней?
Об этом, получается, и хотел я поведать, это мне покою и не давало, да только кто ж мне даст? Ингварь12 этот бестолковый как засадил меня сюда, так и сижу тут взаперти уж 18 лет, да и церковники все за князьков этих новых, тож за животы свои трясутся да чтобы хлеб их у них не отымали… Как пришли татарове в лето 674713 опять на Русь и Рязань тож вдругорядь разорили да после того совсем уж нас под пяту взяли, Ингварь этот, как из Орды вернулся14 да как понял, что уж я-то стелиться пред татарвой не буду да и действия свои по-прежнему кой-какие предпринимаю, сам ко мне пришел. Тут уж, поди, вспомнили, что самолично я на Батыгу15 ходил, что видел его пред собой, как вот Ингваря сейчас, и что, если б дали, бросился б из последних сил на эту собаку татарскую и задушил б его своими руками! Ты-то, Ингварь Ингваревич, тогда в Чернигове отсиделся, когда мы с Евпатием кровушку свою в болотах у Плещеева озера проливали, оттого к тебе у татарвы спросу и не было…
Не один – уж надо думать! – Ингварь тогда ко мне пришел, а с охраной своей скромной. Вошел-то ко мне в палаты один, да уж позаботился до того, чтоб я дружинников его увидал. Ну и вроде как по-хорошему попросил меня побыть малость в Богословском монастыре, пока татарове лютовать перестанут. То, что побыть мне в нем придется вовсе не малость, понял я сразу, когда предложили мне принять монашеский постриг. Поползал после того я немного на пузе и стал прозываться Пафнутием16. Знамо дело, не был бы я талем, царских булгарских кровей, со мною бы вообще разговаривать не стали: Ингварь этот осторожный давно б уж приказал меня для верности по-тихому жизни лишить. Недаром, князь, Господь тебе детишек не дал: выстлался ты под иноземцами проклятыми да отчизну свою на разграбление им отдал. В лето 676017 Олега Красного с Орды отпустили; мелькнула у меня тогда мысль к нему на службу попроситься, да плюнул: уж не для того он чрез 14 лет из плена вернулся, чтоб мятежи подымать18. Так и вышло: в этом году, мне уж пересказали, татарские численники у нас перепись учинили, чтоб сподручнее было с нас дань тягать. Церковников вот, правда, считать не стали… Дань-то ладно – ратников у нас стали брать для войска своего поганого! А то, что чернецом да схимником ты стал, Олег, думаешь, поможет тебе пред лицом Господа нашего?!. Тьфу, проклятые! Тошно мне с вас… Так вот 19-й год здесь и сижу…
Как бы там ни было, а решил я, что буду писать, а рукопись прятать буду. Найдут да отымут – так тому и быть: значит, таков промысел Божий, а коль не найдут и успею я изложить все, что хочу, так узна́ют потомки правду о жизни нашей, о временах минувших. Тех, кто книги богослужебные переписать может, и ране было раз, два и обчелся, а уж с почерком, как у меня, и подавно, а теперь во всем княжестве Рязанском нас по пальцам перечесть можно. Помню, как потешались надо мною княжеские прихвостни, что я, как чернец какой, неделями над книгой сидеть могу, сам ее переписывать, на что я им при Ингваре Игоревиче и ответствовал: «Что ж, стало быть, вы и князя Волынского Владимира Васильевича чернецом назовете? Раз он, глаголящий так ясно от книг, будучи философом великим, не гнушается их собственноручно переписывать да в храмы и монастыри вкладывать, стало быть, и нам не зазорно то должно быть». Вот и вышло, что нужен я игумену оказался. Кто ж ему кроме меня хоть главные книги для богослужения и монашеского делания восполнит? У него ж нет ничего… Вот и переписываю для него, как полагается, по телятине в день, а что кож19 на самом деле больше уходит, чем я назад исписанных отдаю, не говорит мне ничего. Либо не понимает, либо заботами о животе своем боле занят, либо глаза на то закрывает: лишь бы я книги множил. Но и я стараюсь не наглеть – пишу на палимпсестах, без полей и для миниатюр места уж не оставляю: сохранился б труд мой хоть так… Список иконы Николы Заразского разве что вот в келью себе испросил. Поднял на ней руки Никола, будто от врагов меня да и всех людей русских оберегает… Хоть и не проверяют меня, а все ж пишу из опаски все более ночами: все равно сон ко мне, старику, уж давно нейдет – да прячу шкуры в выемку в стене. Не ведомо мне, кто тут до меня обретался, но сделал он хитро так, что кирпич один вынается, а за ним лакуна некая сделана – узкая, но кожи спрятать можно. Так и пишу, ночами, и жизнь моя вся будто проходит предо мною заново…20
Булгарин я по роду-племени, да царских кровей к тому ж. Взял меня о тринадцати годах Юрий Всеволодович Владимирский талем, чтоб булгары на землю русскую войной ходить не помышляли, да передал сразу Ингварю Игоревичу Рязанскому, который о ту пору рядом оказался: говорили, недосуг тогда какой владимирскому князю был. И хоть ходили потом булгаре на Русь, да только русские вперед них на булгар сами ходили, да не единожды. Оттого, думаю, про меня будто бы и забыли. А скорее всего, и впрямь забыли, ибо не нужен я тут был никому. Узнал я потом, что невзлюбил новый царь булгарский отца моего, брата своего двоюродного, и когда запросил владимирский князь, по обычаю, талей из царской семьи, рёк так: «У тебя жена плодовита – молода еще, а уж шестым на сносях – вот и отдай на Русь кого из твоих сыновей». Знаю, что мать плакала, а почему меня из всех братьев отдали, мне не ведомо. Отец с матерью приезжали на Русь после того с послами булгарскими два раза. Виделись мы на пиру, да поговорить толком нельзя было. Отец все сух был, ибо не в стать булгарскому воеводе слабость свою показывать, а мать только плакала, да на меня смотрела, да руки тянула. Она еще потом, после отцовской смерти, умудрилась как-то на Русь попасть, да только меня о ту пору не было: уехал я с Рязани в Киев учиться, а мать про то и не знала…
Владимирский князь так про меня и не вспомнил, а Ингварь Игоревич напоминать ему не стал. Отдали меня мамкам да нянькам, и стал я содержаться вместе с другими детьми у него при дворе. Имя мое спросили, да только выговорить не смогли; показалось кому, будто на Миколу похоже. Оттого плюнули и после крещения стали называть Миколой, Миколиным сыном.
Ничего от меня у князя при дворе не требовалось, да только само как-то вышло, что сызмальства стал я показывать успехи в ратном деле, а более всего в науке книжной. И давалось мне то легко, будто играючи. Заметил то великий князь и послал меня учиться в Киев, а после того еще много куда. Говорили ему еще тогда: зачем ты, князь, пригрел на груди змееныша косоглазого – вражеских он кровей, булгарских, вырастишь татя-шпиона21, пригреешь у себя на груди, а он, гляди, когда меньше всего ждешь, и укусит. Но вера мне отчего-то была от князя великая, не слушал он наветчиков, и возлюбил я его всем сердцем, отцом его вторым почитать стал.
Как отучился я в Киеве да и в других местах побывал, поступил я к князю на службу. Доверял мне князь, и я верой и правдой ему служил, и стал он со временем давать мне такие загадки, которые не каждому боярину иль воеводе даст. А надобно сказать, что было мне о ту пору всего 22 годка. Во внуки я его боярам, воеводам да церковникам брюзглым годился. И косоглазым меня прозывали, и татем, и нехристем – а мне все едино было. Не было во мне тогда страха, будто выжегся он здесь, на чужбине, разом, будто остался там, в моей далекой родине, вместе с родными моими да моим детством. Языков я уж к тому времени порядком знал, с людьми разных племен общался едино, ни пред кем предпочтенья не делал, связей с отчизной булгарской не имел да на Руси интересов ничьих не придерживался. А память имел – что твоя вивлиофика: раз бумагу какую увидал, так и много времени спустя мог сказать, что там написано было. Потому-то и стал я понемногу ведать у Ингваря Игоревича, какие народы могут княжеству нашему угрожать, кто из других князей замыслил противу Рязани чего недоброе да где заговор какой против князя зреет. Жизнь не раз ему спасал. Говорили про меня, что колдую я, а я только загодя ко всему готовился, с людьми разными разговаривать умел да выводы потом верные делал. Доступ к казне, почитай, имел полный да в расходах не скупился, оттого подловить меня пытались не единожды, да только я смеялся: не нужны мне были их деньги.
По моему разумению, первый я тогда во всем княжестве Рязанском понял, какая нам от татар поганых беда придет. Русские же князья да и наш Ингварь Игоревич о ту пору дальше носа своего видеть не хотели: все только о своих престолах пеклись да помышляли, как бы чужой захватить. С половцами кое-как за два века справились и успокоились, в мелочные раздоры свои вступили. Сначала жить особо захотели те, до кого половцы и не докатывались никогда – Новгород да Псков. После того обособились Галич, Волынь и Чернигов, а за ними и все остальные. А я уж задолго до Калка22 про монголов все вызнавать начал да князю нашему докладывать, да только не слушал он меня.
Давно я ему еще говорил, как мне рассказывали пленные половцы и булгаре да доносили купцы азиатские подкупленные, что разрослись да осмелели монголы при своем царе Чагонизе23. Перебил Чагониз в отместку за отца своего всех татар кроме детей, что были ниже тележного колеса, после чего прозванье то перекинулось на самих монголов. После того пошли они войною на китайцев, коих была тьма несметная, как саранчи, да перебили до половины из них, а ремесленников их искусных в плен увели. Монголы тем еще сильны, говорили, что перенимают у племен покоренных лучшие их умения. По́роки те камнеметные24, что они до нас по снегу на полозьях дотащили и страху у нас тут ими навели, они у китайцев взяли. А мы-то в Рязанском княжестве, хоть и громили половцев постоянно, татар этих и в глаза не видели. Ни оружия их не видали да на себе не пробовали, ни повадок их военных не знали, а меж тем они сами у нас тут на Руси 14 лет назад побывали да все высмотрели: Джебе с Себядяем одноглазым по приказу Чагониза25 приходили да на Калке нас разбили26.
Говорил я князю, что выпытал у послов монгольских, что хочет Батыга аж до моря Понтского27 дойти, да чрез наши рязанские земли, да только смеялся князь над моими словами. «Как то может быть – столько верст пройти! Не можно этого одному человеку: уж где-нибудь, а споткнется…» Взяли после того монголы половцев, мордву, булгар, буртасов и аланов. Тут уж сбегов28 много пошло, особливо к князю владимирскому, да только и тут не захотели верить князья угрозе татарской.
Ничему их до того Калк проклятый не научил. Разломали их татарове по отдельности, как прутики от веника, да еще с таким позором! Сколько ж желчи в вас было, когда сек вас враг единый, а вы и пред тем козни друг другу чинили? Не то что договориться и ратью единой на монголов напасть – вы друг другу-то говорить не стали, кто что делать измыслил… Оттого-то и смяли тебя, Мстислав Святославич29, с сыном твоим Дмитрием свои же союзные половцы, когда татары нежданно свежими силами по половцам вдарили и они назад, к переправе, побежали. А тебе, князь киевский, спокойно там, за переправой, в своем стане укрепленном сиделось, когда видел ты все то, а на помощь черниговцам не пришел? Много ль времени прошло, как у самого тебя горло пересохло30 и поверил ты вражеской клятве, что, коль сдадитесь им на милость, крови вашей они не прольют? Как потешалась потом над тобой татарва, что клятву они-де сдержали: ни капли крови из вас не вышло, когда положили они на вас доски и сели на них пировать!
Сколько раз ходил я к тебе, Ингварь Игоревич, на поклон после Калка, просил города княжества Рязанского крепить, заставы ставить, а более того с соседями миритися да объединятися? Отмахивался ты от меня, думал, раз поворотили татары назад после Калка, то не придут вдругорядь? Не верил ты мне, что то лишь разведка была, что вернутся окаянные тьмою бесчисленной да Русь до основания и изничтожат. Так и вышло: пришел Батыга, Чагонизов внук, с Себядяем проклятым и поставил нас на колени.
Забоялся я, чего греха таить, застрашился я монголов, как только стали мне про них вести приносить. Никого я досель в жизни не боялся – а тут застрашился. Чуть не каждого пленного лично допрашивал, что ему о татарах ведомо. Недруги, уж знаю, сами потешаться надо мною начали да пред князем Ингварем Игоревичем на смех подымать, да только не трогало то меня. Зато они же потом и нашептывали Юрию31, будто это я наколдовал-накаркал по-своему, по-булгарски, когда и впрямь пришли татарове на Рязань.
Так не один я монголов боялся так. Как прочел я в одной летописи пред самым заточением своим, людям и хлеб во уста не идет от страха, как представят, что Батыга с повозками да вельбудами32 своими явится да под стенами у них встанет. Серапион Владимирский вон как молит народ покаяться… Да только прав он, нечего и сказать: наказание это Божие – за гордыню нашу, ни за что боле… Моисей, игумен Выдубицкого монастыря, на что уж многоумен был, и тот не сдержался, сам страху волю дал и на других его нагнал: брякнул вслед за Мефодием Патарским, что, по пророчеству Иезекиилеву, пришли последние дни наши, ибо татарове – суть дикий и кровожадный народ Гога и Магога, который заклепал в горах Александр Македонский. Долго я, признаться, думал, но решил-таки послать к нему человечка верного, с уважением превеликим, подарками и гостинцами от рязанского князя, будто бы по делу книжному, а на деле, чтоб не нагонял боле игумен на людей страху, и скончался тот чрез неделю от хвори неведомой, вдруг его охватившей. А все ж, по правде, жалко его: зело учен был игумен…
Много я думал, отчего это монголам уж, почитай, полмира удалось захватить. Каждого сбега, каждого купца, который хоть что-то про них мог знать, лично старался допрашивать. Говорили мне людишки, что родина у монголов зело сурова: морозы покрепче наших будут, а летом жара, напротив, тяжче. Так что зиму неспроста они выбрали, чтоб на нас напасть: реки и озера у нас замерзают, и по льду им легче идти будет, чем вплавь переплывать, нам же рвы пред крепостями в мороз копать сложней станет, да и замерзает потом вода в тех рвах иль снегом их заносит. Одежа же у монголов недоступна для стужи и влаги и состоит из двух сложенных кож, будто чешуя. Шубы еще могут иметь мехом наружу, а бывает и вовнутрь. Коль совсем уж лютый мороз настанет, могут и шубу на шубу надеть. И сапоги у них кожаные, без каблуков, и шлемы все боле тоже из кожи. Хотя многие для защиты себя в сече ничего особого не имеют и надевают на бой ту же одежу, что и всегда. Из оружия держат кривую саблю, лук и стрелы на четыре пальца длиннее наших. При колчане носят напильники для изощрения тех стрел. Некие имеют копья – кто обычные, а кто и с крюками для стаскивания врага с седла.
Домов они не строят, зерно не сажают – более того, презрение к тому имеют, кто, аки крот слепой, в земле роется. Живут же грабежом и насилием – то у них за доблесть почитается. Перекочевывают всю жизнь на лошадях с места на место по степям своим бескрайним, телеги со скарбом за ними едут. Шатры делают из жердей и кроют войлоком, а сверху оставляют дыру для света и дыма, ибо огонь разжигают прямо внутри, и некоторые из тех шатров разбираются, а другие прямо так на телегах за собой и возят, хоть когда и война.
Шатры же ставят редко, ибо все боле в седле находятся. Говорят, на лошади монголы больше времени проводят, чем на земле. Два дня могут в седле скакать, не слезая. Так и спят, и нужду справляют, и пищу приемлют. И делают то на войне иль в обычной жизни ра́вно. Коли реку большую надо преодолеть, надувают свои меховые бурдюки и на них переплывают. Через меньшие же реки переправляются, привязавшись к хвосту своей лошади. Лошади их плавают, как рыбы, наружностью же малы, с головой грубой и растянутым туловищем, с сильно отросшими гривой и хвостом. Кони эти крепки и неприхотливы, часто питаются лишь тем, что сами отыщут: растения какие могут объедать, листья иль жнивье под снегом находят да копытами корни выбивают. Подолгу могут и вовсе оставаться без пищи. Монголы их не подковывают, а ездить могут на них и без седла. По горам лошади эти взбираются и скачут, как дикие козы, в бою же ужасны, ибо рвут зубами и топчут копытами и коней противника, и их седоков.
Хлеба монголы, как мы, не едят вовсе. Питаются боле мясом, кониной вяленой, лисиц, волков да мышей в походах едят, могут вшей с себя наскрести да тож в рот. Пьют молоко лошадей своих да вельбудов, а могут и кровь, если придется. Тело моют редко и вообще неопрятны. К блуду не склонны, бога единого не ведают, но суеверны сильно. Так, грехом большим считают пролить молоко иль другое какое питье на землю или дотронуться бичом до стрел. Когда же помирает один из них, то закапывают его тут же в землю, гроба не сотворив. Воров у них нет, и телеги да шатры не запирают вовсе. Промеж собой незлобивы, и сродственникам у них завсегда помощь. Другие же народы за людей не держат. Не считается у них зазорным обмануть иноплеменника, да чем вероломней то сделал, тем больше, значит, удаль твоя. Убьют чужого – и ничто в них не шело́хнется. К женщинам своим уважение имеют, из иных же племен баб да девок унижать любят и насильничают их безбожно – груди им отрезать могут или живот вспороть.
В науке военной многоопытны, мудры и коварны. На вовсе не ведомый им народ нападать не станут – задабривают сначала купцов, которые торгуют с тем народом, и все про него вызнаю́т. Так и с нами, наверно знаю, было. У самих же монголов, говорили мне, отроки идут служить уж в четырнадцать лет, а из армии воина высвобождают, когда настанет ему седьмой десяток. Это при том, что год они себе набавляют, ибо считают возраст человека, как зародился он в утробе матери. Какое место монгол в строю занял, такое уж у него до конца и будет. При том, в сражениях сначала гонят пред собой ясырей33. Коль поубивают всех пленных, вступают тогда уж в бой сами. А коль не рьяно идут ясыри в бой, убивают сами их тут же. Слыхал я, что до трех четвертей их войска пленными доходит. Бывает еще и так, что, ясырей вперед послав с малым числом от своих воинов, монголы обходят врага так далеко справа и слева, чтоб не видно их было, а потом замыкают круг и бьют противника разом со всех сторон. Вообще же честно в лоб всем войском идти не любят: чаще стремление имеют на части рать соперника разделить и превосходящими силами по отдельности их изничтожить. Бывает, что наряжают в доспехи отроков своих да женщин, садят их на коней и держат позади войска, чтоб враг подумал, будто больше у них воинов числом. Для того ж могут из чего попадется людей изобразить да на коней поместить. Бьются монголы в войске на десятки, сотни, тысячи и темены. Убоится же кто из десятка да побежит – вырезают весь десяток; так же весь десяток вырезают, ежели не освободили своего из плена. Сами же ханы монгольские да военачальники в сечу, как наши, нейдут: находятся на лошадях позади войска да управляют битвой, дают наказы войску – дым велят пускать, флагами махать, огни зажигать иль в барабаны бить. Побежать любят ложно, а как устремится за ними враг, растянется в длину, так разворачиваются они, смыкают ряды да растянутое войско и высекают. Сами же у себя за спиной врага оставлять боятся. Как доносили мне сбеги про Себядяя, покорил он в Персии некий город Хамадан. Перебил всех до единого, кого нельзя было в плен взять, а чрез несколько дней велел воинам вернуться и добить тех, кого тогда в городе не было, кто на руины вернулся. Слыхал еще, что, коль долго иной город держит осаду, но имеет внутри себя реку, запруживают монголы ту реку выше по течению, а потом рушат ту запруду и потопляют город. А когда надобно им пожар во вражеском городе произвести, берут жир от людей убитых, растапливают его и льют на дома – так полыхает у них огонь неугасимо. И когда донесли мне, что хочет Батыга докончить то, что дед его Чагониз начал – до самого моря дойти, взяв по пути и Русь, и угров34, и немчуру, – то не засмеялся я от самоуверства его, а напротив, убоялся сильно да Бога нашего единого Иисуса Христа молить впервые стал, хоть и не верил тогда в Него.
Хитрости и коварства татарских я всего более боялся. Ведь сподручнее ж им было сначала на южные княжества напасть! Нет, поняли, что на юге зе́мли послабее, а у нас тут будет время силы собрать да объединиться. Или вообще бы южане с ними боротися не стали, а отступили бы, с нами соединились и мы бы оттого еще сильнее стали. И когда Федора, сына князя Юрия, Батыга убил, понял я, что неспроста то. Не нужна ему была ни Евпраксея, как у нас тогда говорили, ни обиды он не поимел особой на велеречивые слова Федора. Это князя Юрия с войском от Рязани-города он выманивал. И таки выманил, подлый, не сумел Юрий сдержаться да простить ему смерть единого чада своего, хоть и сказал боярам да воеводам, что хочет Батыгу на границе княжества остановить да вглубь не пустить. И коль поверил б мне тогда князь, как быстро может летать по чужим, незнакомым землям татарская конница, глядишь, и успели б к укрепленьям нашим пограничным, а не приняли б на себя в открытом поле удар их нежданный. А еще потому, разумею, Батыга велел посольство наше перебить, что знал, что Юрий нарочно отправил с Федором самых опытных своих воинов, чтоб они у монголов все высмотрели.
Думаю, знал Юрий, что и посольство наше татары перебьют, и помощи нам Чернигов с Владимиром не дадут. В Чернигов он послал тогда брата своего бестолкового Ингваря Ингваревича, Евпатия Коловрата да меня. Подать еще надо было к тому же с черниговцев собрать, которая к военному времени особливо как нужна была. Так-то на людях Михаил Черниговский сказал, будто оттого нам отказывает, что мы на Калк с ними не пошли, да только я понимал, что уж давно обида его на рязанцев прошла. Что войска он не даст, как и владимирский князь, ибо чует, что не выстоит Рязань. Да и то, что Чернигов не выстоит, тоже, поди, знал, только думал, пусть уж лучше люди его головы за родимую землю сложат. Тож и владимирский князь Георгий: не прислал, окаянный, подмоги да из Владимира сам сбежал, но все ж мысль имел знатную: собрал со многих княжеств под Коломной, где горло было узкое, рать какую только смог, рать великую, какую доселе не видала Русь, да бой дал татарам знатный. Не пытали еще иноземцы на себе сечи такой в нашей земле! А только все равно не выстоять нам было противу тьмы монгольской несчетной…
И про Евпатия Коловрата хотел рассказать, как оно было. Знались мы с ним давно, да близко не сходились. Уважали друг друга – да, но не сходились. Злые языки говорили, что приязнь князя Ингваря Игоревича мы промеж себя не поделим, но дело, по моему разумению, было в другом: чего-то Евпатию, как я смыслю, всегда будто бы не хватало, словно хотел он чего-то неведомого, манило его туда, где опасно было, а мне с таким, коль уж правду сказать, боязно было…
Да, и Евпатия старый князь очень любил. Поболе меня, наверно, любил, да только дело не в том. Евпатий – он ведь как? Такого ничего будто и не замечал вовсе, как само собою разумеющееся приязнь других людей принимал. Его же все любили, от мала до велика, от смерда до князя. Было в нем что-то такое, от чего его не любить было нельзя…
Как услышал он тогда в Чернигове, что дошел-таки Батыга до Рязани, хоть и знал, что на родине своей увидит, а все ж не смог сдержаться, помутился мал-мала рассудком. Бывало у него такое иногда – видали те, кто его поближе знал, – будто нападает на него что от негодования сильного. Оттого-то и прозвали его Коловратом, что от гневу в бою крутиться он начинал так быстро, что уследить за ним никак нельзя становилось, будто бес какой в него вселялся. Пропадали разом доброта его и веселый нрав, и одержимым он будто становился. Страшно с ним тогда рядом было, и люди от него старались подальше держаться, да только своим он ни разу зла такой не причинил.
Как увидал Евпатий пепелище, что на месте Рязани осталось, где он каждый дом, каждое местечко укромное знал, как почуял еще витавший запах горелого человечьего мяса, как увидал псов одичалых, что на него огрызались оттого, что он трупы мешает им рвать, что на мерзлом ковыле лежат, снегом занесенные, – так и вышел разум его. Жену свою нашел – снасильничали ее и убили, как и других, детишек мертвых своих нашел – меньшого прямо в печке, где он хоронился, татары так и сожгли. Стыдно сказать, порадовался я тогда, что семьей так и не обзавелся… Видал я Коловрата один раз таким: глаза у него почернели, лицо, напротив, побелело, кулаки сами собой сжиматься стали, и будто видеть он теперь пред собой не видел, а стал боле как зверь страшный.
Так велика была сила Евпатия, что люди сами на него шли, будто манил он их к себе против их воли. Не раз и не два думал я потом, да и сейчас размышляю, отчего люди за ним пошли. Гнев у него, конечно, великий был, как увидел он город разоренный, да тела жены и детей своих, и что не осталось боле ничего из того, что он любил. Заразил он гневом своим людей и повел за собой. До того уж дошло, что помышляли мы напасть сзади на татар так нежданно и крепко, чтоб самого Батыгу убить – вот как разошлись мы в мыслях своих, как в гневе своем распалились. Помню, блеснуло нам тогда в голову, что, коль удастся убить Батыгу, то все это кончится, пропадет, будто страшный сон…
Не можно, видать, человеку жить с осознанием, что все хорошее в жизни у него уже было, и что до смерти останутся ему из доброго только воспоминания. Не только семьи и быта привычного более не будет – понял Коловрат, что и отчизны его больше нет, потоптал ее сатана Батыга. Навряд теперь Русь в себя придет, а может, и изничтожат ее монголы совсем, без остатка, памяти самой о нас не останется. Страшно тогда нам становилось от мыслей этих. Кто угодно бы испугался – и Евпатий испугался. Стало мне понятно, что умереть он хочет, чем страх такой терпеть, а за ним и люди все, от монголов в лесах упасенные. Оттого-то и ответили пятеро из наших, пойманных тогда татарами на побоище, когда спросили их: «Чего вы хотите?» – «Умереть только хотим!» Не врали они, не лукавили: на тот свет уж давно хотели они, к ро́дным своим, и тут уж делать им было нечего. Достойно лишь уйти хотели да Батыге подлому показать напоследок, какой тут народ исконный жил до него.
Не ждал того Батыга. Полмира уж татары к тому времени захватили, а понял я, что не видал еще хан монгольский такого племени, как русь. Видал он у врагов и разобщенность, и распри свои мелочные, и умение воинское, и храбрость в бою – а вот желание погибнуть вместе с прошлым своим не видал. Не мертвецов воскресших испугался Батыга, а народа неведомого, что на смерть по своей воле идет. А уж как увидал он, что и до того было нас в отряде мало, а теперь в живых осталось и того меньше и не способны мы ему более навредить, так уж решил все в свою пользу обратить. Пороками нас окружил да расстреливал, в живых нескольких оставил да тело Евпатиево нам на погребение отдал только ради пущей своей славы, чтоб пошла молва о нем, новом воителе великом, по всем народам дальше…
…Чую я, что в последние эти дни, как повесть свою дописываю, силы покидают меня. Дописал и все сказал, что хотел, и как будто внутри пусто стало. Будто вылилось все, что внутри держал, и как жбан пустой сделался. Горестно уходить мне, братие, не того я от жизни своей хотел, не такой судьбы отчизне своей желал. Чувствуют иноземцы себя хозяевами земли нашей, жен да сестер наших насильничают, добро отбирают, а мы смотрим и только очи долу опускаем. Горестно и страшно оставлять родину свою татарами поруганной на современников бесхребетных этих, свободы толком не знавших да о ней и не помышляющих, допустивших для нас от иноземцев жизни рабской. Да будет путь их темен и скользок…
Благодаря этой рукописи стало понятно, что история о Евпатии Коловрате происходила в действительности.
Первый вопрос, который возник у ученых, – кто же передал первую, «каноническую», широко известную до рукописи Пафнутия версию о героическом поступке Коловрата в народ? Логично было бы предположить, что историю о рязанском воеводе с восторгом понесли в массы другие соратники Евпатия и Миколы, Миколиного сына, которых Батый отпустил с телом Коловрата. Речи о том, что сам Микола мог поведать об этом подвиге народу, не шло: слишком разнились восторженно-патетическая тональность истории о Евпатии в канонической «Повести о разорении Рязани Батыем» и угрюмое, жесткое, если не сказать мизантропическое настроение рукописи старца Пафнутия. «Пустить историю в народ» могли как воины, которым монгольский хан отдал тело Евпатия, так и те пять «изнемогших от ран» соратников Коловрата, которых монголы сначала захватили в плен в последнем бою отряда (если, конечно, татары решили оставить их в живых). Представляется, что эмоциональный накал битвы маленького отряда с самим правителем Золотой Орды был таков, что очевидцам не терпелось поделиться своей историей с окружающими.
Встречались и сторонники другой версии. Монголы традиционно оставляли в живых только здоровых пленных, которые могли выдержать долгую дорогу и которых потом можно было использовать как рабочую силу или гнать перед собой в битвах. По вполне определенным причинам оставляли в живых и вели с собой привлекательных девушек, не делая скидок в этом даже для монахинь. Плюс к этому, общеизвестна привычка монгольских военачальников по возможности не оставлять у себя в тылу ни одного живого защитника. У пятерых пленных, «изнемогших от великых ран», да еще и так дерзко отвечавших захватчикам, шансы на сохранение жизней были невелики. Оставшихся в живых соратников Евпатия, которым отдали его тело, тоже вряд ли было много, и маловероятно, что их физическое состояние после боя с татарами располагало к активному распространению информации о случившемся. Кроме того, считали приверженцы данной точки зрения, одного только устного пересказа было недостаточно, чтобы эта история так хорошо сохранилась во всех деталях минимум до конца XIV века, когда и могла быть впервые записана. Сторонники этой версии полагали, что «каноническая» история о Коловрате была зафиксирована каким-то другим уцелевшим соратником Евпатия, который в отличие от Миколы сразу же, воодушевленный патриотизмом рязанского воеводы, решил донести эту историю до потомков в письменной форме. Текстов, написанных в соавторстве, литература того времени не знает, да и не так много среди выживших из отряда Евпатия могло оказаться грамотных, способных документально зафиксировать эту историю. В качестве последнего – и главного – довода в пользу этой версии ее сторонники приводят не сразу осмысленный факт, что рукопись Пафнутия фактологически не пересекается с текстом своего возможного коллеги по перу. Так могло быть, только если Пафнутий был знаком с этим текстом и, более того, признавал за ним настолько обоснованное право на существование, чтобы не повторять уже описанные в нем события. Так что, возможно, считают эти ученые, получившая ранее широкую известность история о Коловрате не проникла в поздние списки «Повести о разорении Рязани Батыем» из безымянного народного эпоса, а была намного раньше письменно изложена каким-то другим уцелевшим соратником Миколы и Евпатия.
Третья версия авторства известной ранее «канонической» новеллы о Коловрате представляется наименее доказанной, но и самой интересной. К этой идее пришел автор приведенного в данной статье перевода рукописи Миколы-Пафнутия, молодой сотрудник кафедры русского языка филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, кандидат филологических наук Глеб Селиванов. Эта идея петербургского лингвиста и историка литературы и стала поводом настоящего переиздания рукописи, приуроченного к годовщине ее открытия.
По собственному признанию, филолог Селиванов, всю сознательную жизнь посвятивший изучению древнерусской литературы и языка, на котором она была написана, «не смог себя заставить поверить, что именно в период самого глубокого упадка в истории средневекового отечественного искусства случилась некая аномалия»35, и подвиг Евпатия Коловрата вызвал к жизни целых два самостоятельных высокохудожественных текста – причем, таких явно взаимоисключающих по содержанию. У Селиванова родилась догадка, но как истинный ученый он не стал ее озвучивать, не имея на руках хоть каких-либо доказательств. Определенная конкретика появилась у филолога только тогда, когда он приступил к художественному переложению рукописи на современный язык. Селиванова смутили некоторые переклички в обоих текстах, и он решил сделать сравнительную таблицу текстологических совпадений в лучших традициях Д. С. Лихачева36. Совпадение в обоих текстах многих, без сомнения, сугубо индивидуальных словесных оборотов казалось тем более странным при явно заметном непересечении фактологическом. «Я и сам прекрасно осознаю́, что представленной аргументации более чем недостаточно для доказательства серьезной теории, осознаю́, что поддаюсь такому понятному для большинства ученых искушению поскорее выдать громкую гипотезу за доказанный факт, но все же, как минимум, призываю задуматься над тем, что историю о Евпатии Коловрате – безусловно лучшую (и уж точно бо́льшую по объему) часть «Повести о разорении Рязани Батыем» – написал сам начальник службы безопасности и контрразведки великого князя рязанского Ингваря Игоревича, а затем и унаследовавшего рязанский престол его сына Юрия, отданный в детстве на Русь в заложники булгарин по происхождению, соратник Евпатия Коловрата Микола, Миколин сын, принявший при принудительном монашеском постриге имя Пафнутий».
«Конечно, указанные литературные заимствования могли быть вызваны и тем, что и автор новеллы о Коловрате в «Повести о разорении Рязани Батыем» в свою очередь мог каким-то образом быть знаком с текстом Миколы-Пафнутия, но вероятность этого представляется крайне низкой. Погружение в данную проблему на каком-то интуитивном уровне родило во мне осознание того, что патриотический «канонический» текст Микола, Миколин сын написал почти сразу же после описываемых событий, а свою мизантропическую повесть заточенный старец Пафнутий создал, уже понимая, что умирает. Возможно, на протяжении многих ночей над обоими текстами у меня родилось ложное чувство отождествления с этим человеком, но…
Во-первых, вспомним, что в профессиональные обязанности Миколы, Миколиного сына входило и формирование общественного мнения согласно актуальной политической ситуации в рязанском княжестве. Несмотря на то что после нашествия татар от княжества практически ничего не осталось, Микола представляется нам прежде всего человеком военным, государственным служащим, если угодно, князевым слугою до мозга костей. Даже в условиях тотального поражения начальник службы безопасности и контрразведки, как это будут делать и после него лучшие представители спецслужб, продолжает сражаться – пусть не мечом, но пером, осознавая, что второй способ в конечном итоге может оказаться действеннее первого.
Во-вторых, взяться за перо и написать антимонгольскую повесть булгарина Миколу могла заставить уже упоминаемая неугасимая ненависть к чингизидам, уничтожившим и его родную страну37, и, с большой долей вероятности, его семью, и в уже зрелом возрасте испугавшим его самого. И если новеллу о Коловрате действительно написал Микола, Миколин сын, то следует отдельно отметить мужество автора, который на фоне общего морального упадка во всем государстве смог найти в себе силы создать произведение с такой верой в дух Руси, которая волею судьбы стала его второй родиной. Справедливости ради не стоит забывать и о схожей роли переписчиков XV-XVI веков, которые также радели о росте российского самосознания накануне решающего похода на оплот бывших врагов-татар – на Казань.
В-третьих, давайте еще раз вспомним о том, что оба текста фактологически не пересекаются. А если принять за объяснение этого не то, что Пафнутий не захотел «заимствовать хлеб» у своего боевого соратника и коллеги по писательскому ремеслу, а то, что он не стал хоть в чем-то повторять свою же ранее написанную повесть? Возможно, даже после разгрома Рязани и смерти Юрия Ингваревича влияние великокняжеского начальника службы безопасности оставалось так велико, что у Миколы, Миколиного сына не оставалось сомнений, что он сумеет создать своей повести такую информационную поддержку, такой, как сейчас бы сказали, пиар, что она наверняка дойдет до потомков. (И старый «пиарщик» оказался прав: история о Коловрате дожила уже до XXI века.)
И последний, четвертый, довод совсем уже не несет под собой никакой фактологической основы, но лично мне он кажется главным: старец Пафнутий и написал свою мизантропическую, направленную против современных ему русичей повесть потому, что сразу же после подвига Коловрата еще молодой Микола, Миколин сын и помыслить не мог ее написать. Создание Пафнутием своей рукописи, возможно, было его попыткой, во-первых, «восстановить баланс правды» и показать и темную сторону истории о Коловрате, а во-вторых, перед своей смертью отомстить тем малодушным потомкам-русичам, которые «прогнулись» под врагом, убивавшим их отцов и матерей, и до конца жизни заточили в монастырь его, булгарина Миколу, которой верой и правдой служил своей новой Отчизне.
И тогда парадоксальным образом круг замыкается. Если историю о Евпатии Коловрате «насадил» в русском фольклоре один-единственный человек – начальник службы безопасности и контрразведки, имевший независимую и ярко выраженную политическую позицию, многие годы занимавшийся в том числе и формированием «правильного» общественного мнения и к тому же обладавший незаурядными литературными способностями, – а не коллективное сознание нескольких поколений людей под воздействием какого-то большого, общеизвестного события, вновь возникает вопрос: а существовал ли Евпатий Коловрат в действительности?»
1
Пергамент (или в специальной литературе пергамен), на котором в то время переписывали важнейшие религиозные книги, изготавливался из шкур скота и стоил очень дорого. Например, для создания Библии могло уйти до 180 телячьих шкур. Палимпсест – пергамен, на котором ранее уже было что-то написано, а затем соскоблено для нанесения нового текста.
2
Миниатюрами – цветными картинками, иллюстрирующими текст, – была снабжена почти каждая страница книг того времени. Переписчик оставлял под них пустые места, после чего художник вписывал в них иллюстрации. Кроме того, в книге делались большие поля, которые украшались более мелкими рисунками – «полевыми цветами». На полях также впоследствии мог оставлять заметки и сам переписчик, и последующие читатели.
3
Ныне город Зарайск Московской области.
4
Палеография занимается в том числе датировкой памятников письменности, определением мест их написания и выявлением фальсификатов путем изучения почерков и форматов рукописей.
5
Для определения возраста рукописи сжигают крошечный, предварительно очищенный ее фрагмент и сравнивают в выделившемся углероде соотношение его радиоактивного изотопа к стабильным изотопам.
6
Волжская Булгария – государство, существовавшее с X по XIII века на территории современного Поволжья, основу населения которого составляли тюркоязычные племена. Самая северная страна в мусульманском мире того времени. Внешне булгары выглядели как европеоиды с круглой или короткой головой и ослабленными монголоидными чертами. Булгария была восточным соседом Древней Руси и периодически вела с нею войны. В 1236 году разорена монголо-татарами под предводительством Субэдэя, а в 1240-х годах окончательно ими завоевана. По уровню развития находилась выше Древней Руси.
7
Аманат (в древнерусском языке – таль) – заложник для обеспечения выполнения военного договора. После соблюдения оговоренных условий аманата следовало освободить, при невыполнении договора его могли убить. В заложники старались брать сыновей первых лиц государства. Аманатам полагалось содержание за счет удерживающей стороны. Таль в свою очередь мог отказаться от отчизны, отдавшей его на чужбину, и стать подданным страны-победительницы.
8
1237 год по современному – григорианскому – календарю.
9
До периода феодальной раздробленности на Руси титул «великий князь» относился только к киевскому князю, которому подчинялись остальные русские князья. С XII века образовалось еще несколько независимых великих княжеств: Владимирское, Галицкое, Черниговское и Рязанское. В них в свою очередь возникли удельные княжества под управлением младших князей, подчинявшиеся великим князьям.
10
Приведенный здесь художественный перевод сделан кандидатом филологических наук, доцентом кафедры русского языка филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Г. И. Селивановым.
11
В 1257 году.
12
Имеется в виду князь Ингварь Ингваревич, возглавивший рязанский престол после своего брата Юрия, убитого в 1237 году при осаде татаро-монголами Рязани.
13
В 1239 году.
14
После установления татаро-монгольского ига русские князья вынуждены были посещать Орду с изъявлениями покорности.
15
Так на Руси называли хана Батыя.
16
Перед пострижением послушник ползет на животе из пристройки храма к амвону – центральному возвышению, – на котором стоит игумен. При этом другие монахи прикрывают посвящаемого своими рясами от посторонних взглядов. Игумен трижды бросает ножницы и требует со смирением их поднять, потом крестовидно постригает ими послушника и дает ему новое имя.
17
В 1252 году.
18
Олега Красного, племянника Юрия Ингваревича, Батый захватил в плен в битве под Коломной 1 января 1238 года и отпустил княжить в Рязани лишь спустя 14 лет, после свержения с владимирского престола отказавшегося ему подчиняться Андрея Ярославича, при этом, видимо, взяв с Олега обещание полной покорности.
19
Телятина, кожа – так на Руси называли пергамен.
20
Ю. С. Нахимовым даже выдвигается не совсем реалистичное, на наш взгляд, предположение, что Пафнутий после написания рукописи покончил с собой. По мнению исследователя, бывший глава великокняжеской службы безопасности прекрасно понимал, что тайную работу в личных целях и растрату дорогостоящих пергаменов скрыть вряд ли получится и в случае возможных пыток умолчать о рукописи в тайнике, вероятно, не удастся. Косвенно, по мнению Ю. С. Нахимова, об этом говорит концовка рукописи, в которой автор будто бы прощается со своими читателями и проклинает то ли захватчиков-татар, то ли трусливое молодое поколение русичей, то ли и тех, и других.
21
Тать (здесь) – мошенник, тайный похититель.
22
Русские впервые столкнулись с татаро-монголами еще за 14 лет до нашествия Батыя – в 1223 году в битве на реке Калке, где потерпели от них сокрушительное поражение.
23
Так на Руси называли Чингисхана.
24
Так на Руси называли метательные машины (катапульты).
25
Джебе и Субэдэй – двое из четырех выдающихся полководцев Чингисхана, которых за свирепость и преданность великому хану именовали четырьмя его цепными псами. Они возглавляли его передовые войска, отправлявшиеся в самые ответственные и тяжелые походы.
26
Рязанцы не участвовали в битве на Калке, что называется одной из причин, по которым черниговцы не помогли им при нашествии Батыя в 1237 году.
27
До Черного моря.
28
Беженцев.
29
Черниговский князь, один из командующих объединенных русских войск в битве на Калке.
30
Лагерь князя Мстислава Романовича Старого не имел доступа к реке, заготовленных запасов воды в стане также не было, что стало одной из причин, по которым киевляне на третий день осады решились на переговоры с монголами.
31
Сын великого князя Ингваря Игоревича, возглавившего рязанский престол после смерти отца в 1235 году. При Юрии Ингваревиче в 1237 году монголо-татары и напали на Русь.
32
Верблюдами.
33
Пленных.
34
Угры (здесь) – венгры.
35
Здесь и далее приводятся цитаты из блога Глеба Селиванова на «Лайвджорнале»: https://selivanovs-history.livejournal.com.
36
Лихачёв Дмитрий Сергеевич (1906-1999) – филолог, академик Российской академии наук, один из самых известных исследователей древнерусской литературы. Посвятил ряд трудов циклу повестей о Николе Заразском.
37
В 1236 году татаро-монгольские орды под предводительством Субэдэя стерли Булгарию с карты мира, после чего это прежде сильное государство в прежнем виде уже не восстанавливалось.