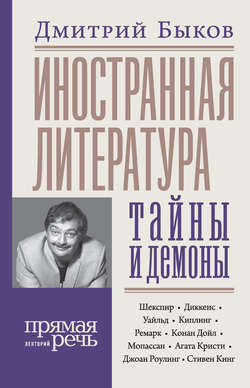Читать книгу Иностранная литература: тайны и демоны - Чулпан Хаматова, Дмитрий Быков, Ингеборга Дапкунайте - Страница 2
Аврелий Августин Блаженный
ОглавлениеАвгустин – Божий человек
Блаженный Августин, крупнейший христианский мыслитель первого тысячелетия христианства, один из отцов христианской церкви, – человек чрезвычайно высокой философской культуры. Но я не собираюсь говорить о теологической составляющей трудов Августина, они интересуют меня исключительно с литературной стороны. Я собираюсь говорить о его «Исповеди» (ок. 397–398), и только об «Исповеди» как о начале классической европейской литературы, как о начале европейской прозы вообще. Мне представляется, что «Исповедь» Блаженного Августина, являющаяся не единым текстом, а собранием тринадцати книг, каждая из которых посвящена отдельному аспекту его духовной автобиографии, – это, рискну сказать, такой своеобразный прустовский мегатекст для IV–V–VI веков, когда только зарождается христианская теология.
«Исповедь» Блаженного Августина поражает прежде всего смелостью интеллектуальной. Рискну опять-таки сказать, что он произвел в богословии примерно тот же сюжетный переворот, который на фабульном уровне произошел в детективной прозе только в XX веке, когда в романе Уильяма Юртсберга «Падший ангел» (1978) и поставленном по этому роману фильме Алана Паркера «Сердце Ангела» (1987) главный сыщик начинает искать себя, а не другого преступника.
Блаженный Августин прожил достаточно долгий век – семьдесят пять лет (354–430). И хотя формальным поводом к написанию «Исповеди» была просьба его учеников, желавших получить некий синтез его духовного опыта, он и сам к сорока годам, к этой середине земной жизни, di nostra vita (у Данте это тридцать пять лет, а у Августина – сорок), ощутил необходимость некоторой ревизии, некоторой рефлексии по поводу своего духовного опыта. И в этом смысле «Исповедь» его для нас бесценна. Потому что это единственный доступный, единственный внятно написанный текст, который современному человеку, отлично осведомленному насчет всех доказательств атеизма, позволяет понять, зачем ему все-таки нужен Бог.
Десятая книга, лучшая книга «Исповеди», рассказывает об этом необычайно подробно. Блаженный Августин выводит бытие Божие не из внешних признаков, не из творения и никоим образом не из очевидных свидетельств Божьего могущества. Все проявления судьбы, в которых мы обычно находим те или иные доказательства Божьего бытия, он рассматривает исключительно как случай. Августин доказывает, что Бога можно найти только в себе, – или его нет нигде. Вот это знаменитое начало десятой книги:
А что же такое этот Бог? Я спросил землю, и она сказала: «Это не я»; и все, живущее на ней, исповедало то же. Я спросил море, бездны и пресмыкающихся, живущих там, и они ответили: «Мы не бог твой; ищи над нами». Я спросил у веющих ветров, и все воздушное пространство с обитателями своими заговорило: «Ошибается Анаксимен: я не бог». Я спрашивал небо, солнце, луну и звезды. «Мы не бог, которого ты ищешь», – говорили они. И я сказал всему, что обступает двери плоти моей: «Скажите мне о Боге моем – вы ведь не бог, – скажите мне что-нибудь о Нем». И они вскричали громким голосом: «Творец наш, вот Кто Он». Мое созерцание было моим вопросом; их ответом – их красота[1].
И в неуклонной череде этих вопрошаний Августин доходит до памяти и только в памяти Бога и находит.
Но о памяти поговорим позже: скажем вначале о прустовском замысле Августина и о том, почему он за эту книгу взялся, почему в этой книге для нас заключена столь благая, столь радостная весть.
Книга эта написана человеком, который прошел через горнило тягчайших разочарований, и в первую очередь – разочарований в науке, в мудрости научной, поскольку наука не отвечает на вопросы о цели, о смысле жизни и о счастье. Наука не дает человеку счастья, хотя, безусловно, дает ему – и Августин многократно это подчеркивает – повод для высокомерия. Молодой Августин – а он очень хорошо это в себе отслеживает – постоянно стремится именно к удовлетворению собственного тщеславия. Сначала, лет примерно до тринадцати, он лучше всех играет в мяч. При этом уже умудренный Августин замечает, что ни в коем случае не следует порицать детей за увлечение играми. Все, что будет потом, во взрослой жизни, – это те же самые игры:
Все это одинаково: в начале жизни – воспитатели, учителя, орехи, мячики, воробьи; когда же человек стал взрослым – префекты, цари, золото, поместья, рабы – в сущности, все это одно и то же, только линейку сменяют более тяжелые наказания.
Взрослая жизнь есть уничтожение трех главных страстей, которые, по Августину, пытаются стать заменой счастью, но никогда счастьем не являются. Эти три главные страсти – похоть, тщеславие и любопытство. Интересно, что любопытство, то есть сфера науки, тоже причисляется Августином к похотям – похотям духа, о которых он говорит с крайним пренебрежением. Долгое время он полагал, что наука даст ему ключ к познанию мира, как умение играть в мяч – ключ к превосходству над сверстниками, но эта убежденность, как он пишет, все более и более покрывала его духовной паршой. Тем не менее – и это удивительная черта именно Августина – к похоти он проявляет наибольшее снисхождение. Похоть есть всего лишь земной, грубый аналог божественной любви, один из тех немногих суррогатов ее, что дан нам в повседневной практике, совершенно справедливо замечает он.
Августин все время обращается к Богу, и в этом заключается еще одно жанровое своеобразие книги; он все время ведет с Господом необычайно трогательные и для современного читателя умилительные разговоры. Он охотно признает все свои грехи, но, как человек умный и не вполне оправившийся от своего тщеславия, начинает смущенно оправдываться. И вот это особенно нам в нем приятно, потому что он не впадает в похоть самоистязания, не впадает в саморугание. Да, Господи, говорит он, вспоминая в четвертой книге свои молодые годы:
…я жил с одной женщиной, но не в союзе, который зовется законным: я выследил ее в моих безрассудных любовных скитаниях. Все-таки она была одна, и я сохранял верность даже этому ложу. Тут я на собственном опыте мог убедиться, какая разница существует между спокойным брачным союзом, заключенным только ради деторождения, и страстной любовной связью.
И здесь вновь возникает та же удивительная трогательная интонация, с которой Августин говорит в первой книге, например, об игре в мяч:
У меня, Господи, не было недостатка ни в памяти, ни в способностях, которыми Ты пожелал в достаточной мере наделить меня, но я любил играть, и за это меня наказывали… <…> Я был непослушен не потому, что избрал лучшую часть, а из любви к игре; я любил побеждать в состязаниях и гордился этими победами. <…> В игре я часто обманом ловил победу, сам побежденный пустой жаждой превосходства. Разве я не делал другим того, чего сам испытать ни в коем случае не хотел, уличенных в чем жестоко бранил? А если меня уличали и бранили, я свирепел, а не уступал. И это детская невинность?
Эта особая трогательность Августиновой интонации предопределена, конечно, жанром исповеди. Многие ошибочно полагают – во всяком случае, во многих текстах об Августине эта мысль проскальзывает, – что «Исповедь» есть обращение к Богу. Это не так. Тут очень тонкий момент, момент жанровый, который и сумел сделать из «Исповеди» принципиально новый жанр, с чего и началась европейская литература.
Вот Августин говорит: «Тебе, Господи, известно, каков я есть, и ведомо, зачем исповедаюсь Тебе». И действительно, рассказывать Господу нет нужды, потому что Господь обо всем прекрасно осведомлен. «Исповедь» – она перед Господом, а не к Господу. Августин все время повторяет: «Кому рассказываю я это? Не Тебе, Господи, но перед Тобою рассказываю семье моей, семье людской, как бы ничтожно ни было число тех, кому попадется в руки эта книга». Зачем? Чтобы наставить и предостеречь их, чтобы им объяснить себя, чтобы остаться перед ними. «Я покажу себя таким людям: пусть радуются о добром во мне, сокрушаются о злом». И вот в этом обосновании жанра присутствует главная особенность европейской литературы. В хорошей литературе, в настоящей, исповедь – это вовсе не обращение к Богу. Богу литература не нужна. Да и что Ему от нас вообще нужно, на этот вопрос Августин ответа не дает. Он несколько раз повторяет: «Господи, Ты создал нас для Себя», – но более конкретного ответа мы у Августина не получаем, потому что ответ находится за пределами человеческого разумения. Однако сами перед собой мы должны говорить, как если бы говорили перед Господом. Помните знаменитую фразу Александра Блока, сказанную о поэзии Анны Ахматовой? «Она пишет стихи как бы перед мужчиной, а надо писать как бы перед Богом».
Так вот, европейская литература – это и есть исповедь перед Господом. Потому что Господь – непременный участник разговора. Такого участника в большинстве текстов античной литературы нет, а в европейской есть, и потому Августин требует от повествующего трех вещей.
Во-первых, абсолютной честности или, во всяком случае, абсолютной серьезности подхода к делу.
Во-вторых, постоянно помнить о смерти, о смертности. Для Блаженного Августина смерть – чрезвычайно важный предел, очерчивающий человеческое существование, и вне этого предела человеческие критерии не существуют. Об этом пределе надо помнить и все время соотносить себя с ним. Большая литература – это всегда память о конце, память о неизбежном.
И третья вещь, которая неизбежно присутствует в европейской литературе и которую Блаженный Августин требует от автора, – это личностный опыт, это попытка отрефлексировать собственное бытие. Открыть – зачем я был нужен Богу, разобраться – зачем Господь меня сделал и через это провел. Это рефлексия, из которой вытекают все остальные выводы. У нас нет другого материала для исследования, другого материала для познания, нежели наша собственная личность. И Марсель Пруст, в XX веке переключивший фокус своего внимания только на память и личность, безусловно, следует в этом заветам Августина.
Мне могут возразить, что Августина читать еще скучнее, чем Пруста. Что я могу на это возразить? Понимаете, лучше прочесть несколько глав, чем презрительно отбросить целое. Из всей «Исповеди» Блаженного Августина следует читать вторую книгу, которая посвящена отрочеству и мукам созревания; наверное, с седьмой по девятую, где Августин рассказывает о своем пути к Богу, обращении в веру, пытается осознать сущность Бога с философской точки зрения; целиком десятую, где Августин рассуждает о способности памяти превращать опыт прошлого в настоящее, и одиннадцатую-двенадцатую (выборочно), где речь идет о природе времени, о мучительных (пыточных, как это назвал немецкий философ Эдмунд Гуссерль) попытках Августина в самой глубокой рефлексии представить время, понять, что было до времени и что будет после времени. Все остальное можно не читать, потому что это действительно довольно скучно. Теология, софистика, полемика с абсолютно ныне забытыми школами, обличение манихейства, которому Августин отдал в свое время серьезную дань, несколько прелестных историй – все это большого интереса не представляет. Августин интересен там, где он копается в себе, где пытается отыскать в себе источник своего чувства Бога. С седьмой книги и по девятую он и разбирается в этом подробно.
Что же говорит Августину, человеку в высшей степени самодостаточному, человеку эгоистичному, о Боге?
Первая вещь, которая совершенно очевидна и которая многим сегодня представляется поверхностной и даже опасной, – это эстетическое обоснование Господа. Все в мире так прекрасно, что уж никоим образом не могло бы получиться само. Иными словами, творение свидетельствует о Творце. Очень может быть, как утверждают нынешние апологеты атеизма начиная с британского эволюционного биолога Ричарда Докинза, что все само так и получилось. И даже, скорее всего, так и есть. Но только человеку дана способность этим насладиться и увидеть в этом прекрасное. И Августин задается вопросом: а что такое прекрасное? Почему небо кажется прекрасным? Почему животное, лошадь, например, кажется прекрасной? Человек не отдает себе в этом отчета, но наслаждается. Так откуда же ему дано это ощущение? И Августин вслед за Богом повторяет: «Господи, то, что Ты сделал, весьма хорошо». Этот эстетический аргумент может быть субъективен, может быть сколь угодно не научен, но при этом мне всегда вспоминается последнее, что сказано в проповеди Александра Шмемана, сказано уже в смертельной болезни: «Когда мы предстанем перед Господом, одно можем сказать: “Господи, хорошо нам в Твоем мире”».
Как всякий художник, Господь заинтересован прежде всего в нашем мнении о своем творении. И то, с какой детской радостью говорит о Его творении Августин, непосредственно ведет нас ко второму аргументу, ко второму источнику богопознания, которое открывается в «Исповеди», – к творческой способности. Мир, который не упорядочен, вызывает отвращение. Господь вносит в мир порядок, а творческое усилие по наведению порядка из хаоса прекрасно. И чрезвычайно глубокая догадка приходит к Августину, когда он пытается постичь природу и сущность времени. Это примерно так же, как Затворник и Шестипалый в одноименном рассказе Виктора Пелевина пытаются понять, откуда они взялись:
– Мы появляемся на свет из белых шаров (говорит Затворник. – Д.Б.).
– Слушай, – спросил через некоторое время Шестипалый, – а откуда берутся эти белые шары? <…>
Затворник одобрительно поглядел на него.
– Мне понадобилось куда больше времени, чтобы в моей душе созрел этот вопрос, – сказал он. – Но здесь все намного сложнее. В одной древней легенде говорится, что эти яйца появляются из нас, но это вполне может быть и метафорой…
Это глубокая попытка цыпленка просчитать дородовую матрицу. Вот и Блаженный Августин, пытаясь интуитивно раскопать в собственном разуме память о довременном хаосе, приходит к выводу, что, поскольку мы знаем три вида времени – прошлое, настоящее и будущее, – постольку, видимо, существуют и три основных состояния бытия.
Первое – «бесформенная материя», первозданный хаос, в котором не было порядка, не было вещей. Августин с обезоруживающей наивностью объясняет читателю, что такое время. Время – это изменение вещей. А раз еще не было вещей, то не было, стало быть, и времени. Значит, мир до творения – это первозданный хаос.
Следующая стадия мира – это та стадия, в которой живем мы все. Это сотворенный, тварный мир, в котором есть мы, в котором есть перемены, в котором есть возможность проследить вот эту дельту между началом и концом любого процесса. Это второй этап творения.
А третья – это соединение с вечным Богом, когда времени опять не будет. Мир закончится, все достигнут совершенства – или, наоборот, полного несовершенства и тогда будут уничтожены. А достойные соединятся с Господом и будут созерцать Его вечно, потому что в вечности времени нет.
Опять-таки мы можем сколь угодно говорить, что это не научно или что это вообще другая область понимания. Но как интуитивное понимание картины мира – это здорово, это соблазнительно, в это интересно поверить, это интересно представить. И особенно приятно вывести для себя Бога из самого процесса наведения порядка. Любой из нас знает, какая это радость – убраться наконец в квартире. И вот эта ода порядку, которая присутствует у Августина, в известном смысле обосновывает и наше счастье при устранении беспорядка. Что есть Бог? Бог вносит в мир порядок вещей, и это позволяет нам заметить время. Стирая пыль со стола, мы замечаем, что время прошло, поверхность стола изменилась. Нет лучшего способа почувствовать жизнь, ее реальность, ее прохождение, как ликвидировать первородный хаос в собственной квартире. И именно в этом очень человеческом измерении Августин дает нам почувствовать радость Творца, который после шести дней творения увидел: «Все, что Он создал, хорошо весьма».
Третья же вещь, что особенно наглядно доказывает существование Бога, – это та интонация, которую нашел Августин. Это потребность в собеседнике. Все собеседники, даже близкие друзья, в какой-то момент начали его раздражать. Раздражал даже ближайший друг Алипий, «брат сердца моего», общение с которым раньше было наслаждением для обоих. «Даже его присутствие, – пишет Августин, – было мне в тягость». Августину нужен был собеседник, который больше его, была потребность части обратиться к целому. И это не просто желание высказать восторженную благодарность Творцу. Августин не раболепен, и книга его не раболепная, вот что важно. Это книга пусть не равного собеседника, но собеседника, имеющего право высказаться. Это книга, которая с откровенностью библейского праведника Иова говорит и о трагедии бытия, и о неустройстве бытия, и о том, что многое еще сделано не так. В любом случае потребность в этом диалоге у Августина существует – как потребность обратиться к кому-то поверх голов.
Довольно распространена точка зрения, что Августин имеет в виду не Бога, а какого-то идеального себя, помещенного в абстрактную точку. Иными словами, что «Исповедь» слишком антропоцентрична, что всё в ней слишком человеческое. Я рискнул бы с этим не согласиться. Во-первых, Августин постоянно акцентирует ограниченность своих познаний и своей морали, говоря вполне по-христиански: пусть все будет по промыслу Божьему. Во-вторых, и это действительно очень важно, Августин все время подчеркивает, что человек создан по образу и подобию Божию, и это любимая его мысль, он останавливается на ней в каждой книге из тринадцати. Когда-то он считал остроумными вопросы схоластов («глупых обманщиков», как он их называет), «ограничен ли Бог телесной формой и есть ли у Бога ногти и волосы». Теперь же он знает: Бог есть Дух, и он может обращаться в любую форму. Он принял форму Христа, принял форму человека. И дух мой, говорит Августин (тут не цитирую, но передаю смысл его слов. – Д.Б.), сознание мое устроено по образцу Божьему, иначе бы я не понимал его чудес. Поэтому наш диалог возможен. Таким образом, упрек в антропоцентризме неоснователен, потому что божественная логика и логика человека во многих отношениях совпадают, иначе творение превратилось бы в сплошную стену, в дикий ад непонимания.
Что еще в этой книге чрезвычайно приятно и почему она может сегодня в нашем достаточно обезбоженном, достаточно обезвоженном состоянии нас утешить и поддержать? Я не говорю о том, что из всех текстов раннего христианства она лучше всего написана: невероятно богато, сложно, с прекрасными метафорами и замечательными аналогиями. Нас утешает в ней непосредственность и человечность интонации. Блаженный Августин никого не проклинает, никому не желает смерти. Иногда, впрочем, ему случается увлечься: «Но горе тем, которые молчат о Тебе» или «“Да погибнут от лица Твоего”, Господи, как они и погибают, “суесловы и соблазнители”», – но для того, спохватывается он, чтобы они быстрее приблизились к Тебе. То есть опять-таки оговаривается, виноватится, извиняется и быстро встает на путь прежнего смирения. В Августине прекрасен именно этот человеческий пафос, который охватывает его, даже когда он громоздит самые сложные метафоры, даже когда создает самые интеллектуальные конструкции. Вот эта человечность текста делает его чрезвычайно усвояемым, превращает исповедь, можно сказать, в наше повседневное занятие, приближает ее к нам, дает нам верный тон для разговора с Богом – тон человека, который не стремится к совершенству, который сознает свое несовершенство, но при этом постоянно напоминает: Господи, я очень Тебя люблю. Я очень бы хотел Тебя понять. При всех моих ошибках учти, пожалуйста, мое усилие и пойми, что слишком хорошо у меня получиться не может.
Этика Блаженного Августина довольно сильно отличается от того, что мы называем сегодня этическим подходом к христианству. Конечно, десять заповедей для него совершенно актуальны, конечно, он постоянно помнит о морали. Но мораль Августина не совсем обычна, не совсем стандартна. Точно так же, как не совсем стандартна мораль нашего Аввакума. И все писания протопопа Аввакума чрезвычайно похожи на «Исповедь» Блаженного Августина по интонации непосредственного разговора с единомышленниками перед Господом. Интонация эта – иногда ворчливая, иногда брюзгливая, иногда не в меру экстатическая – близка нам именно благодаря «Житию протопопа Аввакума, им самим написанному», тоже такому первому прустовскому тексту русской литературы.
Этика Августина и этика Аввакума (может быть, спорную вещь скажу) ближе к этике Христа, чем наши сегодняшние догадки. Человек тех времен был еще достаточно дикий, и тогдашние этические представления резко, радикально отличаются от той запретительной, той косной, той по преимуществу строгой морали, которая сегодняшней религией навязывается. По Августину, нравственно или безнравственно все может быть только с точки зрения Бога. Попытки человека судить о морали, рассказывать, что хорошо, а что плохо, подобны попыткам детей устанавливать правила для игр. Всё на самом деле игры, всё – тщеславие, всё – стремление достичь первенства в условных и необязательных вещах. И есть только три занятия, которые человека достойны.
Первое и главное занятие человека, наиболее подобающая вещь в жизни христианина, потому что Августин – типичный маменькин сынок, ведь Моника, мать его, открыла ему христианство, «вынашивала меня, – говорит он, – в душе своей с гораздо большей тревогой, чем когда-то носила в теле своем», – это любовь к родителям, попытка спасти родителей, бодрствование с родителями, разговоры с ними и попечение об их душе и об их благе. Это занятие достойно, потому что отношение наше к родителям есть земная модель нашего отношения к Богу. Мы должны прощать их ошибки, мы должны побеждать свое раздражение, и главное, мы должны помнить (Августин все время на этом настаивает), что без них нас бы не было.
Второе достойное занятие по Августину – это творчество: созидание, выдумывание, наведение порядка, сочинение текстов. Потому что творчество – это модель того, что делает Господь. Для многих людей, заблуждающихся искренне, например, для талантливых пелагианцев или для талантливых манихейцев, Августин делает серьезную скидку: он говорит, что это были, в общем, очень милые люди, и хотя они многое не понимали, но слушать их было сладостно. Человек, который, даже заблуждаясь, пытается сделать из мира что-то более приемлемое, более приятное на слух и на ощупь, безусловно, приобщен к творчеству.
И третье занятие, которое, по Августину, является достойным, – это воспоминания, это работа с памятью. Потому что человек способен раскопать, найти в своей памяти, в ее, как Августин все время подчеркивает, необозримых полях не только свою прапамять, но и память историческую. Это, кстати говоря, очень совпадает с прустовской мыслью. В первой главе романа «В поисках утраченного времени» Пруст, обосновывая свой художественный метод, говорит о том, как дотягивает до светлого поля своего сознания любые ассоциации:
В то самое мгновенье, когда глоток чаю с крошками пирожного коснулся моего неба, я вздрогнул, пораженный необыкновенностью происходящего во мне. Сладостное ощущение широкой волной разлилось по мне, казалось, без всякой причины. Оно тотчас же наполнило меня равнодушием к превратностям жизни, сделало безобидным ее невзгоды, призрачной ее скоротечности, вроде того как это делает любовь, наполняя меня некоей драгоценной сущностью: или, вернее, сущность эта была не во мне, она была мною. Я перестал чувствовать себя непосредственным, случайным, смертным.
Но у Августина это не обязательно должны быть какие-то чувственные восприятия. Раскапывая свою память, мы находим в ней прежде всего огромные культурные пласты, пласты прежней мысли.
Мировое христианство, при всей ослепительности христианской истины, имеет массу предшественников. Та же судьба Сократа – пре-христианская, это как бы генеральная репетиция добровольной смерти, о чем писали многие, в том числе Лессинг. Из взглядов Аристотеля выросла вся материалистическая философия, вообще вся философия, но для Блаженного Августина мир Аристотеля выглядит слишком познаваемым, слишком ограниченным, тогда как мир Платона, которого Августин всей душой полюбил, открыв его для себя, – это мир, полный чудес, мир, полный каких-то волшебных неожиданностей. И Августин потому и написал, наверное, лучшую христианскую книгу, что был отягощен или, если хотите, оснащен огромным аппаратом дохристианского знания – языческой тогда еще, античной литературой. Поэтому в нем нет той бедности, скудости, простоты, нет той аскезы, которая порой даже удивительна в писаниях христиан. Августин же к аскезе относится довольно скептически. Мы уже говорили о его взгляде на земную любовь как на грубый аналог любви небесной, почему в любви земной, любви плотской и нет ничего такого уж дурного, особенно если ты привязан к одному ложу. В «Исповеди» нет аскезы ранних христианских писаний, Августин отвергает саму мысль об аскезе. Но истинное наслаждение для христианина, говорит он, это войти в узкие, тесные врата Нового Завета и постепенно открывать в них все бо́льшие высоты и глубины, за кажущейся скудостью и простотой его прозревать весь предыдущий опыт человечества, уложенный туда:
Удивительна глубина слов Твоих! Вот перед нами их поверхность – она улыбается детям, но удивительна их глубина. Боже мой, удивительна глубина! с трепетом вглядываешься в нее, с трепетом почтения и дрожью любви.
Что еще кажется мне очень важным в этике Августина? Это и моя любимая мысль, самая заветная – мысль о том, что по-настоящему страшен только сознательный грех (я не раз повторял ее, говоря о фашизме, потому что фашизм и заключается в том, чтобы наслаждаться преступлением морального закона). Августин раскрывает эту мысль во второй книге «Исповеди». Сначала он говорит о том, что большинство детских грехов выдумываются для того, чтобы показаться товарищам достаточно бесстыдным:
…мне стыдно было перед сверстниками своей малой порочности. Я слушал их хвастовство своими преступлениями; чем они были мерзее, тем больше они хвастались собой. Мне и распутничать правилось не только из любви к распутству, но и из тщеславия. <…> …и если не было проступка, в котором мог бы я сравниваться с другими негодяями, то я сочинял, что мною сделано то, чего я в действительности не делал, лишь бы меня не презирали за мою невинность и не ставили бы ни в грош за мое целомудрие.
И в доказательство Августин приводит историю с грушами, которую знают, конечно, все:
По соседству с нашим виноградником стояла груша, отягощенная плодами, ничуть не соблазнительными ни по виду, ни по вкусу. Негодные мальчишки, мы отправились отрясти ее и забрать свою добычу в глухую полночь; по губительному обычаю наши уличные забавы затягивались до этого времени. Мы унесли оттуда огромную ношу не для еды себе (если даже кое-что и съели); и мы готовы были выбросить ее хоть свиньям, лишь бы совершить поступок, который тем был приятен, что был запретен.
Если бы я был один, по обыкновению оправдывается Августин перед Господом, то не пошел бы на это преступление, но я хотел понравиться этим дуракам. Груши были прекрасными, как все Твое творение, тут же оговаривается он, но они были незрелыми, как был незрелым я в то время. Цели съесть эти груши у меня в тот момент не было, я их украл просто из удовольствия украсть. Поэтому «даже такой жестокий безумец», как Катилина, может быть прощен, потому что у него были какие-то цели, он желал для себя какой-то пользы. Это не грех, а заблуждение. Если бы Катилина желал совершить преступление только из желания преступить, вот тогда это был бы настоящий грех.
Этот эпизод, как ни странно, ближе придвигает нас к понятию греха, нежели почти вся христианская литература. Большая часть христианской литературы исходит из того, что человек грешен изначально (доктрина первородного греха). Единственным исключением, не согласным с этим, может быть британский богослов Пелагий, знаменитый ересиарх IV века, один из главных оппонентов Августина, который говорит, что безгрешные люди есть. Августин придерживается более радикальной точки зрения. Он говорит, что грешен даже младенец, который хочет молока: «Никто ведь не чист от греха перед Тобой, даже младенец, жизни которого на земле один день». Потому что ради молока он пойдет на все, никакой рефлексией младенец не отягощен. Но грех этого младенца простителен: «Младенцы невинны по своей телесной слабости, а не по душе своей». А вот непростительно, когда человек своим свинством хочет понравиться товарищам, и более того, когда он из своего свинства делает предмет для гордости, потому что он ниспроверг божественные нормы. Вот это, по Августину, настоящий грех. Именно смак, извлекаемый из сознательного преступления, и есть настоящий грех, делает Августин главный, по-моему, вывод в истории христианской морали.
О грехе младенчества у Августина нет собственных воспоминаний. Но какое значение имеет для него процесс воспоминания и почему воспоминанию он уделяет такое исключительное внимание, он говорит в книге десятой. Пересказать это своими словами совершенно невозможно: Августин – превосходный стилист, стилист, думаю, получше Аввакума. Но это и естественно: за Августином, в отличие от Аввакума, стоят века античной традиции.
Всё это происходит во мне, в огромных палатах моей памяти. Там в моем распоряжении небо, земля, море и всё, что я смог воспринять чувством, – всё, кроме мной забытого. Там встречаюсь я и сам с собой и вспоминаю, что я делал, когда, где и что чувствовал в то время, как это делал. Там находится всё, что я помню из проверенного собственным опытом и принятого на веру от других. Пользуясь этим же богатством, я создаю по сходству с тем, что проверено моим опытом, и с тем, чему я поверил на основании чужого опыта, то одни, то другие образы; я вплетаю их в прошлое; из них тку ткань будущего: поступки, события, надежды – всё это я вновь и вновь обдумываю как настоящее. «Я сделаю то-то и то-то», – говорю я себе в уме моем, этом огромном вместилище, полном стольких великих образов, – за этим следует вывод: «О если бы случилось то-то и то-то!» «Да отвратит Господь то-то и то-то», – говорю себе, и, когда говорю, тут же предстают передо мной образы всего, о чем говорю, извлеченные из той же сокровищницы памяти. Не будь их там, я не мог бы вообще ничего сказать.
Велика она, эта сила памяти, Господи, слишком велика! Это святилище величины беспредельной. Кто исследует его глубины! И, однако, это сила моего ума, она свойственна моей природе, но я сам не могу полностью вместить себя. Ум тесен, чтобы овладеть собой же. Где же находится то свое, чего он не вмещает? Ужели вне его, а не в нем самом? Каким же образом он не вмещает этого? Великое изумление всё это вызывает во мне, оцепенение охватывает меня.
И люди идут дивиться горным высотам, морским валам, речным просторам, океану, объемлющему землю, круговращению звезд – а себя самих оставляют в стороне! Их не удивляет, что, говоря обо всем этом, я не вижу этого перед собой, но я не мог бы об этом говорить, если бы не видел в себе, в памяти своей, и гор, и волн, и рек, и звезд (это я видел наяву), и океана, о котором слышал, во всей огромности их, словно я вижу их въявь перед собой. И, однако, не их поглотил я, глядя на них своими глазами; не они сами во мне, а только образы их, и я знаю, что и каким телесным чувством запечатлено во мне.
Вот великолепное прозрение Августина, что память физиологична, телесна. Телесным чувством запечатлен в нас мир. И поэтому, кстати говоря, манихейского противопоставления души и тела мы нигде у Августина не найдем. Тело – это тонкое, точное орудие души, ее прекрасное продолжение.
Не только это содержит в себе огромное вместилище моей памяти. Там находятся все сведения, полученные при изучении свободных наук и еще не забытые; они словно засунуты куда-то внутрь, в какое-то место, которое не является местом: я несу в себе не образы их, а сами предметы. Все мои знания о грамматике, о диалектике, о разных видах вопросов живут в моей памяти, причем ею удержан не образ предмета, оставшегося вне меня, а самый предмет. Это не отзвучало и не исчезло, как голос, оставивший в ушах свой след и будто вновь звучащий, хотя он и не звучит; как запах, который, проносясь и тая в воздухе, действует на обоняние и передает памяти свой образ (вот это абсолютно точное прозрение аналогичной главы у Пруста. – Д.Б.), который мы восстанавливаем и в воспоминании; как пища, которая, конечно, в желудке теряет свой вкус, но в памяти остается вкусной; как вообще нечто, что ощущается на ощупь и что представляется памяти, находясь даже вдали от нас. Не самые эти явления впускает к себе память, а только с изумительной быстротой овладевает их образами, раскладывает по удивительным кладовкам, а воспоминание удивительным образом их вынимает.
В самом деле, когда я слышу, что вопросы бывают трех видов: существует ли такой-то предмет? что он собой представляет? каковы его качества? то я получаю образы звуков, из которых составлены эти слова, и знаю, что эти звуки прошуршат в воздухе и исчезнут. Мысли же, которые обозначаются этими звуками, я не мог воспринять ни одним своим телесным чувством и нигде не мог увидеть, кроме как в своем уме; в памяти я спрятал не образы этих мыслей, а сами мысли. Откуда они вошли в меня? пусть объяснит, кто может.
Августин восхищается не своим умом, он видит в нем образ Божий. Это чудо – откуда в памяти человека присутствует все. И, рассуждая об этом чуде, Августин приводит абсолютно платоновский аргумент. Невозможно объяснить ребенку, что есть Бог, но откуда-то он это понимает, откуда-то место для этого понятия в его мозгу забронировано. Попробуйте сами себе объяснить это во взрослом возрасте – вы этого сделать не сможете. Но откуда-то вы это знаете! Видимо, как утверждает Августин, мы знаем это по аналогии. И отсюда самая ценная, самая великая его мысль, которую я особенно люблю в формулировке Андрея Кураева: «Господи, если бы я увидел себя, я бы увидел Тебя»[2]. Но у Августина во второй главе книги пятой она задана в риторической форме: «Я не находил себя; как же было найти Тебя!» Мысль о том, что мы можем постичь Бога, взглянув в собственную заветную глубину, что главным доказательством бытия Божия является человек с его памятью, с ее, памяти, образами, с его волей, с его творческой способностью, – эта мысль (верна она или неверна, не важно) эстетически прекрасна, эта мысль настолько красива, настолько сюжетно оригинальна, настолько легко позволяет переориентироваться с внешнего поиска виновных на поиск себя, что трудно отказать ей в божественном происхождении.
Но что эстетически хорошо, то и этически верно. Эта мысль у Августина нигде прямо не высказывается, но ею дышит все его творчество, иначе бы он не старался перед Богом так хорошо говорить. Прекрасная идея Бога как надстройки над миром может оказаться верной только потому, что она сюжетно очень хороша, очень изобретательна, чрезвычайно соблазнительна. Она очень утешает. Потому что жить в мире без Бога, жить в мире познаваемом, может быть, кому-то приятно, но куда приятней все-таки в себе, в своих непознаваемых глубинах увидеть чудо. И в этом и есть главная радость от чтения Блаженного Августина.
Несколько соображений напоследок очень для меня важных. Почему я люблю искусство V–X веков больше, чем даже ослепительное Возрождение, почему больше люблю XIII–XIV век, чем XV–XVI? Не только потому, что Бог был тогда к человеку ближе, в европейском искусстве не начался еще маньеризм, не началось украшательство, еще гуманизм не начался, который представляется мне все-таки вариантом компромиссным, разбавленным, подслащенным, но потому, что в это время свободная мысль, и прежде всего христианская мысль, делает свои первые шаги. Зарождается герменевтика (теория и искусство толкования текстов), зарождается филология, матерью которой является богословие, зарождается язык для разговора о самом главном. Блаженный Августин дал нам интонацию для этого разговора, и главными в этой интонации мне представляются три вещи.
Во-первых, это ее непосредственность. «Исповедь» может читать абсолютно неподготовленный человек, и все равно он будет ее понимать. Для этого не нужно ни богословское, ни историческое образование. Не надо знать, что Августин жил в Северной Африке, не надо знать, что он бывал в Карфагене, не надо знать, что его мать веровала, а отец не веровал, что Августин долгое время преподавал риторику и дидактику, что он, наконец, хорошо играл в мяч. Не нужно даже знать, когда он беатифицирован, то есть причислен к лику блаженных, когда канонизирован и когда дни его празднуются в католичестве и православии. Не нужно знать ничего. И вот эта непосредственная обращенность Августина к самому простому, к самому непонимающему читателю – пожалуй, одна из главных примет этой интонации.
Вторая черта «Исповеди» – это удивительное сочетание достоинства и смирения. Августин не раб Божий – он собеседник Божий, а это статус более важный. Августин постоянно подчеркивает ненужность раба и необходимость равенства, подчеркивает необходимость диалога. «Натужно ближних теребя, / Ища на свете диалога», как сказано о нем у Нонны Слепаковой.
И третья, особенная черта произведения Августина – постоянное желание процитировать, сослаться на чужой авторитет. Когда смотришь на количество подстрочных примечаний к научному изданию «Исповеди», поражаешься: на 330 страниц печатного текста приходится больше двух тысяч ссылок. Августин словно плетет паутину и в эту паутину вплетает, как в «Игре в бисер» Германа Гессе, огромное количество понятий, отсылок, аллюзий. Это и есть воплощение памяти. Литература, которая в каждом слове опирается на опыт предшественников.
Виктор Пелевин когда-то сказал, что цитировать в литературе – все равно что в драке звать на помощь старшего брата. Но ведь в том, чтобы сознавать за собой авторитет веков, нет ничего дурного. Для Блаженного Августина очень важно сознание того, что мы – на правильной стороне, мы – на верном пути. Поэтому самая цитируемая в «Исповеди» фраза, которая в каждой книге повторяется, – фраза апостола Павла из послания к римлянам: «Если Бог за нас, кто против нас?» В том, чтобы эти слова все время помнить, есть великая правда. В этой фразе, я думаю, заключены вся радость и вся мудрость мира.
1
Здесь и далее цит. по: http://www.vehi.net/avgustin/ispoved.
2
См.: Кураев Андрей, протодиакон. Икона и иноки. URL: https://www.mgarsky-monastery.org/kolokol.php?id=2793.