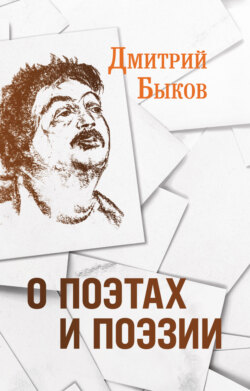Читать книгу О поэтах и поэзии - Чулпан Хаматова, Дмитрий Быков, Ингеборга Дапкунайте - Страница 2
Александр Пушкин
Оглавление1
Пушкин умер 10 февраля 1837 года по новому стилю. Я предложил бы назначить эту дату Всероссийским днем последствий лояльности. Разумеется, ничего дурного о Пушкине здесь сказано не будет. Тяжкий грех для русского поэта – плохо или хоть слегка неодобрительно говорить о нашем верховном покровителе. Но пистолет, из которого убили Пушкина, был заряжен 8(20) сентября 1826 года, в день аудиенции сразу после коронации – когда Николай вызвал его из псковской ссылки, чтобы простить, и самоназначился его цензором.
Пушкин привык опираться на общественное мнение, а общественное мнение во второй половине 30-х было против него.
Впервые он разминулся со своей аудиторией именно тогда, когда принял условия, назначенные Николаем. Следует, однако, различать модус общего настроения в 20-е и 30-е. Наиболее адекватным его выразителем был князь Вяземский, которого Пушкин не без оснований считал другом, а тот, кажется, в глубине души искренне полагал себя поэтом как минимум не слабей.
До декабристского выступления Вяземский активно фрондировал – впрочем, без особенно трагических последствий для себя; об этом ниже. Именно с ним беседует Мицкевич в известном фрагменте третьей части «Дзядов» – «Памятнике Петру Великому» (Пушкин во время петербургского наводнения, как известно, отдыхал и лечился в псковском имении по гуманному распоряжению своего личного врача Александра Павловича, когда оказалось, что ему вреден не только север, но и юг; не исключаю, что в новейшем учебнике истории так и будет написано). Возможно, Мицкевичу казалось симметричней, чтобы с ним беседовал «прославленный певец Севера» Пушкин, – но беседовал с ним менее известный певец.
Вяземский после 1825 года сменил открытую фронду на карманную, но был в числе тех самых «друзей», к которым обращено стихотворение «Друзьям» с разъяснением позиции, изложенной в «Стансах». Вяземский осудил пушкинскую лояльность и в 1826, и в 1831 году, когда появилось стихотворение «Клеветникам России». Ахматова – считавшая, что всегда надо быть на стороне поэта, – об этом говорила: Пушкин высказался на всю Россию, а Вяземский прошипел в дневнике. Пушкин, вероятно, тоже предпочел бы позицию карманной фронды, по крайней мере, не отказался бы от нее, но у него другая ниша: он первый поэт России, в эпохи заморозков «оставлена вакансия поэта» (от которой 100 лет спустя в ужасе открещивался Пастернак), и возможности «прошипеть в дневнике» поэт лишен. Его дело – быть «эхом русского народа», а в эпохи оледенений русский народ думает именно так:
…Для вас безмолвны Кремль и Прага;
Бессмысленно прельщает вас
Борьбы отчаянной отвага —
И ненавидите вы нас…
За что ж? ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?
За то ль, что в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир?..
Вы грозны на словах – попробуйте на деле!
Иль старый богатырь, покойный на постеле,
Не в силах завинтить свой измаильский штык?
Иль русского царя уже бессильно слово?
Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?
Это хорошие стихи – по замечанию Белинского, есть люди, Пушкин в том числе, которые ничего не умеют делать плохо; иное дело, что вдохновлены они ресентиментом, и в этом нет ничего чрезвычайного.
Поэт не обязан вдохновляться исключительно чувствами добрыми – иногда его вдохновляет и ревность, и ненависть, и страх; будем откровенны: для обиды у Пушкина были все основания, как и у Бродского в 1994 году, когда он писал стихи «На независимость Украины» – гораздо более брюзгливые и слабые, нежели «Клеветникам», но у него и темперамент был другой – «Для человека частного и всю жизнь эту частность предпочитающего…», как начинается его Нобелевская лекция.
Эти два стихотворения – «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина» – в пушкинистике объясняют по-разному: одни припоминают, что писаны они летом 1831 года, которое Пушкин провел в Царском Селе, тут подступили лицейские воспоминания, взыграло ретивое, вспомнилось, как провожали войска в 1812 году, «со старшими мы братьями прощались и в сень наук с досадой возвращались, завидуя тому, кто умирать шел мимо нас». Другие полагают, что у Пушкина были все основания ревновать к славе и репутации вольнолюбивого Мицкевича, чье стихотворение «К друзьям-москалям» больно ранило его два года спустя и спровоцировало незавершенный ответ; к счастью, дописывать этот довольно-таки лицемерный ответ Пушкин не стал:
…Но теперь
Наш мирный гость нам стал врагом – и ядом
Стихи свои, в угоду черни буйной,
Он напояет. Издали до нас
Доходит голос злобного поэта,
Знакомый голос!.. боже! освяти
В нем сердце правдою твоей и миром.
Скажите, пожалуйста, какое миролюбие. Правда, и у Мицкевича, будем откровенны, имелось некоторое основание обратиться к русским друзьям с несколькими словами упрека, и «чернь буйная» тут ни при чем; к счастью, Пушкин, чье моральное и поэтическое чутье было безупречно, предпочел ответить Мицкевичу «Медным всадником», где объяснил политическую систему России – конфликт гранита и болота – с предельной наглядностью. Там он объяснил и заложническую роль поэта, который становится первой жертвой бунтующей стихии: при царе еще кое-как можно выживать, но при русском бунте, бессмысленном и беспощадном, тебя никакой царь не защитит. Русский поэт – и более того, интеллигент – всегда существует между этими двумя одинаково враждебными ему и одинаково поэтическими стихиями. С одной стороны его преследует ожившая статуя (каковой инвариант в творчестве Пушкина подробно рассмотрел Якобсон), с другой:
Осада! приступ! злые волны,
Как воры, лезут в окна. Челны
С разбега стекла бьют кормой.
Лотки под мокрой пеленой,
Обломки хижин, бревны, кровли,
Товар запасливой торговли,
Пожитки бледной нищеты,
Грозой снесенные мосты…
Естественно, со временем эта стихия должна оледенеть, что и происходило во второй половине 30-х (а в 40-х, после Лермонтова, русская общественная жизнь вовсе вымерла и вымерзла, «и декабрьским террором пахнуло на людей, переживших террор», как писал Некрасов, прямой преемник и заочный ученик Лермонтова). И тут Пушкин не мог не столкнуться с тем, что ликвидируется и его собственная ниша, что поэт больше не нужен, что «знанье друг о друге предельно крайних двух начал» уже неактуально. Времена, когда «наш двойня гремел соловьем», закончились: начинается соло.
Государственная власть не нуждается уже в трансляторах своей воли и в ответной передаче сигналов общества: общества более нет.
Общество Пушкина предало с тем наслаждением, с каким всегда низвергает кумира: эстетически оно ему предпочло Бенедиктова, а морально – Дантеса. Дантес в этой драме был в такой безупречной позиции – галантный, красивый любовник против стареющего, нелюбимого, бешено ревнивого мужа! Сердце разрывается, как подумаешь о положении Пушкина в 36-м, о злорадном шипении со всех сторон. Но на кого ему было опираться? Люди чести вымерли, переродились, многие смирились с неизбежным. Пушкин в бешенстве говорит молодому Владимиру Соллогубу – чуть ли не единственному своему тогдашнему собеседнику: «Я уйду в оппозицию!» – и 23-летний Соллогуб понимает то, чего не видит, не понимает Пушкин: оппозиции нет, уходить некуда. Нет не только людей, мыслящих свободно, но и ниши для таких людей, что и подтвердит своей судьбой Лермонтов четыре года спустя.
Самому Пушкину не было места, прав Блок – «его убило отсутствие воздуха, и культура его с ним умерла»; он не мог и предполагать этого в сентябре 1826 года, но решилось все тогда. Кстати, Блок бессознательно цитирует Пушкина об Овидии: «Поэт сдержал свое слово, и тайна его с ним умерла»; Овидий был первым, кто перестал вписываться во времена позднего Августа. Повод неважен.
Заметим кстати, что в коллаборации с властью Пушкина чаще всего упрекали люди, которые, в отличие от него, ни в каких ссылках не бывали, в оппозиции отмечены не были и отнюдь не являли собою нравственного эталона. Это не о Вяземском – героический участник Бородинского сражения Вяземский после кампании травли, развернутой против него в 1827–28, вынужден был публично оправдываться, а потом и каяться и, в общем, претерпел достаточно. Двусмысленность позиции Пушкина была в том, что, дав предельно честный ответ о неизбежности своего присутствия на Сенатской, будь он в Петербурге, он к самому восстанию относился крайне сложно и успех его исключал. Для него в 1826 году, через три месяца после казни декабристов, подать руку тирану – особенно если учесть, что в кармане у него в это время лежит «Пророк» с черновой строфой «Восстань, восстань, пророк России», – было крайне сложным выбором. Но вообразите, что у вас в столе лежит «Годунов», лучшая русская драма, где об исторических судьбах России сказаны едва ли не главные слова; что у вас закончены две трети «Онегина», что вы четыре года лишены среды, что новый царь России, умелый вербовщик, прикидывается реформатором и вашим единомышленником, что из псковского сельца Михайловское вы извлечены непосредственно после коронации и возвращены в Москву, – чья голова не закружится? «Не должно избегать сделать доброе дело» – и вы соглашаетесь даже изложить ваши мысли о народном образовании, за которые вам «вымыли голову»; кто из больших поэтов воздержится от «труда со всеми сообща и заодно с правопорядком»? В христологической биографии Пушкина это гефсиманский момент. И, согласившись на предложения Николая и фактически вписавшись в его союзники, Пушкин ни разу не отступил от этого согласия, ибо таков был его рыцарский, аристократический кодекс; узнав о перлюстрации своих писем в 1834 году, он в особенности негодовал именно потому, что со стороны правительства это было отступление от правил, которые он соблюдал свято.
Для него вообще было сюрпризом, что власть в этой сделке не считает себя обязанной соблюдать собственные гарантии. Один из главных уроков его судьбы именно в том, что нельзя им верить, когда они вербуют, – никогда, ни при каких обстоятельствах! – но, с другой стороны, 8 сентября 1826 года Пушкин купил себе десять лет жизни и работы, и какой работы! Так что упрекнуть его, как всегда, не в чем.
…Ну вот. А десять лет спустя, когда они перестали быть совместимы, они убили его, ударив в самое уязвимое и самое больное место – его семейную драму; и выбрали для убийства, как всегда, самых грязных и омерзительных людей тогдашней России, которым ничего за это не было.
2
«Маленькие трагедии» исключительно трудны для постановки и редко удаются режиссерам – прежде всего потому, что оксюморонны по существу, как и их названия. «Моцарт и Сальери» – два лика искусства, и художнику приходится их в себе сочетать; гость не может быть каменным, рыцарь не может быть скупым, чума – не время для пиров. Единственно правильной постановкой цикла из четырех пушкинских пьес была бы дилогия: первый спектакль представлял бы традиционную, поверхностную версию, с веселым и доброжелательным Моцартом, мужественным председателем, дерзким поэтом Дон Гуаном и жестоким скупцом Бароном. Второй демонстрировал бы депрессивного и мрачного Моцарта, грозно намекающего Сальери на его преступление («Правда ли, Сальери, что Бомарше…»), «бессовестного и безбожного» Дон Гуана, который радуется случаю заняться любовью в присутствии трупа врага, трусливого Председателя, страшащегося взглянуть в лицо трагедии и потому кощунствующего, – и…
Вот здесь заминка, поскольку сыграть «Скупого рыцаря» в противоположной, «обратной» трактовке еще никому, насколько я знаю, не приходило в голову. На что велик был Смоктуновский – а и он в замечательном фильме Швейцера сыграл какого-то ростовщика, трактирщика Мойсея из чеховской «Степи», уже им сыгранного у Бондарчука. Между тем своя амбивалентность есть и тут, поскольку Пушкин изображает здесь не просто скупца, а подлинного рыцаря, аскета; и если во всех «Маленьких трагедиях» есть отмеченный Ахматовой автобиографизм, стремление переиграть собственную судьбу или подвести предварительные итоги – то и «Скупой рыцарь» есть глубоко личное высказывание. Если увидеть в трагедии отголосок разрыва Пушкина с отцом, который шпионил за сыном и оскорблял его своей скупостью, – приходится признать параллель между Пушкиным и вспыльчивым юнцом Альбером, но думается, что в Бароне куда больше достоинства и ума; говоря прямо, Барон над своими сокровищами – это и поэт над своими сочинениями. Смысловой центр трагедии, ее кульминация – монолог Барона, создание поэтического героя, заставляющее увидеть именно в Бароне автопортрет зрелого Пушкина.
Как молодой повеса ждет свиданья
С какой-нибудь развратницей лукавой
Иль дурой, им обманутой, так я
Весь день минуты ждал, когда сойду
В подвал мой тайный, к верным сундукам, —
это прямое признание поэта, который среди любых занятий, чем бы он ни был увлечен и каким бы страстям ни поддался, ждет на самом деле только одного: возвращения к творчеству, когда он будет наконец равен себе и, более того, сосредоточится на том единственном, для чего создан. Пока другие прожигают жизнь, тратя ее на любовные или карьерные интриги, – Барон созидает крепость своего величия; и как он собирает дублоны – так поэт коллекционирует чужие страсти и судьбы, да и чужие слезы. Этот образ, кстати, странно аукнулся потом у Маяковского, тоже в трагедии: «В. Маяковский неуклюже топчется, собирает слезы в чемодан. Стал с чемоданом». И как за каждым дублоном в своих сундуках Барон видит трагедию – так и поэт за каждой новой строкой видит концентрат боли, чужой и своей.
Что не подвластно мне? как некий демон
Отселе править миром я могу;
Лишь захочу – воздвигнутся чертоги;
В великолепные мои сады
Сбегутся нимфы резвою толпою;
И музы дань свою мне принесут…
Эта декларация собственного величия сродни и будущему «Памятнику», и сонету, где утверждается право Поэта на верховное одиночество. «Отсюда править миром я могу» – это вполне созвучно формуле «Ты царь, живи один».
Мне все послушно, я же – ничему;
Я выше всех желаний; я спокоен;
Я знаю мощь мою: с меня довольно
Сего сознанья…
Мотив памятника возникает и здесь – в рассказе о царе, который приказал своим воинам принести по горсти земли, «и гордый холм возвысился». Барон пересказывает здесь известную легенду о «камнях Тамерлана».
Но главное, что роднит поэта и скупца, – как ни странно, абсолютное бескорыстие Барона: он собирает золото в свои сундуки никак не для того, чтобы его тратить, а мысль о том, чтобы завещать богатство сыну, приводит старика в содроганье. Барон – подлинный аскет, своего рода рыцарь скупости: деньги нужны ему именно как концентрат жизни, своего рода эквивалент времени, запирать их в сундук – единственный, кажется, способ удержать все эфемерное и зыбкое, найти ему материальный аналог. Поэзия – такой же концентрат времени, единственный бессмертный след чужого бытия: «Ржавеет золото, и истлевает сталь, крошится мрамор»… с той только разницей, что золото не ржавеет. Сама мысль о том, что сокровища будут растрачены сыном и его беспечными друзьями, отравляет Барону мысль о посмертном покое: «И потекут сокровища мои в атласные диравые карманы» – сам-то Барон не потратил ничего, живет аскетически, сына держит в черном теле. «Бескорыстная любовь к деньгам» – в этой шутке только доля шутки: для Барона деньги – никак не средство обмена. Это подлинно концентрат жизни, память о ней, памятник. Сам слог, которым говорит он о своих сокровищах, – сродни интонациям поэта, подводящего итог своему пути; и не следует думать, что поэт творчески преображает мир, а скупец только коллекционирует изделия чужих рук. От Барона требуется столько изобретательности, хитрости и даже самопожертвования, что его труд вполне сопоставим с творчеством. Главное же – Пушкин тоже категорически настаивает на том, что прагматические мысли о поэзии постыдны; деньги не для того, чтобы их тратить, – и стихи не для того, чтобы ими воспитывать народы и улучшать нравы. «Не для житейского волненья» etc, yes!
Мне возразят, что Барон жесток: чего стоит сцена, когда он с невероятным хладнокровием шантажирует стоящую на коленях вдову. Но и поэзия – жестокое занятие: «Поэзия выше нравственности или по крайней мере совсем иное дело». Пушкин цитирует слова Дмитриева о Державине, который повесил двух пугачевцев «из пиитического любопытства». Ради искусства поэт не щадит себя – но не слишком церемонится и с другими: «Какое дело поэту мирному до вас!» Понимание поэта как всеобщего благодетеля, непременного гуманиста, народного слуги – это непозволительное предъявление прав на то, что людям совершенно не принадлежит. Искусство – для любования, а не для воспитания. И чувства Барона —
Хочу себе сегодня пир устроить:
Зажгу свечу пред каждым сундуком,
И все их отопру, и стану сам
Средь них глядеть на блещущие груды, —
весьма сродни тем, какие испытывал Пушкин при виде своих творений: «Трагедия моя кончена; я перечел ее вслух, один, и бил в ладоши и кричал, ай да Пушкин, ай да сукин сын!»
Тем же, кто привык видеть Пушкина, даже зрелого, любвеобильным гулякой, другом своих друзей и страстным народолюбцем, – мы ничего возражать не станем, руководствуясь верным принципом «и не оспоривай глупца».