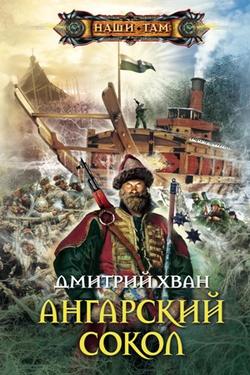Читать книгу Ангарский Сокол - Дмитрий Хван - Страница 4
Глава 4
ОглавлениеГерцогство Померания, Штеттин.
Ранняя осень 7143 (1635).
В начале сентября король Польши Владислав в Штеттине, столице герцогства Померании, негласно встречался со шведским канцлером Акселем Оксеншерной. Этот представитель знатной княжеской фамилии Швеции, генерал-губернатор, а теперь и канцлер королевства определял шведскую политику с момента гибели короля Густава Адольфа. Жена погибшего шведского короля, по всеобщему убеждению высшей знати Швеции, управлять королевством не могла. Аксель добился того, чтобы короновали ребёнка, а сам в это время, по сути, правил страной.
Оксеншерна весной этого года во Франции после многочасовых переговоров с кардиналом Ришелье праздновал свой успех. На стороне его королевства в войну вступила Франция, порвав все связи с Габсбургами. Теперь грохотавшая в Европе война окончательно потеряла свою религиозную окраску, так как и французы, и их противники австрийцы, испанцы, баварцы и прочие были католиками. Отвлекая на себя главные силы врагов Швеции, французы давали Оксеншерне возможность разобраться с поляками. Только вступившая в войну Франция, теперь являвшаяся союзником как Швеции, так и Польши, до этого момента сумела предотвратить назревавшую войну между сторонами по истечении Альтмаркского перемирия. Через год после того, как истек срок перемирия с Польшей, никто не мог поручиться, что Владислав IV, примирившийся с царем Михаилом Фёдоровичем, не попытается отобрать шведскую корону у малолетней Кристины. Оксеншерна, заинтересованный в мире с Польшей, вынужден был пойти на значительные территориальные уступки Речи Посполитой, отказавшись от завоеваний Густава Адольфа в польской Пруссии. И в сентябре, при посредничестве французов в лице дипломата Клода д'Аво, обретавшегося при польском дворе, шведы и поляки заключили новое перемирие в Штумсдорфе.
И вот теперь король Польши сам искал встречи с ним, надеясь решить свои проблемы. Что это были за проблемы, канцлер прекрасно знал: получившие недавно звонкую оплеуху от московитов, поляки искали помощи от нового союзника.
Начав со взаимных комплиментов, король и канцлер не спеша перешли к сути переговоров. Король Польши Владислав описал возросшую мощь Московии и её притязания на польские коронные земли, намекнув, что после Речи Посполитой Москва непременно обратит свой алчный взор на шведские лены в Ингрии и Карелии. Владислав предложил совместными усилиями в ходе осенней кампании захватить Полоцк и Смоленск польскими силами, а Новгород и Архангельск силами шведскими, тем самым вынудить царя Михаила к тяжёлому для него миру.
– Несомненно, что в русских мы имеем неверного, но вместе с тем могучего соседа, которому из-за его врождённых, всосанных с молоком матери коварства и лживости нельзя верить, – обстоятельно проговорил Оксеншерна.
– Но который, вследствие своего могущества, страшен не только нам, но и многим своим соседям, как мы это очень хорошо помним, – быстро добавил Владислав.
– Но, – продолжил канцлер, – сейчас шведские войска находятся в Европе. На московских окраинах наших солдат нет. Лишь гарнизоны крепостей да местные ополчения.
– Канцлер! – умело изображая искреннюю обиду, воскликнул Владислав. – Да многого от вас и не потребуется. Необходимо лишь обозначить ваши намерения, дабы отвлечь силы московитов.
– Ваше величество, но вы же не можете дать мне гарантии того, что в ответ на наши манёвры московиты не обрушатся на наши окраины! Ведь так? А на их месте я бы так и поступил. Да не забывайте, как мы наживаемся на русском хлебе!
– Польша тоже может продавать Швеции свой хлеб, – несколько напыщенно произнёс Владислав.
– Какова будет ваша цена? Русские просят по пять-шесть рейсхталеров, вы можете давать такую цену? – Аксель прищурился, внимательно ожидая ответа короля.
Владислав понял, что произнёс лишнее.
– Вы же перепродаёте хлеб в Амстердаме по семьдесят пять рейхсталеров, выгода всё равно будет велика, – попытался убедить канцлера король.
– Но и разница цены велика, а Швеции нужно золото. И чем больше, тем лучше. Русские дают лучшие цены.
«Вот упрямый осёл!» – мельком подумал Владислав.
– Что же, вы, канцлер, весьма мудро заботитесь о выгодах своей торговли, – кивая, согласился с Оксеншерной король.
– Как и вы заботитесь о благополучии Польши, ваше величество, – ответил взаимностью Аксель.
– Вы отказываетесь помочь Польше в борьбе с Московией, канцлер? – неожиданно сбросил маску благодушия поляк.
– Да, ваше величество. В нашем положении это невозможно. Хотя я и поддерживаю ваше желание поквитаться с московитами, поддержать вас войсками я не могу. Хотя… – помедлил Оксеншерна.
– Что вы имеете в виду? – ухватился за соломинку король.
– Если вы поможете Швеции в Европе, скажем, в борьбе с Данией. Но не сейчас, а позже, когда мы одержим победу над имперцами.
– Польша сможет расправиться с Московией и одна! – сверкнул глазами Владислав. Оксеншерна удивлённо приподнял одну бровь. – Я заплатил татарам и полковникам разбойных казаков, они помогут нам, – пояснил король.
Незадолго до этой встречи, умело использовав гордыню польских магнатов, Владислав получил на руки немалую сумму, которую он потратил на то, чтобы нанять в Венгрии и германских землях солдат, правда изрядно подорожавших в связи с бушующей в Европе войной. Однажды получив оплеуху под Смоленском, Владислав хотел раз и навсегда решить проблему Московии, а именно сделать то, что не смогли его предшественники и он сам ранее, – посадить в Москве на трон нужного человека, а лучше всего себя самого.
– Всё же предлагаю вам не спешить и подождать, вместе мы сможем больше! – убеждённо воскликнул канцлер Швеции.
Владислав упрямо покачал головой.
И вот польские армии и более мелкие отряды подступили к отнятым Москвой у Речи Посполитой два года назад городам.
Царство Московское, Полоцк.
Сентябрь 7143 (1635).
Полоцк сопротивлялся армии Владислава почти неделю. На седьмой день поляки, прорвавшись через пролом в стене Верхнего замка, в короткой и кровавой схватке уничтожили русский гарнизон. В бою погиб и сын воеводы Прозоровского Иван Семёнович, который возглавлял группу стрельцов, пытающихся прорубить себе дорогу из крепости. Несмотря на отчаянную удаль и поначалу сопутствующую смельчакам удачу, Прозоровского остановили у самых ворот замка, подняв на копья. Лишь несколько стрельцов сумели спастись из Верхнего замка, среди них и вологжанин Онфим Быков, сумевший в вечернем сумраке спрятаться на берегу Полоты под раскидистой ивой.
Наутро Онфим, сбросив стрелецкий кафтан, решил пробираться к дому, в вологодские веси. Там, помнил он, позапрошлым летом людишки баяли, что-де можно было с семейством своим по Студёному морю отправиться в далёкую землю, где течёт великая река, из великого озера выходящая, где земля родит обильные хлеба, а крестьянина никто не забижает. Для этого надо было лишь к Белому озеру прийти да слово молвить старосте Беловуку из Михайловки.
Гарнизону пока ещё державшего оборону Нижнего замка этой ночью было предложено сдаться и, при сохранении своего оружия, уйти прочь от Полоцка. Утром стрельцы после нескольких часов раздумий при развёрнутых знамёнах и барабанном бое вышли из своей крепости. Поляки пропустили их до Витебской дороги, где на растянувшуюся колонну с флангов набросились венгерские и немецкие наёмники. Атаковавшие обречённых воинов солдаты раскалывали колонну, окружая группы стрельцов, чьи мушкеты, согласно уговору, неснаряжённые лежали на телегах, уничтожали полоцкий гарнизон по частям. Через пару часов всё было кончено. Добив последних раненых московитов, уцелевшие в сече венгры и немцы приступили к привычному для наёмников мародёрству. Нанятые за немалые деньги в Европе солдаты срывали с павших перстни, кресты и ладанки, потрошили карманы и снимали зерцальные доспехи боярских детей. Считаные единицы из стрельцов уцелели в этом побоище, притворившись мёртвыми или лежавшие без сознания.
Витебск был сдан без боя, гарнизон, заранее извещённый о приближении польской армии, скорым маршем ушёл в Смоленск. Защищать город, где только начали насыпать вал, было бессмысленно. К Смоленску же стекались и более мелкие отряды из окрестных городишек. Только в этом городе можно было выдерживать долгую осаду, ожидая помощи от царя, а то и отбить все попытки взять русский город. Древний многострадальный Смоленск, в очередной раз обложенный врагом со всех сторон, воеводой которого был назначен сам князь Дмитрий Михайлович Пожарский. Князь Пожарский прилюдно дал клятву: не сдавать Смоленска ляхам да оборонять город до последнего стрельца, ожидая помощи.
Из Северских земель тоже шли недобрые вести: польско-запорожские отряды атаковали северские города – Стародуб, Почеп, Новгород-Северский, Глухов и Рыльск. К концу первой недели осады Стародуб и Рыльск ещё держались, остальные крепости были захвачены врагом. Юго-восточнее крымчаки и казаки атаковали недостроенную ещё белгородскую оборонительную черту, правда, безо всякого успеха, а их отчаянные попытки прорваться на Русь пресекались с великим для них уроном. Даже недостроенная до конца черта, состоящая из валов, засек и крепостей, представляла для кочевников непреодолимую преграду. Несмотря на успехи, из Каширы уже шли несколько стрелецких полков на помощь засечникам.
Тем временем воевода Прозоровский в Москве собирал рати для выручения Смоленска, ожидая подхода нижегородских, казанских и прочих полков и ополчений.
Польско-русское порубежъе, Мстиславлъ.
Конец сентября 7143 (1635).
Гетман Калиновский оценивающе смотрел на московские полки, изготовившиеся к обороне на склоне урочища, который местные жители называли телячьим рвом. Леса и заболоченная местность окружали урочище с двух сторон.
«Московитам не убежать», – отметил Калиновский.
Правду сказать, некоторое опасение у поляка вызывали рогатки и составленные вкруг повозки, за которыми находились стрельцы, – уж больно хорошо московиты использовали эту защиту, с успехом отбиваясь от врагов. Но сегодня Калиновский был уверен в победе – его войско больше московитского раза в три, да ещё полк немецких наёмников в резерве.
– Нам известно, что московиты стоят тут четвёртый день лагерем. Они нас ждут, пан Калиновский, – подошёл поручик немецких наёмников Мартене.
– Вы думаете, они хорошо подготовились, поручик?
– Это ясно как божий день.
– Меня смущает лес, окружающий позиции врага. Не приготовили ли они нам какой-нибудь сюрприз?
– Что они могут приготовить? Ещё один полк стрельцов, спрятанный между деревьев? Ваши солдаты их легко перебьют в схватке!
Мартенс пожал плечами:
– Вашими пушками, пан Калиновский, надобно бить по рогаткам, стараться разбить или поджечь повозки. Тогда основное дело будет за вашими гусарами, мы же пройдёмся железным кулаком, утверждая победу.
– Так и будет, – кивнул гетман.
Четырьмя пушками, что были у поляков, удалось довольно быстро разбить несколько повозок, стрельцы же, поднимая раненых, медленно пятились к склону. Покуда не кончился порох для пушек, Калиновский приказал стрелять по рогаткам, чтобы гусары смогли ворваться в проходы и устроить резню. Удалось и это, в нескольких местах рогатки были размётаны, а московиты тем временем уходили далее, изредка стреляя по гарцующим близ рогаток всадникам.
«И правда, засаду готовят, проклятые схизматики!»
– Дозвольте атаковать московитов, пан Калиновский! – Подскакавшему к гетману на взмыленном жеребце капитану Качмареку не терпелось обрушиться на сбившихся в несколько толп стрельцов.
– Думаю, нас ждёт засада, капитан. Видно, что московиты нас заманивают, они не могут быть столь тупы.
– Могут, пан гетман, ещё как могут, – обнажив ровные белые зубы, весело рассмеялся Качмарек.
– Мартенс, готовьтесь! Пойдёте за нами! – Гетман, хлестанув коня, решил действовать напрямую. Даже если московитский военачальник и задумал какую-то хитрость, грубый напор панцирных гусар решит исход его хитрости, превратив её в польскую доблесть.
Командовавший двухтысячным отрядом стрельцов московский дворянин Никита Самойлович Вельский от нетерпения дрожал всем телом. Сунутся ли ляхи за рогатки? От этого зависел исход этого столкновения, долго им тут не просидеть. Отряд в четыре сотни казаков, разделённый надвое, ожидал своего часа, скрытый в лесу, что рос вокруг урочища, в коем расположился отряд Вельского. Там же, меж деревьев, был спрятан козырь Никиты Самойловича – восемь пушек, снаряжённых картечью. План Вельского был довольно прост: заманить поляков за рогатки и расстрелять их из пушек, после чего в дело вступят казаки и стрельцы.
– Идут! Идут, окаянные! – радостно хлопнул в ладоши Андрей, главный пушкарь отряда Вельского, и побежал к своим ребятам.
Пушки, до сих пор скрытые начинающей желтеть листвой, теперь выкатывали на опушку леса. Сейчас жерла смотрели на группы отходящих назад стрельцов. В этом месте, саженях в ста от позиции пушкарей, урочище прорезал неглубокий, но обрывистый овраг, тянущийся полукругом и верхом своим сужающий поляну. Так что если план Вельского сработает, то поляки сгрудятся тут гурьбой, а тогда восемь картечных выстрелов сделают свою убийственную работу. И вот поляки подались на его уловку!
Вельский, оставив коня, кинулся в лес, к пушкарям.
– Андрей, готовься! Идут, сукины дети! – крикнул он пушкарю.
– Охолони, князь, вижу, – спокойно ответил Андрей, примериваясь глазом к каждой пушке. – Иди, не мешай, я сам ведаю, когда стрелять надобно.
Никита отступил, нисколько не сердясь на своего пушкаря. От него сейчас зависело всё, а князю следовало лишь обеспечить ему…
Нежданно послышалась возня, лязг железа и вскрики из зарослей низкого кустарника справа от пушек. Там была пара десятков стрельцов и московский боярин Пётр Опалёв.
– Немцы! – хрипло гаркнул выбежавший из кустов стрелец, прижимающий изувеченную руку к груди.
– Обошли, сволочи! – Вельский побледнел, вся его затея с пушками превратилась в дурно разыгранную партию, где опытный шулер обставил начинающего игрока.
– Сзывайте сюда всех! Надо отстоять пушки! – крикнул Вельский.
На его крик сбегались стрельцы и некоторые казаки, что были неподалёку, основная их часть дожидалась условленного сигнала – орудийного залпа.
С хрустом ломались ветки, разрывая кустарник, на опушку продирались немецкие наёмники поляков. Мушкетёры дали слитный залп, отчего упали несколько стрельцов, а остальные ринулись в сечу.
Поручик Карл Мартенс, согласовав с Калиновским место возможной засады, повёл своих людей лесом, забирая правее, он надеялся выйти в спину предполагаемых московитов. Однако его люди встретили лишь человек двадцать стрельцов, прятавшихся в густом кустарнике. В скоротечной сшибке, вырезав этот отряд врага, немцы неожиданно вышли на притаившихся у опушки пушкарей. Ему стало всё ясно: самонадеянный военачальник московитов решил заманить гусар Калиновского на узкое место и смести их картечью. Неплохой план, подумал Карл, но он не учёл опыта наёмника, иначе как бы Мартенс воевал уже пятнадцать лет, а на нём лишь несколько царапин?
– Залп! – Семеро солдат разрядили свои мушкеты, остальные бросились на московитов. – Убивайте пушкарей к чёртовой матери! – вопил Мартенс.
Легко угадав среди московитов их главного, Карл кинулся на него. Молодой парень, явно поставленный командиром не за военные заслуги, а по чину, неожиданно оказался сильным противником. Мартенс хоть и немного устал, но владел саблей неплохо. По крайней мере, он сам так считал, но и этот упрямый московит, закусив губу, остервенело дрался, не давая Карлу совсем никакого манёвра. На лбу у противника уже выступила испарина, такие мелочи замечаешь сразу, да и движения московита стали чуточку медленнее, тяжелее.
«Тоже устаёт, схизматик. Пора заканчивать с ним. – Карл позволил себе отступить на шаг и попытаться выхватить саксонский пистоль. – Что такое?!»
Неожиданно тяжесть пистоля, лёгшего в ладонь, пропала, а рука дёрнулась вверх. Карл с изумлением кинул взгляд на руку: вместо ладони торчал обрубок, посередине которого красовалась розовая косточка с выступившими крупными каплями крови. Снесённая же напрочь кисть с пистолем валялась под ногами Мартенса. Карл удивлённо посмотрел на молодого московита, но тот уже рубанул его сабельным лезвием по лицу. Свет померк в глазах наёмника.
«Проклятая бойня». – Мартенс рухнул на колени и потом навзничь с рассечённым лицом, с которого толчками выплёскивалась горячая кровь на сапоги убитого его товарищем московита-пушкаря. Никита тем временем упокоил ещё одного немца и ранил ещё двоих. Бок о бок с ним рубились его стрельцы, умело орудуя страшными в сече бердышами.
Показались казачьи шапки со стороны кустарника, откуда вышли немцы.
– Поднажми, братцы! Казачки с нами! – кричал Вельский.
Со стороны поляны доносились мушкетные выстрелы – стрельцы палили в приближающихся поляков. Те, сдерживая коней, медленно приближались к московитам, держась на расстоянии, безопасном для них. Пули, летевшие со стороны стрельцов, были не столь опасны. Калиновский ждал, пока на опушке появятся наёмники.
– А вот и они! Марш, марш! Atakujcie!
Гусары, выкрикивая здравицы Деве Марии, устремились в проделанные пушками проходы в укреплениях московитов. Стальная лава устремилась на стрельцов.
– Андрей, как ты, братец мой? – с великой жалостью Никита Самойлович смотрел на своего пушкаря.
Тот, кряхтя и прижимая глубокую рану на боку, откуда не переставая сочилась тёмная кровь, командовал несколькими чудом уцелевшими пушкарями и стрельцами, их заменившими.
– Гусары скачут, князь! – закричал стрелец, срывая с себя наспех надетые доспехи убитых немцев.
Остальные также надевали свои кафтаны. Поляки, купившись на маскарад стрельцов, устремились в атаку. Вельский бросился редколесьем к заранее приготовленным позициям стрельцов на склоне урочища. Бородачи напряжённо стояли с готовыми к бою пищалями за рогатками, дополнительно выставив и укрепив копья.
«Андрей, на тебя лишь надёжа», – думал Никита, судорожно сжимая эфес окровавленной сабли. Конная лава приближалась, стрельцы подобрались. Бледные, решительные лица с суровыми и обречёнными взглядами. У узкого места поляки смешались.
«Ну что же ты, Андрей!» – чуть не взвыл Вельский.
– Давай же, – вмиг пересохшим горлом засипел князь.
Поляки тем временем стали выбираться из сужения, и тут с опушки, находившейся в десятке-другом саженей, от пушек в это людское и конное столпотворение полетели рои картечи. Кусочки свинца разрывали тела коней и людей, пробивая латы, вырывая целые куски плоти. Послышался дикий вой расстреливаемых поляков и жалобное конское ржание. Несколько мушкетных выстрелов с позиций пушкарей и снова залп пушек.
– Братцы, за мной! – зычно крикнул Вельский, увлекая стрельцов.
Гиканье и далёкий казачий свист заставили сердце Никиты сжаться от нахлынувшей на него радости. Это была победа. Первая его победа!
Окружённые, смешавшиеся поляки не смогли дать никакого отпора, пытавшиеся добраться до пушкарей спешившиеся гусары сметались со склона опушки, мушкетными залпами и копьями стрельцов, а налетевшие со спины врагов казаки избивали пытающихся бежать.
«Как курица в ощип», – последняя мысль промелькнула в голове гетмана Калиновского, прежде чем удачливый казак снёс её ловким ударом сабли.
Всё было кончено.
Умершего пушкаря Вельский похоронил там же, где он и испустил дух, до конца командуя стрельбой, – на светлой опушке леса.
Отряд князя, собрав богатые трофеи, уходил по берегу Сожи к Ростиславлю, чтобы там, встретившись с другими отрядами, двигаться к обложенному врагом Смоленску. В очередной раз судьба кампании решалась у стен древнего города.
Ростиславль оказался занят врагом. Как рассказали окрестные крестьяне, отряд литовского шляхтича Телецкого вошёл в город безо всякого приступа. Ночью небольшой стрелецкий гарнизон, убоявшись огромного количества костров, горевших в стане литовского отряда, ушёл в сторону Смоленска. А отряд боярской конницы, оказывается, стоял в небольшой деревеньке к востоку от города. Князь Вельский немедленно послал туда людей, приказав готовить пушки, – с его артиллерией разбить невысокие деревянные стены крепостицы было несложно. Ростиславль Никита обложил со всех сторон, благо городок был мал и большого труда это не составило. Воевода решил не просто взять город, но и уничтожить его гарнизон.
– Начинайте бить из пушек! – дал команду пушкарям Никита.
Целью были выбраны проездные ворота с надвратной башней, которая, судя по её ветхому виду, и так недолго бы простояла. Так и получилось: уже с третьего удачного попадания ядра одна из створок ворот с треском провалилась внутрь, разлетевшись на доски, вторая же криво повисла на петлях. Стрельцы шумно восприняли этот успех пушкарей.
Вельский, давший отмашку пушкарям, дабы те не тратили покуда ядра и порох, в наступившей тишине услышал тяжёлый и мерный топот сотен копыт. Далеко разносившийся по промёрзшей земле гул предвещал появление русской панцирной кавалерии. Как выяснилось в разговоре с Дмитрием Щептиным, отряд в три с половиной сотни воинов собирался два месяца в Можайске и Дмитрове.
Щептин с радостью согласился влиться в войско князя Никиты Вельского, чихвостя главу стрелецкого гарнизона, бывшего ранее в городе и ушедшего к Смоленску, за малодушие. Что же, подкрепление московитов не прошло незамеченным со стен крепости, а постоянные перемещения сотен казаков создавали у литвинов впечатление большого числа конницы у осаждающего город противника. После обеда обстрел стен крепостицы возобновился. Литовцы, ожидая штурма, пытались заделать брешь в воротах и появившиеся в стенах проломы. Но Никита Самойлович не желал немедленного штурма, стрельцов своих жалея.
«Нечего у стен столь жалкой крепостицы головы стрелецкие класть. Оные у Смоленска большую пользу окажут», – думал князь.
– Калите к вечеру ядра! – приказал пушкарям Никита.
«В темноте суматохи больше, авось Литва спробует уйти». Вельский по наступлению темноты произвёл в войске некоторые манёвры.
Так и случилось. Ночью свет горящей в нескольких местах городской стены и низких башенок не дал возможности литвинам уйти из города незамеченными. Вельский был готов к такому развитию осады Ростиславля. Как только стемнело, он немедля произвёл заранее оговоренное сосредоточение стрельцов в местах, где прорыв осаждённых был наиболее вероятен. И не прогадал. Поэтому бегство отряда шляхтича Телецкого, предпринятое в нескольких местах, полностью провалилось и превратилось в бойню. Гарнизон совершал прорыв не единым кулаком, способным на удачу, а растопыренными пальцами, каждый из которых встречали залпы стрелецких мушкетов и пушечная картечь.
Довершили разгром казаки и боярская конница, посекшие и втоптавшие врагов в мёрзлую землю. Во втором своём сражении Вельский потерял лишь несколько человек убитыми да малое количество раненых. Наутро, приказав жителям города хоронить убитых, князь отвёл войско на отдых чуть выше Ростиславля и оттуда отослал в Москву гонцов с подробным описанием своих побед над ляхами и литвою.
Забайкалье, южные отроги Яблонового хребта.
Сентябрь 7144 (1636).
– Дальше ещё хребет, уже покруче! – тоскливо воскликнул Ким, отирая струящийся со лба пот.
Отпустив еловую лапу, он присел на траву, чтобы дождаться остальных. Дыхание его сбилось, и Серёга, улыбаясь карабкающимся на сопку товарищам, пытался его восстановить, надувая щёки.
«Старею, что ли?» – Уже вставая, Ким огляделся: внизу, по более пологому склону, тащились кони, обвешанные поклажей да зычно понукаемые казаками и крестьянами.
Экспедиция на Амур ушла из форта Баргузин, что на байкальском полуострове Святой Нос, в середине лета 1636 года – в привычном для ангарцев исчислении лет. В составе экспедиции было четыре группы. Первая, под руководством бывшего енисейского казака Матвея Корнеева, насчитывала шестнадцать человек, в том числе и Игната с Баженом. Вторая группа, самая многочисленная, состояла из двадцати крестьян под началом Яробора, сына усольского старосты Всемила. Тунгусы, умелые стрелки из луков и ружей, входили в группу сына Баракая, новокрещёного Петра. Морпехи Саляева составляли группу прикрытия и разведки, находясь, вместе с некоторыми тунгусами, чуть впереди и по сторонам от идущего каравана.
Крестьяне, по выражению Саляева, были хозвзводом экспедиции, они же отвечали за два десятка лошадей, выменянных у бурятского племени, кочующего в степи неподалёку от устья Селенги, на партию отличных копий, сабель и множество наконечников для стрел, а также на несколько небольших зеркал и котлов для приготовления еды. Вождю кочевья также пришлось подарить и красный казацкий кафтан, сшитый специально для Бекетова и нечаянно попавший старику на казавшиеся подслеповатыми глаза. Но теперь не люди, а выменянные кони были нагружены под завязку. Помимо провианта, они везли инструменты, а также необходимый минимум стройматериалов, таких как гвозди, скобы и прочее.
В походе за каждым казаком и крестьянином было закреплено оружие – новейшей системы однозарядное гладкоствольное ружьё, стреляющее картечью. Каждый участвующий в походе сдавал зачёты по оружию сначала Сазонову, а потом Саляеву, и только тогда получал в личное пользование «ангарку», как назвали это чудо создатели.
– Ничего, за тем хребтом мы должны на Шилку выйти. – Подошедший к Киму Саляев сверялся с картой, посматривая на компас.
– Уж лучше бы привал сообразили, – хмыкнул Сергей.
– Ладно, сопли распускать не будем, пошли! – Ринат, хлопнув Кима по спине, стал спускаться с сопки, забирая вправо на пологую сторону.
Он хотел переговорить с Сазоновым и Бекетовым о дальнейшем маршруте. Ринат предлагал начальникам экспедиции разделить отряд после их выхода на берега Шилки. Казаки с крестьянами, сделав плоты, должны были сплавиться по Шилке до слияния её с Амуром, где немного далее по течению устроить форт Албазин на даурском берегу великой реки. А морпехи верхом на конях проследуют берегом, впоследствии переправившись к остальным.
Бекетов неожиданно легко согласился на этот план. А Сазонов задумался:
– Быстрее-то оно быстрее получится. Нежели мы все вместе тащиться берегом будем. Но, Ринат, безопасность отряда – вот главное!
– Алексей, безопасность на реке почти стопроцентная. Шилка широка, а если скорбные умом туземцы будут к нам на пирогах, или что там у них, подгребать с гнусными намерениями, то вона – мужики берданками отшмаляются.
Сазонов посмотрел на солнце и с некоторым сомнением произнёс:
– Сегодня, может быть, успеем те сопки перевалить, а у Шилки отдохнём. Потом плоты…
– Можем не успеть, майор. Да и кони уставшие, это людям проще по горам скакать, – озабоченно проговорил Бекетов.
И в тот же миг впереди, среди сопровождавших лошадей крестьян, раздался треск ломаемых кустов и яростный звериный рёв. Сразу последовали вопли людей, испуганные всхрапы лошадей и тонкое ржание одной из них.
– Никак медведь?! – вскрикнул Бекетов.
Саляев, с каменным лицом срывая винтовку, помчался на крики. Но слитно раздавшиеся выстрелы заставили смолкнуть ревевшего хищника. Когда Ринат пробрался сквозь толпу к поверженному хозяину тайги, на его разбитой картечью кровавой морде уже хозяйничали мигом собравшиеся мухи. Саляев огляделся: караван втянулся по узкому проходу между сопками, стиснутому к тому же с обеих сторон густым кустарником, поэтому лошади шли одна за другой. Люди же находились с разных концов каравана, Ринату стало ясно, почему косолапый напал. Здесь, в тайге, бродили ещё не пуганные человеком звери, современный мишка к лошадям и людям за километр не подойдёт.
– Молодой да резвый, жир нагуливал перед спячкой, – раздавались голоса вокруг.
– Что с лошадьми, Яробор? – Ринат, сплюнув, спросил у стрелявшего парня.
– Одну задрал, вона бьётся, сердешная. Кишки ей выпустил, паскуда. – Не сдрейфивший в момент нападения хищника парень показал Саляеву на бьющуюся в конвульсиях лошадь с распоротым брюхом, которая билась мордой со стекленеющими глазами по земле да сучила копытами, не находя в них опоры.
– Добейте, – бросил Ринат. – Нехрен ей мучиться. Зато мяса поедим сегодня.
– Да и медвежатина оно дело, особливо лапа у него вкусная, – тут же проговорил Яробор, прилаживаясь обухом к голове обречённой лошади.
Мужики тут же стали оборудовать стоянку отряда, распрягая лошадей, кто-то пошёл за дровами, а кто-то уже готовился свежевать обе туши.
Амур, верхнее течение реки. Начало октября.
Амурская земля. Величественная река и бесподобной красоты берега. Стеснённый в верховьях скальными породами и преодолевающий многие перекаты, далее Амур разливается широко и величаво. Сопки по берегам, буйно поросшие дубняком, кажутся будто сглаженными рукой неведомого великана. Изредка почти отвесно спускаясь к прохладным, шелестящим водам Амура, они показывали своё каменное нутро, осыпаясь светло-коричневой породой. Река усыпана многочисленными низменными островами с широкими песчаными пляжами, берега в основном широки и удобны для стоянки плотов.
– Как испанцы какие… – произнёс тихонько Васин, сидя у костра.
– Чего? – не понял Саляев. – Какие испанцы?
– Ну, понимаешь, навроде как мы теперь первопроходцы этих мест, как испанцы на Амазонке. – Огромный, как медведь, сержант с пудовыми кулаками сейчас оглядывал жёлтые сопки с явным чувством удовольствия.
– На Амазонке скорее португальцы были, – улыбаясь, ответил Ринат. – Олег, ты, братуха, чего, не насмотрелся ещё на всё это? Или у тебя это осеннее? Ты бы смотрел лучше, чтобы в тебя стрелой не пустили из-за соседнего валуна.
– Пошёл ты, Саляев, – беззлобно отбрехнулся сержант, оправляя шапку, – вечно ты всё опошлишь.
Саляев в ответ лишь хмыкнул и предложил Олегу нанизанный на шпажку кусок жареной рыбы.
У другого костра Бекетов и Сазонов обсуждали дальнейший путь экспедиции. Поначалу планировавшийся к постройке форт Албазин уже был отметён. Сазонов предложил Петру Ивановичу держать путь к слиянию Амура и Уссури, показывая путь по карте. Бекетов, поначалу поражавшийся качеству карт ангарцев, больше вопросов не задавал, приняв это как должное. Да и ответов-то, по сути, не было.
– Сколько дён итти будем, Алексей? – спросил Пётр Иванович.
– Не знаю точно. Сказать сейчас это невозможно, мы же не можем знать, что завтра будет.
Назавтра ангарцы снова пустились в путь, плоты держались северного берега, где верхом двигались морпехи. Изредка попадались следы пребывания человека – кострища, останки снастей и ветхие лодки, кости животных и разного рода никчёмная утварь. Несколько раз на реке встречались лодки, но они быстро уходили, не пытаясь сближаться с флотилией ангарцев.
– Стало быть, чужаков тут не любят, – протянул Сазонов, когда очередная пара лодок, увиденная им издалека, ушла в островную протоку.
– А где их любят, чужаков-то? – буднично ответил Матвей, почёсывая бороду.
С берега донёсся свист – морпехи сигнализировали о замеченных ими людях.
– Правьте к берегу, будем знакомиться с местными, – приказал Сазонов.
Плоты стали забирать влево, один за другим упираясь в шуршащий песок побережья. Саляев показал на вьющиеся дымки прикрытого осенним лесом поселения. Скоро вернулся Васин, уже сбегавший с парой бойцов на разведку, – понаблюдал за посёлком со склона невысокой сопки.
– Типичная деревня оседлого народа, домов под пару десятков. Невысокий земляной вал, идёт кругом по границе посёлка, две башенки у входа в селение. Ворота вроде есть, но сейчас открыты.
– Сколько народу примерно там? – спросил Сазонов.
– Под полторы-две сотни будет, – уверенно ответил Олег.
– Ну что, идём знакомиться, – вздохнул Сазонов.
– А может, дальше поплывём, Алёша? Зачем нам эта деревня? – озабоченно протянул Бекетов.
– Пётр Иванович, нам всё равно необходимо дать о себе знать. Кстати, Яробор, Матвей, своим людям объявите сразу: ничего у туземцев не отбирать, не задирать, на баб их не пытаться залезть. Короче, белые и пушистые, пока я не скажу иного. А кто ослушается – вона, Васин разбираться будет.
– Майор, чего говоришь-то, нешто мы не знаем оного? – с немалой обидой ответил казак.
– Матвей, родной, за тебя я уверен, а за казачков – не очень, не все там из твоих людей. Так что не обижайся. Яробор, ясно?
Юноша коротко кивнул.
Лошадей снова загрузили поклажей, и ангарцы неспешно двинулись к посёлку. Сазонов остановил людей на широком поле со следами сельскохозяйственных работ.
– Пашут, значит, землицу-то, это хорошо, – довольно сказал Бекетов.
Наконец их заметили. На валу забегали фигурки людей, потрясавшие копьями, а со стороны леса в посёлок метнулась группа женщин, под охраной нескольких мужчин, за которыми в проёме вала тут же были установлены ворота, представлявшие собой связанные друг с другом колья. Посёлок явно готовился к осаде. Сазонов критично посмотрел на вал и изготовившихся на нём людей и дал команду располагаться лагерем.
Верхний Амур. Октябрь 7144 (1636).
На амурские берега постепенно опускалась ночь. Воздух наполнялся прохладой, а с реки задул неприятно холодный, пронизывающий ветер, заставивший шуметь ветвями окружающие поле деревья. На валу селения амурцев один за другим зажигались факелы, в свете которых маячили фигурки туземцев. Из посёлка то и дело слышались резкие властные крики и следующие за ними общие вопли десятков глоток.
– Надевайте бронь, братцы! – вскричал вдруг Бекетов.
– Рано ещё, Пётр Иванович, – возразил немного погодя Сазонов, указывая на отодвигаемые ворота в проходе вала.
Две фигуры, держащие в руках факелы, вышли из-за отодвинутого от прохода заграждения. На валу тут же загорелись десятки факелов – амурцы наблюдали за своими товарищами, готовые ринуться к ним на выручку, случись что с ними. Двое амурцев тем временем неспешно приближались к лагерю ангарцев. Обернувшись, Сазонов заметил, как напряглись его воины. Алексей всех успокоил:
– Спокойно, парни, они хотят поговорить. Это хорошо, это значит, что они не дикари.
Амурцы, меж тем дойдя до середины поля, встали, видимо ожидая, что и к ним подойдут.
– Пётр Иванович, пойдёмте поговорим. Эй, Петька! – окликнул майор крещёного тунгуса. – Давай с нами!
Троица ангарцев не спеша шествовала к ожидающим их амурцам. Один из них оказался глубоким стариком, а второй, напротив, юношей. Старик амурец начал говорить на своём языке, растягивая слова. Сазонов, встретившись взглядами с Бекетовым, недоуменно пожал плечами. Они оба за годы, проведённые на Ангаре, более-менее сносно научились разговаривать на языке ангарских тунгусов, но сейчас он не понимал ни слова. Точнее, знакомые слова он уловил, но не более.
– Ты чего-нибудь понимаешь? – негромко спросил Алексей у тунгуса.
– Немного, товарищ майор, – кивнул ангарец, – сейчас попробую.
Пётр, учтиво перебив старика, задал ему вопрос, тот ответил. Сазонову показалось, что амурец даже улыбнулся краешками губ. Лицо же тунгуса просияло.
– Да, я понимаю его. Это дахур хайлар, его зовут Тукарчэ, он староста этой деревни.
Старик опять начал говорить, уже более эмоционально, кивая на Сазонова и Бекетова. Потом он попытался что-то начертить на твёрдой, остывшей земле, но, видя непонимание, бросил это занятие. Затем он снова заговорил с Петром. Тунгус обернулся к русским:
– Он спрашивает, откуда вы. Что говорить?
– Так и скажи, как есть. С Ангары! – быстро ответил Сазонов.
Пётр заговорил со стариком, а тот после нескольких фраз снова попытался начертить что-то, по-видимому опять безуспешно. Тукарчэ прошипел ругательство сквозь прореженные ряды крупных жёлтых зубов.
– Алёша, он чертёж землицы своей пытается нам обрисовать? – повернулся к Сазонову атаман.
– Сейчас я ему свой чертёж нарисую, – негромко ответил майор, поглядывая на шипящего амурца.
Сазонов расстегнул планшет и, поправив руку юноши, державшего факел, расправил общую карту Восточной Сибири. С помощью тунгуса Петра Алексей принялся убеждать Тукарчэ в необходимости смотреть на бумагу, а не пытаться опять что-то начертить на земле. Благодаря крепким ругательствам и азам актёрского мастерства удалось убедить старика в том, что голубая лента средь зелени тайги и есть его Амар. Сазонов пояснил старику их путь с Ангары. Подслеповато щурясь, амурец водил пальцем по карте, покрытой плёнкой. Поглядывая на русских, амурец что-то спросил у тунгуса. Бекетов вопросительно кивнул Петру, тот пояснил:
– Спрашивает, добрые ли вы люди и чего вам надо на Амаре?
– Скажи, люди мы добрые, даже очень, ну ты знаешь, – рассмеялся Алексей. – Скажи, что ничего дурного мы не замысливаем. Что нам ничего не надо от них, разве что познакомиться.
Пётр начал говорить со стариком, тот слушал и кидал внимательные взгляды на русских.
– Он хочет посмотреть на наших людей, товарищ майор.
– Пусть смотрит, – переглянулись руководители экспедиции.
Амурец, освещая себе путь почти прогоревшим факелом, поковылял к ангарцам. Казаки смотрели на старика хмуро, равнодушно, крестьяне более заинтересованно, но скорее из чистого любопытства. Морпехи же улыбались, приветствовали хайлара незамысловатыми фразами, помахивали руками. Некоторые даже подмигивали. Тукарчэ оглядывал сидящих меж русскими тунгусов и с удивлением отметил, что орочоны-эвенки, большей частью совсем молодые воины, нисколько не смущаясь разговаривали с длинноносыми ангарча на незнакомом в этих краях языке. Вот они дружески похлопывают друг друга по плечам, смеясь явно хорошей шутке. Один из эвенков, с держащейся на его губах улыбкой, поворачивается к старику Тукарчэ и с интересом смотрит на него. Амурец видит, что на шее у орочона висит тот же оберег, что и у тех бородатых и высоких людей, чьи лица прежде старейшина Умлекана никогда не видел. Скрещенные полоски металла на шёлковом шнурке. Но когда он спросил одного из эвенков на том языке, на котором говорил с ангарским толмачом, ему тот ответил.
– Эй! Ты служишь у длинноносых. Тебя заставили? Взяли из посёлка? – решил развеять свои сомнения Тукарчэ.
– Я дружинник князя Ангарии, его воин. У меня лучшее оружие, и эти люди, – орочон обвёл рукой вокруг находящихся рядом с ним товарищей, – это все мои друзья.
«Не врёт, а значит, этим ангарча можно верить?» – думал старик, покачивая головой.
– Кстати, Пётр Иванович, вы не знаете, почему эвенков тунгусами зовут? – негромко спросил Сазонов, наклоняясь к уху атамана.
– Не ведаю оного, Алёша, – пожал плечами Бекетов.
Тукарчэ обошёл лагерь ангарцев, после чего, подойдя к Сазонову, пригласил его, по словам Петра, в свой посёлок.
– Пётр Иванович? – спросил майор.
– Да-да, Алексей, пошли, – кивнул Бекетов.
– Олег, давай за старшего. Яробор, ты тоже смотри в оба, мало ли что!
– Товарищ майор, всё будет в порядке, – пробасил Васин, хлопнув сына усольского старосты по плечу.
Когда ангарцы подходили к валу в свете, отбрасываемыми горящими на нём кострами и факелами, Алексей заметил торчащие кое-где из склона вала стрелы и законченность башенки при входе в посёлок. Мужчины, встретившие их, были напряженны и усталы, на многих были окровавленные тряпки, закрывавшие раны.
– Похоже, на ихнюю деревню нападали, и совсем недавно, – проговорил Бекетов Сазонову.
– Так и есть, ясно, чего они опасались. А Тукарчэ вышел посмотреть только потому, что мы не сходны с его врагом, видимо. Отчаялся, старикан.
Гости прошли в дом, который представлял собой сложенное из брёвен и жердей строение с очагом посредине жилого пространства. Домишко был довольно ладно выстроен, тунгусам, с их неказистыми шалашами, было далеко до амурцев. Ангарцев пригласили за расстеленные в углу помещения циновки, старик устало опустился рядом, за ним пристроился юноша. Принесли горячее питьё, а потом и нехитрые закуски.
Сазонов с интересом смотрел на Тукарчэ. Он заметил, что амурец с плохо скрываемой грустью посматривает на юношу, даже скорее с жалостью. Наконец, отослав паренька, старик начал говорить. Оказалось, что юноша был его внуком.
– Я же говорил, – шепнул Алексею Бекетов, ранее угадавший родственные связи этой парочки.
Пётр продолжал переводить речь Тукарчэ. Селение называлось Умлекан, одно из поселений даурского рода аула, что жили в этом и ещё двух селениях поменьше. Они были подчинёны князцу Сивкаю, который приходился племянником Тукарчэ. После неожиданной гибели Сивкая на охоте власть в роду захватил его младший брат, что являлось нарушением традиций, так как старшинство в роду переходило к сыну Тукарчэ. Кутурга, младший брат Сивкая, обманом заманив сына Тукарчэ на встречу, подло убил его, покрыв себя и род свой позором. А теперь он требовал подчинения от старого Тукарчэ и его внука – Шаралдая. Естественно, Кутурга и не рассчитывал на то, что они подчинятся ему, он должен был убить обоих и тем самым убрать последних претендентов на власть в роду. Но Умлекан выстоял, отбив несколько штурмов воинства Абгая и уничтожив немало его людей.
Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу