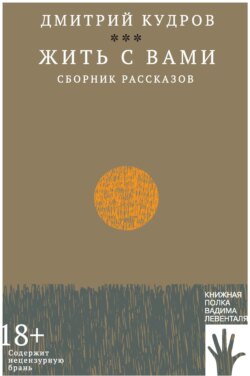Читать книгу Жить с вами - Дмитрий Кудров - Страница 3
Другая езда в остров любви
Оглавлениеежели творец замысловат был,
то переводчику замысловатее надлежит быть
В. К. Тредиаковский
А в мужниных устах она становилась Люсеттой, etc., etc.
Etc., что значит: напыщенный и насыщенный цветастыми метафорами и аллитерациями дрожащих абзац о сердечных заботах (от зыби к озябанию) девы и мужа ее, в цветах увенчанного.
Но, что ценно для двоих, место забот покоилось не занято.
Люсетта, производное от Людмилы, – имя домашнее или даже шифр, исключительно его к ней обращение, подчеркнуто исключительное, и не потому, что оригинал ей никогда не нравился (или даже раздражал – в школьной юности она подписывалась Люсиль М., вычурно под вычурными и неуклюжими столбцами верлибра), но по особенности его положения – некоторого выпадения из ряда ее многочисленных товарищей и товарок.
Он – заочный аспирант и в университетских коридорах появляется редко, но несмотря на это, становится ею отмечен в один из первых дней первого курса – пронеслась, промелькнула над всеми (помимо всех) его темная курчавая голова, отрешенная, замкнутая в себе самой. Потом она путается и плутает, утверждая, что ни разу его не видела до кафедральной встречи, бывшей сильно позже описанных событий, то есть когда она сама готовила кандидатскую к защите. Но тут, конечно, можно отразить удар тем, что он к тому времени – сам кандидат, уже оставил службу в толстых журналах и года три (если не четыре) преподавал, более того имел непосредственные отношения с ее научным руководителем, – и она просто обязана была его отметить, заметить, etc. Другое – отражать удары не всегда хотелось, и первый разговор состоялся именно на кафедре: пил чай возле окна, кажется, заклеенного и законопаченного на зиму (она говорит про июнь) – сидела на диване и, постукивая острым носком туфли, ждала неизвестного. Нескончаемые исчисления поэтических имен и невразумительная болтовня вокруг недавнего происшествия – преподаватель был удушен в своем подъезде студентом-неудачником (студента потом признали душевнобольным, а насчет оригинальности известной работы удушенного подняли большой спор). Далее были те самые многочисленные ровесники (ее, не его) и студенты – перво-, второкурсники, – самый старший – Игорь, мордатый (толстоватый, в ее варианте), все равно был моложе, – и мужу приходилось слишком (более чем… он, что называется, испил сей стакан) за свою уже-не-юность переживать. Но то было единственным, в чем она могла мужа упрекнуть – он не давал поводов к любимому ее занятию, зато никогда не был кем-то из них, затаившихся на групповой фотографии, равно как не был и кем-то из других, фотографий с которыми она избегала вовсе, – у него были свои интересы.
Люсеттой она стала как бы в ответ на те самые возрастные колкости: она ему старик, он ей – поэт. вульгарность: Люсетта и султан, Люсетта и великая французская революция, Люсетта утопилась, Люсетта возвращается домой. Тут, кстати, возникает (особый, что называется) интерес к эволюции имени: после Люсиль появилась Люся Море (верлибр сменила ироническая стилизация), потом Л. и только затем Людмила (никакой иронии, никакой игры). И еще, к слову, муж несколько раз интересовался, а как, мол, говорят они, как называют ее, ведя, допустим, указательным пальцем от пупа к нижней губе, дабы скользнуть меж склизких зубов под самый язык. Она не отвечала, но проговаривалась: вроде как Люся (Люсетта вздрагивала и кривилась), и даже более того (однажды): ей нравится или она сама того просит. А вот и повод для мужниной обиды, дружеской ссоры (тарелки не летели, но ваза пострадала): Люсеттой Мариной она подписала собрание стилизованных под похабные моряцкие песни стихов. И ладно подпись, но именно это стало первой (единственной) выпущенной ее книгой, хотя в издательстве темном и сомнительной репутации. Ирония, издевка и его успокоение – мужнина Люсетта оказалась куда привлекательней Людмилы, про которую, собственно, даже не скажешь, чья она есть, – ее, Людмилины, стихи появлялись по одиночке (реже парой) в журнальных публикациях раз или два за год и никакого энтузиазма у издателей не вызывали, в отличие от ее научных и/или критических работ, тоже где-то в связи с поэзией.
Люсетте это смешным не казалось, то есть теперь она даже не переживала, в тридцать три понимание куда важнее, по ее словам, чем… и она задумывалась, и проваливалась в дурную рекурсию, и продолжала сидеть на диване, постукивая туфлей и поглядывая на часы, пока муж измерял глубину внезапно обнаруженного болота. Но у него, а это важно, свои интересы, т. е. во многом их интересы совпадают, и не только в области современной поэзии, – подмигивание, улыбка, и вот она уже всплеснула руками и, скрипнув, хлопнув дверью, застучала всё быстрее и быстрее каблуками по пустому университетскому коридору, где (наверняка) в перемену-перебивку, когда пустота восполнится, она обнаружит другую голову, которая и помимо, и поверх (то, что всегда ее, т. е. еще один способ восполнения), и взамен, но в отличие от мужниной не все интересы разделяюща, только (и вот он снова углядел иронию) колкости будут отпущены теперь ей и, возможно, самой ей.
Удивительно и странно для поэта, по свидетельству мужа, бездарного (для свидетельства у мужа были все его основания), а для литературоведа еще удивительнее: книг ни Людмила, ни Люсетта, ни даже Люся читать не любила (Люся в виде исключения любила слушать стихи или стишки (sic.) всегда нынче юных, пегих (гутен хам, что значит: славный окорок, детка) и пряных своих трахальщиков, мальчиков-под-лязг-бокальчиков). Дело не в любви – дело в страхе, в болезни, в боязни, в болязни – так муж подглядел в некотором черновике, что лежал забыт на диване в гостиной, там же продуктовая метафора: луковица романа, облезлые слои, за коими кукиш, ничто, дырка – все, что осталось от обгрызенного бублика. Еще раз луковица Романа: и некий Роман (студентик, положил муж), стягивающий с нее трусы. Никакой, след. заметить, ревности тут не было, по крайней мере, к луковице. Мужа в этой проблеме интересовало иное: Л., как человек, с теорией литературы знакомый не одним глазом, должна понимать – никакого истлевания, исчезания в процессе чтения не происходит, а происходит нечто обратное, но Л. отмахивалась, утверждая вместо читателя визионера, коему достаточным для прыжка поводом окажется название. Или вот (еще одна нелепица/не лепится): любая история, утверждала Л., в миллионы раз меньше истинных событий, положенных в ее основание. Умоляю, Люсетта, истинные события – это и есть сама история, вся целиком, до каждой паузы и запинки, – улыбка, отмашка. Но это, что называется, мужнина преамбула, которая почти целиком сама Люсетта, пусть и появляется/стучится иной раз кто-нибудь другая: Люсьен, Мила, Людочка и ни то, ни другое, ни третье.
Люсетта же нервно спала в кресле под торшером и как бы в бреду мешала мужу тем, чего сама же болезненно боялась, хотя (по мужу) находила некоторую увертку в виде якобы полуночного бреда: обрывки, оговорки, преувеличенные частности (подробное, например, описание кроватной спинки или ресницы, плавающей в глазу Д.) и преуменьшен-ные общности. Но могла ли она представить, что он/ муж/слушатель в качестве предутреннего теперь уже бреда собирает из этих арабесок вполне себе завершенный и годный в употребление витраж? И, более того, делает вывод – ему лестный (но не более), она же будет отнекиваться в очередной раз, мол, никакой курчаво-смуглой головы там и тогда она не видела, а если бы и видела, то все бы поняла еще тогда и там, и оно очевидно, и очевидно до неприличия; тут она, конечно, преувеличивает – ему бы только улыбаться, ей раздражаться и шикать со злости, взмахивая руками.
В полуночных обрывках/отголосках/следах нарратива на протяжении зимы настойчивым паттерном проявлялся Д. (вычурный французский вариант Даниила или Данилы) – настойчивость стала непереносимой на исходе, как помнилось мужу, января, поскольку в ней обнаружилась вовсе для Л. не свойственная привязанность: трахальщики появлялись и уходили, могли идти вереницами самых разных имен (запомнилось: Пэтр, Митра, Кармайкл, Добромир, Ральф, Жюстин, Клариса), но никогда не повторялись, разве некто Вано прочерчивал зигзагообразный узор в этой проскомидии без края; Д. не исчезал. Исчезал сон, и Люсетта писала до утра, исчезал бред, и Люсетта спала до обеда, исчезали, в конце концов, списки. Д. не исчезал. И что оставалось бедному мужу, бедному и старому (тут ему около сорока, но в сравнении с ними – студентики, как считается, никогда не стареют, – и в этой нескончаемой весне живи, человеческое в нечеловеческом), измученному ильмовым кошмаром жены? Выследить подлеца, истребить и забыть. Покуда подлец не стал мороком их общим. Преследование – февральское досужее мужа, благо, жена с каждой ночью все глубже погружалась в ужас вспоминания – так к началу мая муж обзаводится вполне подробной (на деле худой и бедной) картой ее полуночного бреда.
И вот Л. едет куда-то (допустим, в Калугу или Тверь), главное, что едет от центра. Она говорит: прочь, дальше. Едет куда-то (вероятно, конференция), главное, что по делу, по некоторой причине. И вот Л. сидит в просторной, но душной и пыльной аудитории, пытаясь средоточить внимание на докладчике – внимание рассыпается/засыпается. Докладчик простирается за кафедрой и бородат не по годам (Люсетта обзывает его джутовым джентльменом) с бородавкой на лбу и протертыми локтями пиджака – над пиджатчиком жужжит муха. Муха не унимается. Л. гадает, кто же ей больше опротивел. За ними шершавая зелень доски. И Л. смотрит в окно, где зелень другая. Июнь. Тут показания никогда не плутают. Думает о сне, думает о гостиничном номере, где скрипучая кровать (две одноместных), полированный шкаф-пенал и обширная ванна, в которой ночью лязгается слушать стишки, и вязко смотрит в окно. И вот она: Люсетта, или уже Люся, или еще Людмила, утопающий взгляд которой он мог бы заметить в новости бликующего стекла, смотрит туда, где среди кустов и дубов столпотворят студенты и студентки. А он, одинок, долговяз и покоен, вдумчиво покачивается в глубине вздыбленного портика, по разреженному стуку правого ботинка о брусчатку и частому подниманию-опусканию головы (смуглой-курчавой (тогда лишь догадка, мужнино додумывание и лесть самому себе (как и вся сцена, впрочем, тоже) – он ни разу (!) не лез в ее записные книжки, телефоны и дружеско-любовный эпистолярий) она делает догадку (как бы в ответ мужу – кто раньше?), будто он ожидает; его волосы шевелит сквозящий меж колонн ветер, попутно задувая в глаза пыль и песок, отчего он, устав жмуриться, поднимает голову, и обнаруживается радужка цвета липового меда и вместе с ней странная порывистость, которая отдается покалыванием в пятках и сухостью во рту, и праздничность, усиленная полуулыбкой его узких губ и узорчатой тенью остролистного клена на его вздуваемой белой рубашке; он глубоко дышит, вжимая ладони в карманы темных брюк. И вот он: как бы врывается в сумеречную зелень приинститутского сквера худым своим (своим!), праздничным своим, одиноким (отделенным своим) телом. Л. силится как-то его назвать, обозначить, дать ему имя, предугадать, еще больше – обозначить себя подле, продлить Л. Тень от дерева, тень от куста, пыль – это дневное, в сумерках все расплывается/сливается, вплавляется друг в друга – дерево в тень, тень в дерево, зелень плывет в него. Отделим лишь фонтан: но брызги словно не падают на лоб, а проступают – и уже он сам есть фонтан. И бронзовый бюст (допустим, Кирова или Энгельса) склоняется над его полной праздничностью/ полой будничностью и пристально вглядывается в приоткрытый, полный ожидания ледяной газировки рот. Тут Л. подмечает духоту, навязчивую непроветриваемость ночи и, как бы пытаясь миновать ее, подходит к фонтану. И вот они: уже о чем-то говорят. Л., вероятно, просит сигарету, или, вероятно, ей нечего уже просить. И Л. как бы зависает и над собой, и над ним, как бы видит сверху/снизу/со всех сторон и боков, но он не называет ее, и даже не идет за ней (те бегут, только рукой махни (Пэтр, Микаэль, Долли, Герда – ледяное сердце), но тех она видит разве что снизу, а чаще в разрезе). Она движется по пятам. Волочится.
Духота разрешается дождем (Л. и рада, и клянет духоту, как несбывшееся ожидание). И вот они: стоят под козырьком крыльца, за спиной облупившейся бордовой эмалью пузырится и блестит дверь, над козырьком (из-под не увидать) дрожит дождь, он то ли держит ее за руку, или она сама ухватилась, у него та же полуулыбка – рот полу(недо)открыт/ недо(полу)закрыт, и темнеет высунувшийся, вышедший (сам собою) за козырек ботинок. И он не называет, а называется (Л. произносит вульгарный французский вариант). И он не называет: в этот раз. Только однажды, в следующее появление/проявление он именует ее в фойе кинотеатра, когда она засмотрится на расписание ну-кому-это-интересно фильмов, но она вряд ли расслышит в криках обступивших ее еще более детских голосов – Льууу… а дальше (что дальше? шепот, шелест, сюсюканье или удар?) он промолчит.
За дождем будет такси и неопрятная, почти детская возня на заднем сиденье и вожделеющий глаз усача-таксовича-везутчика в зеркале (прочь, пакость, вошка) – по двум адресам, по первому Д. скроет вязкая темнота, везутчик резко погасит фары – она передернется, по второму – законная цепочка придорожных фонарей, врезающаяся в горизонт, что ее списки, произвольно обрывающиеся, но по-настоящему без конца.
По следу первой следует вторая – у второй нет иной (добавочной) причины, Л. едет к Д., и только так, едет от центра. Муж пытается вспомнить, что было между, – тем более, вторая поездка датирована октябрем или началом ноября (всплывают помимо прочего: пальто, лужи и даже снег). Кажется, Люсетта перестала просыпаться по ночам, кажется, Люсетта перестала уходить из дома на выходные, кажется, Люсетта перестала колоть мужа его неюностью, кажется, Люсетта именно тогда заигралась – за два месяца напечатала с десяток стихотворений и один рассказ (Линор Лу (перевод с нем.), Лиа Лю (перевод с вьетнам.), Лиза Лин, Лида Лесюк, Лина Луговая, etc.). Вторая поездка длится вечность: Л. договаривается, Д. исчезает, Д. просит, Л. спешит, Д. меняет планы, Д. хочет приехать, Л. отговаривает. И вот: Л. едет, теребит книжку и выкидывает наконец в окно, где долгие (ничем не примечательные) леса, поля (еще лежат не завалены снегом, но в ожидании), кривые дачи, трубы и заводы (по обыкновению или необходимости, серые). И Д., который уже никуда не врывается, но мельтешит перед глазами, видится в чужих затылках: такой-то Д., очень даже Д., более чем Д. И она, Л., на платформе, на вокзале областного центра (Калуги или, допустим, Тверская обл.) кутается шарфом от ветра и в поисках такси, где толстый (они все такие) везутчик сонно молчит и ничего о Д. не подозревает, как не подозревает, что является лишь/исключительно орудием ее удаления от центра. Д. стоит, Д. ждет где-то на окраине окраины, его колотит (заморозки в околотке) на трамвайных путях с сигаретой в кулаке, впрочем (замечает Люсетта в другую ночь), Д. совершенно не курит, в пальто, с рюкзаком, тем самым (муж поминает З., который поминает Витгенштейна, Люсетта пучит глаза). Д. значительно бледнее, и черные кудри убраны под шапку. Глаза, радужка цвета темного липового меда, только и есть напоминание о празднике. И вот тут Д. зовет в кинотеатр, и ему неважно вовсе, что там показывают и кто все это смотрит, это не представляет никакого интереса для них обоих. И вот Л., почти им обозначенная, становящаяся, но так и не ставшая, возится, и опять по-детски, на сиденье заднего ряда, пока Д. завороженно внимает фильму, который да-кому-это-вообще-интересно. И возится от того, что зрение всего и разом более не возобновимо.
И Л., бросив возню и тихомолко, в фойе, где всё те же дети ждут то ли мультфильма, то ли взрослых, то ли когда сами повзрослеют, звонит снять номер и плохо слышит говорящего с ней. И комната, должно быть, та же, хотя (в другой раз она выражает подозрение), может быть, этажом или даже двумя выше – фонарная цепочка словно удлинилась. И шкаф-пенал полирован и стар, как в родительской квартире, но Д. (она многажды это повторит – муж будет исколот вполне) этого не знает, не может знать, для Д. этого не существует (Д. сказал бы, будь он глупее (а он не глупее разве?), старинная вещь), это помимо Д., – и когда Д. кончает в пятый или в шестой раз, Л., кажется, пытается навязать: моя юность, до чего ты… или пришло с границы донесенье, что варваров в помине нет; или обрывается, или молчит – боится испуга. Д. полуулыбается или недоухмыляется, засыпая на скрипучей покойке. Она разглядывает его, головой упирающегося в кроватную спинку, фонари, упирающиеся в горизонт, и список, упирающийся в его имя. И Л. наматывает на указательный палец серебряную цепочку, подаренную ему отцом, и Л. водит пальцем вокруг его соска и, кажется, повторяет его имя, и ей кажется, что имя как имя, но после него ничего не следует, словно ничего не может идти следом, словно слово, лишенное валентности, и, кажется, она нечто еще говорит относительно окраинного пустого пейзажа, но внезапный крик за окном (вошка-таксович до кого-нибудь все же добрался) ее сбивает. Л. засыпает под черной его подмышкой.
И вот: Л. и Д. спят на одноместной кровати, вторая пустует, и, когда они просыпаются, Д. говорит, мол, эта пустая кровать – его кровать. Л. встает нарочно скидывать с нее одеяло. Д. идет в душ, где сырой резиновый коврик и остриженные лобковые волосы в умывальнике, где едва теплая вода, и, оставшись одна, Л. бросается к окну учить пустой вид: церковь раз, панельный дом, дорога, продуктовый, церковь два, дома, дома, дома вдоль дороги и фонари вдоль дороги, церковь три… Вот она: говорит, что на груди его лежа любит лизать дебри потных его подмышек или засыпать, уткнувшись в них носом. И вот он: уже использовал одноразовый гель для душа, и уже (вместо Л., по ее просьбе) отдает ключи ключнице (сегодня ночью я одна), и виновато недо(полу)улыбается, и вызывает две машины, и Л. чуть не плачет, проступает (на этот раз не усилием поэтической воли) слеза лишений (Л., лишенная детской шалости на заднем сиденье на зависть таксутчику). Д. обнимает ее (по иным показаниям, обнимает Л. – Д. плачет).
И вот они: едут в разные стороны (Л. не помнит водителя этого раза). У Д. дом с видом на реку, и он гуляет с собакой, а вернувшись, снимает майку и повторно ложится спать. За окном: ветер, река, нецентр. Л. протягивает билет заспанному контролеру с глиняного цвета лбом, зевает, прикрывая рот подушечкой ладони и представляет, что там, в нецентре, где река, ветер, мост, собака и постоянно две удаляющиеся друг от друга машины, и в доме с видом на воду засыпает сама Л., не то что Люсетта, или Людмила, или Люда (не одна из), не та, что имеет должность и коллег, товарок и любовниц, приятелей и трахальщиков, не та, что имеет мужа и некоторые лит. таланты, просто некая Л., помимо всего этого (как некий Д., исхитрившийся проскользнуть (склизкий слизень) мимо всего и нигде не занять места), как некий Д. (она, кстати, думает теперь, что, может, и не было в действительности никакого вульгарно-фр. варианта, она сама его навязала, или думает кстати, что он вовсе ей не назывался, а имя украдено ее воображением со случайной fb-страницы) с виноватой/ невинной недо(полу)улыбкой/полу(недо)ухмылкой перед ключницей, водителем, родителем, сукой-собакой, потому что не в центре, где тесно, не видно и почти ничего нельзя. Но потому только и можно. Всё можно, как по пути в Итаку. И даже сказать Д., что смотри, мол, выпал снег и, кажется, кончилась ночь, то есть так светло, так мерцает где-то на окраине/в нецентре, что кажется: вот-вот наступит долгий без конца день, только до того ты успеешь еще несколько раз выспаться.
И вот – усердно составленная карта, которая, правда, ничего дать не может: ни мужу, ни самой Люсетте. Д. есть и ненаходим: он как бы в каждой точке ее и как бы одновременно. Люсетта продолжала бредить, иногда кстати и весьма продуктивно. Но муж купил беруши и снотворное, правда, Люсетта сильно по этому поводу разозлилась (во второй раз пострадала та же ваза). Более того, в марте ее посетила вовсе отчаянная мысль: после очередного полуночного разговора она положила голову на мужнин живот и сказала, что почему бы не с ним. Муж, конечно, вскрикнул и психанул, муж даже начал искать новую квартиру: мерзавца уничтожить не удалось, оставалось ждать, а ждать лучше в безопасном месте. Но мерзавец появился снова, спустя зиму и март, когда Л. извелась-истратилась, перебрала все возможные псевдонимы и подставные биографии (ей удалось выступить на одной конференции под тремя разными именами с тремя критиками никому, кажется, кроме нее неизвестной теории в отношении новейшего стихосложения), в конце концов, она исчерпала все возможности одной этой истории, т. е. то, чем она так болязненно болела. Д. стоял быть встреченным около полуночи в непоименованном баре совершенно случайно (хотя муж и сейчас отметает – так в третий раз падает ваза – всякую внезапность в этой истории) и явлен мужу. Тут Л.: как бы исчезает, как бы выбирается, вылупляется из себя самой, р(Р) оман вырастает из луковицы. И муж как бы кивает ей, как бы ощущая медовую праздничность, и на улице, где ждет такси, будучи отослан домой, как бы ощущает конец зимы, как бы видит готовность зелени вырваться из-под еще обледенелых веток.
Они мало говорят, как и прежде, они выбегают в улицу вслед за мужем, врываются в желтое везутчиково логово, и Л. завороженно принимается за детскую возню там, где привычно, но тут же отмечает (она точно помнит: светофор горит красным, усач косит карим, за окном река, за другим отточие фонарей, меня ты ими пригвозди), возня перестает быть собой, перестает быть детской. И Д. хочет нечто сказать и начинает обращение, но Л. ладонью зажимает взбунтовавшийся рот, как бы вдавливая смуглое и курчавое в спинку сиденья. И Л. отстраняется, Л. смотрит в окно: машина едет переулками, машина никуда не удаляется. И Д. нечто говорит, Д. болтлив: теперь он тут, теперь, ему кажется (ему кажется!) навсегда, да, работа (у него работа – не та, не там – тут). И после утомительной (неутихающей, как муха возле джутового рта) болтовни Д. они стоят в подъезде: Л. тяжело дышит (муж хихикнул), Д. клацает квартирным ключом и, скрипнув дверью, зовет Л., но (благо!) лязг мусоропровода и треск не позволяют расслышать. Л. сбегает. Д. оставлен стоять пригвожденной к придверному коврику тенью: из квартиры тянет вареным мясом, неудержима его ботинком, на лестничную клетку вырывается кошка.
Люсетта, бедняжка (и муж ее бедняжка), что-то шипит и пишет, вернувшись, потом исчисляет имена (Антуан, Фаррах, некто Григорьевич) и засыпает, оставляя мужа с довольно скучным романчиком, где осколки нарратива (худые и бедные) едва просвечивают сквозь лирические отточия.