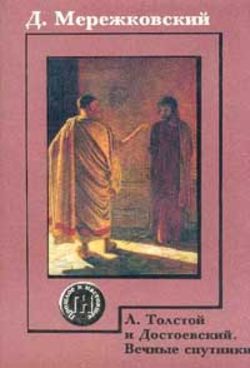Читать книгу Л.Толстой и Достоевский - Дмитрий Мережковский - Страница 4
Жизнь и творчество
Часть первая
Жизнь Л. Толстого и Достоевского
Третья глава
Оглавление«Я жалею тех, кто придает большое значение смертности всего существующего и теряется в созерцании ничтожества всего земного: да мы ведь и живем именно для того, чтобы преходящее делать непреходящим, что может быть достигнуто лишь тогда, если мы сумеем оценить и то, и другое, то есть и смертное, и бессмертное». Это слова Гёте (Maximen und Reflexionen, II[1]).
В заключении «Фауста» говорит он о том же, почти теми же словами, еще короче и яснее:
Alles Vergängliche
Ist nur ein Gleichniss.
[2]
«Все преходящее есть только подобие», – есть только образ, только символ. Мы должны соединять – Гёте говорит оценивать и то, и другое, beides schätzen, – должны соединять (συμβαλλειν – от которого произошло Συμβολον – символ – значит: сливать, спаивать, соединять), мы должны соединять смысл невечного с вечным, мы должны, не унижая преходящего, смертного, созерцать в нем и сквозь него бессмертное, непреходящее; мы не можем иначе достигнуть неземного, как поняв и полюбив земное до конца, до его последних пределов, не презирая, не ужасаясь ничтожеству земного; мы должны помнить, что нет у нас иных путей восхождения, иных ступеней к Богу, кроме «подобий», «явлений», «символов» – не бесплотных и не бескровных, а облеченных в самую живую плоть и кровь.
Ибо таинство нашего Бога не есть таинство только духа и слова, но также плоти и крови, ибо Слово наше стало Плоть. «Кто не ест Мою плоть и не пьет Мою кровь, тот не имеет жизни вечной». Итак, не без плоти, а через плоть к тому, что за плотью: тут величайший символ, величайшее соединение – о, сколь не многим еще доступное!
Это слово Гёте о святости всего земного, преходящего, о нетлении тленного – лучший ответ на отчаяние и ужас, на те слова Сакья-Муни и Екклезиаста о тленности всего сущего, о нирване, о суете сует, которые Л. Толстой приводит в «Исповеди» как самое глубокое выражение своего собственного отчаяния.
Не удивительно ли: древние эллины и новый эллин, Гёте, уж конечно, не менее любили землю, земные радости, чем царь Соломон и Лев Толстой. Но страх смерти не уничтожал для них смысла этих радостей – напротив: самая черная тьма и ужас бездны еще увеличивали прелесть жизни, подобно тому, как самый черный бархат увеличивает блеск алмазов. Они не отворачивались от этой тьмы, а как будто нарочно желали, искали ее, чтобы победить. Трагедия, дерзновеннейшее и глубочайшее созерцание всего, что только есть в человеческой судьбе наиболее темного и рокового, не случайно создана была в самую лучезарную пору эллинской жизни. Отчаяние Эдипа, не угадавшего загадки Сфинкса, беспредельнее отчаяния Сакья-Муни и царя Соломона. А между тем, именно здесь, в виду Парфенона, в самом радостном из всех когда-либо людьми воздвигнутых зданий, в театре бога вина и сладострастья, бога Диониса, самые счастливые из смертных наслаждались этим последним ужасом и отчаянием. «Не существует ли, – спрашивает Ницше, – особая склонность души ко всему жестокому, загадочному, что только есть в бытии, происходящая из жажды наслаждений, из бьющего через край здоровья, из полноты жизни? особая искушающая отвага самого острого взгляда, которая требует ужасного, как врага, как достойного врага, в борьбе с которым можно помериться силами?»
Трагедия воли – «Прометей», трагедия мысли – «Фауст» именно и были такими вызовами, полными «искушающей отваги», versucherische Tapferkeit, – страху смерти, тайне жизни. Только самые сильные из сильных, самые трезвые из трезвых могут безнаказанно испытывать это упоение ужасом, о котором говорит и Пушкин, сильнейший и разумнейший из русских людей:
Есть упоение в бою
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане,
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении чумы.
Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья.
………………………………
И так – хвала тебе, чума!
Нам не страшна могилы тьма;
Нас не смутит твое призванье!
Когда является чрезмерный страх этой «могильной» тьмы – слишком ясное и отрезвляющее сознание плотской тленности, ничтожества всего земного, – то это первый признак того, что именно божественные родники известной культуры уже истощены или отравлены, что сила жизни идет в ней на убыль.
По-видимому, отчаяние Софокла в «Эдипе» похоже на отчаяние Соломона в «Екклезиасте»; на самом деле это два противоположных полюса. Одно – подъем, другое – спуск; одно – начало, другое – конец. В «Лалитавистаре» Будды, в «Екклезиасте» Соломона слышится голос не воскресающего духа, а лишь умирающей плоти. В тоске пресыщенных эпикурейцев, в taedium vitae[3] римского упадка, в философском черепе среди роз и кубков пиршественной трапезы есть грубая, чуждая эллинскому духу и плоти, плотскость, старческий материализм обездушенной, обезбоженной культуры. Ведь самое чистое, совершенное христианство так же доверчиво к жизни, бесстрашно к смерти, так же умеет преходящее делать непреходящим, как совершенное эллинство. Пусть лилии полевые завтра увянут и будут брошены в огонь, все-таки сегодня сыны царствия Божия радуются тому, что «и царь Соломон во славе своей не одевался так, как всякая из них». Улыбка Франциска Ассизского, поющего гимн солнцу, после крестных мук Альвернского видения, напоминает улыбку Софокла, поющего гимн богу вина и веселья, богу Дионису, после кровавых ужасов Эдиповой трагедии. И здесь и там – младенческая ясность, тишина последней мудрости. Только остановившиеся на полпути, уже не прежние, еще не будущие, отставшие от одного берега и не приставшие к другому, безысходно «теряются, по слову Гёте, в созерцании земного ничтожества». Чрезмерный страх смерти почти всегда служит показателем религиозного бессилия и религиозной бездарности.
В «Детстве» Л. Толстой описывает впечатления ребенка от смерти матери. Он смотрит на нее, лежащую в гробу.
«Я не мог поверить, чтобы это было ее лицо. Я стал вглядываться в него пристальнее и мало-помалу стал узнавать в нем знакомые, милые черты. Я вздрогнул от ужаса, когда убедился, что это была она; но отчего закрытые глаза так впали? отчего эта страшная бледность и на одной щеке черноватое пятно под прозрачною кожей?»
«…Панихида кончилась; лицо покойницы было открыто, и все присутствующие, исключая нас, один за другим, стали подходить к гробу и прикладываться. Одна из последних подошла проститься с покойницей какая-то крестьянка с хорошенькою пятилетней девочкой на руках, которую, бог знает зачем, она принесла сюда. В это время я нечаянно уронил свой мокрый платок и хотел поднять его; но только что я нагнулся, меня поразил страшный пронзительный крик, исполненный такого ужаса, что, проживи я сто лет, я никогда его не забуду, и, когда вспомню, всегда пробежит холодная дрожь по моему телу. Я поднял голову – на табурете подле гроба стояла та же крестьянка и с трудом удерживала в руках девочку, которая, отмахиваясь ручонками, откинув назад испуганное личико и уставив выпученные глаза на лицо покойницы, кричала страшным, неистовым голосом. Я вскрикнул голосом, который, я думаю, был еще ужаснее того, который поразил меня, и выбежал из комнаты».
Можно сказать, что тот безумный крик никогда с тех пор не умолкал в произведениях Л. Толстого. Душу целого поколения заразил он своим ужасом. Если в наше время люди боятся смерти, с такой постыдной судорогой, какой еще никогда не бывало, если у всех нас, в глубине сердца, в крови и в плоти есть эта «холодная дрожь», до мозга костей пробирающий озноб, о котором Данте говорит по поводу грешников, замерзших в адском озере: «Тогда прошел по мне озноб, он и теперь по мне, как вспомню их, проходит», то, в значительной мере, мы этим всем обязаны Л. Толстому.
Он заимствовал, впрочем, рассказ о смерти матери Николая Иртеньева не из собственных воспоминаний: мать Льва Николаевича умерла, когда ему было года три; помнить ее не мог он и при смерти ее не присутствовал. По-видимому, однако, в рассказе героя «Детства» он изображает с такою ужасающею, почти циническою, отталкивающею правдою страх смерти, врожденный в него, в такой мере ему одному свойственный, пробудившийся в нем с первыми проблесками сознания и с тех пор никогда его не покидавший.
Много лет спустя, уже в пору возмужалости, при полном свете сознания, находит он в душе своей тот же самый страх и так же перед ним беспомощен или даже еще более, чем в детстве.
Фету из Гиера, близ Ниццы, 17 октября 1860 года, пишет он о смерти брата Николая:
«20 сентября он скончался на моих руках, в буквальном смысле слова. Никогда в жизни ничто не производило на меня такого впечатления. Он был прав, когда говорил мне, что ничего нет хуже смерти, и если подумать, что в конце концов смерть есть неизбежный конец всего живущего, то приходится сознаться, что нет ничего хуже самой жизни. К чему все заботы, если в конце концов от того, чем был некогда Николай Николаевич Толстой, ничего не остается? Он никогда не говорил, что чувствует близость смерти, и, однако, я знаю, что он следил за нею шаг за шагом и прекрасно знал, сколько времени ему еще остается жить. За несколько минут до смерти он задремал. Вдруг он вскочил и с ужасом прошептал: „Что это?“ Он увидел свой переход в ничто. Но если и он не знал, за что удержаться, что же я найду? Конечно, еще меньше».
В этом письме, удивительном и ужасном своей искренностью, более всего поражает простодушный бессознательный и до последней, цинической грубости обнаженный материализм, бездушная плотскость. Никакого колебания, никакого возможного вопроса и сомнения в том, что смерть есть «переход в ничто», – даже никакой тайны. Ужас безысходный, бесплодный, бессмысленно уничтожающий, иссушающий самые родники жизни. Это как еретики-жидовствующие, русские нигилисты XV века, говаривали: «А что то царство небесное? А что то второе пришествие? А что то воскресение мертвых? Ничего того несть. Умер кто – ин по та места и был». Или, как выражается дядя Ерошка: «Умру – трава вырастет». Глухая стена, русская «глухая нетовщина».
Через двадцать пять лет, уже долго спустя после своего христианского обращения, выразил он это же самое чувство животного, бессмысленного ужаса в «Смерти Ивана Ильича»:
«Он… оставался опять один с нею. С глазу на глаз с нею;…а делать с нею нечего. Только смотреть на нее и холодеть».
Мы знаем, что в течение всей своей жизни, во многих случаях действительной опасности, Л. Толстой отличался мужеством телесным, даже отвагою. Ему был почти приятен свист пуль на страшном четвертом бастионе в Севастополе: он наслаждался тем, что побеждал страх смерти силою жизни. Всего менее думал он также о смерти, когда однажды, в Пятигорской станице, в упор стрелял в бешеного волка, или когда на охоте лежал под медведицею, которая едва не смяла его и не содрала ему кожу с черепа, так что «над глазами лохмотьями висело мясо», и на снегу было столько крови, «точно барана зарезали», а он, поднявшись из-под зверя, забыв раны, не чувствуя боли, только весь трясся и кричал в охотничьей ярости, тоже сильно напоминающей дядю Ерошку: «Где медведь? куда ушел?»
Нет, страх смерти происходит в нем вовсе не из телесной робости: этот страх, иногда, может быть, доходящий до трусости, – более внутренний, глубокий и, в первом источнике своем, несмотря на всю животность, все-таки отвлеченный, – так сказать, метафизический.
И тем больше пугают эти внезапные черные провалы, что они встречаются в душе его и в произведениях рядом с величайшею любовью к жизни: это как будто те обманчивые болотные окна, которые сверху покрыты самою зеленою, свежею травою, самыми яркими цветами и манят издали путника, но только что нога его ступает на них, он проваливается, и тина засасывает его.
Что же это за чуть видимый волосок, от которого все колеса машины вдруг соскакивают с осей, и гармония превращается в хаос? Откуда эта капля яда, которая отравляет ему душу, так что сладчайший мед жизни становится полынью?
Вспоминая свои ребяческие «умствования», уничтожившие в нем, как он выразился, «свежесть чувства и ясность рассудка», уже и тогда приводившие его к болезненному страху смерти, вследствие которого он то в буддийском покаянии стегал себя по голой спине веревкою, то, в Соломоновской безнадежности, бросая уроки, ел пряники с кроновским медом, – причину этих умствований находит он сам в «неестественно развившемся сознании». Действительно, исследуя внутреннюю жизнь Л. Толстого на всем ее протяжении, нельзя не прийти к выводу, что между сознательной и бессознательной стороной его духовного развития существует несоответствие, неравновесие. Едва ли, однако, это несоответствие заключается именно в чрезмерной силе сознания. Мы, по крайней мере, имели случай наблюдать, что и гораздо большая сила сознания, чем у Л. Толстого, например, у Гёте, гармонического строя душевной и умственной жизни вовсе не нарушала, скорее даже увеличивала. Нет, не в чрезмерности сознания заключается одна из важнейших причин надломленности, болезненности в нравственном и религиозном развитии Л. Толстого, а, напротив, – в недостатке, в незавершенности сознания. Оно у него чрезвычайно острое или, во всяком случае, изощренное, напряженное, но не всеобъемлющее, не всепроникающее. Оно светит ярко, но не изнутри, как солнце из-за прозрачного воздуха, насквозь пронизанного им, а извне, как маяк светит на темную поверхность моря. Сколь ни ярки и ни длинны лучи этого маяка-сознания, бессознательная стихийная жизнь в нем так бездонно-глубока, что все-таки остается в ней последний, как бы подводный мрак, ни для каких лучей непроницаемый. А главное то, что его сознание развивалось не только извне, отдельно, не только в другом, но и в совершенно противоположном направлении, чем его бессознательная жизнь, так что всегда в нем было как будто два человека, и всегда один из них желал желать того, чего другой не желал. Это внутреннее разногласие, раздвоение – подобно сначала едва видимой, но мало-помалу углубляющейся трещине колокола, которая дает ложный звук: чем громче, могущественнее гул колокола, тем назойливый, дребезжащий звук все мучительнее, все болезненнее.
Припадок страха смерти, который в конце семидесятых годов едва не довел его до самоубийства, как мы уже знаем, был не первым и, кажется, не последним, во всяком случае – не единственным. Нечто подобное испытал он пятнадцать лет назад при смерти брата Николая. Тогда он чувствовал себя больным и предполагал в себе ту же болезнь, от которой умер брат, – чахотку. В груди и в боку была постоянная боль. Он должен был уехать лечиться в степь на кумыс и, действительно, вылечился.
Прежде эти обычные припадки душевного или телесного недуга залечивались в нем не какими-либо умственными или нравственными переворотами, а просто силою жизни, ее избытком и опьянением. Оленин, при мысли о смерти, так же, как Лев Толстой под севастопольскими ядрами, сознает в себе «присутствие всемогущего бога молодости».
Почему же именно этот переворот конца семидесятых годов имел для него такое решающее, как будто единственное значение? Сам он объясняет это причинами духовными. Но не было ли и здесь так же, как в прежних переворотах, и причин телесных? Не было ли особого чувства, свойственного людям в предстарческие годы, когда они ощущают всем своим не только духовным, но и плотским составом, что до сих пор шли в гору, а теперь начинают спускаться под гору?
«Пришло время, – говорит он в „Исповеди“ об этом именно времени своей жизни, о начале своих шестидесятых годов, – когда рост во мне прекратился, я почувствовал, что не развиваюсь, а ссыхаюсь, мускулы мои слабеют, зубы падают».
Тут слышится глубоко плотская, почти анакреоновская жалоба, хотя без анакреоновской ясности:
Поредели, побелели
Кудри – честь главы моей,
В деснах зубы ослабели
И потух огонь очей.
Точно так же Левин ночью, один в номере скверной гостиницы, где умирает брат его Николай, – смерть Николая Левина весьма напоминает смерть Николая Толстого, – охваченный этим ощущением приближающейся старости, этим животным ужасом, подобным ознобу, пробирающему до мозга костей, вдруг понимает всем телесным составом, «что все кончится, что – смерть».
«Он зажег свечу и осторожно встал и пошел к зеркалу и стал смотреть свое лицо и волосы… Да, в висках были седые волосы. Он открыл рот. Зубы задние начинали портиться. Он обнажил свои мускулистые руки. Да, силы много. Но и у Николеньки, который там дышит остатками легких, тоже здоровое тело».
«Что такое значит: идет жизнь? – пишет Л. Толстой в 1894 году, – идет жизнь значит: волосы падают, зубы портятся, морщины, запах изо рта. Даже прежде, чем все кончится, все становится ужасным, отвратительным, видны размазанные румяна, белила, пот, вонь, безобразие. Где же то, чему я служил? Где же красота? А она – все. А нет ее – ничего нет. Нет жизни».
В том же письме от 1881 года, в котором гр. Софья Андреевна уверяет брата, что Лев Николаевич совершенно изменился, «стал христианин самый искренний и твердый», она также сообщает, что он «поседел, ослаб здоровьем и стал тише, унылее, чем был».
В высшей степени замечательна эта сквозь всю его жизнь проходящая связь духовных переворотов с прибылью и убылью, приливами и отливами телесного здоровья, силы – седеющими волосами, морщинами, испорченными зубами, запахом изо рта, ссохшимися мускулами.
Отлетел «всемогущий бог молодости». Исчезло опьянение жизнью. «Можно жить, – признается он, – только покуда пьян жизнью; а как протрезвишься, то нельзя не видеть, что все это – только обман, и глупый обман. Не нынче – завтра придут болезни, смерть на любимых людей, на меня, и ничего не останется, кроме смрада и червей».
Разногласие, раздвоение его сознательной и бессознательной жизни, эта сперва чуть заметная трещина, постепенно углубляясь, превратилась, наконец, в ту зияющую «пропасть», о которой он говорит в «Исповеди», и дойдя до которой, он «ясно увидел, что впереди ничего нет, кроме погибели».
«И что было хуже всего – это то, что она, смерть, отвлекла его (Ивана Ильича) к себе не за тем, чтобы он делал что-нибудь, а только для того, чтобы он смотрел на нее, прямо ей в глаза, смотрел на нее и, ничего не делая, невыразимо мучился». И он оставался «один с нею. С глазу на глаз с нею, а делать с нею нечего. Только смотреть на нее и холодеть».
«И, спасаясь от этого состояния, он искал утешения, других ширм, и другие ширмы являлись и на короткое время спасали его, но тотчас же опять не столько разрушались, сколько просвечивали, как будто она проникала чрез все, и ничто не могло заслонить ее».
Тогда наступил тот последний ужас, который был так велик, что «он хотел поскорее избавиться от него петлей или пулей».
Тертуллиан утверждает, что человеческая душа «по своей природе – христианка». Но все ли души христианки? Не рождаются ли некоторые из них язычницами? Кажется, именно у Л. Толстого такая душа – «урожденная язычница».
Если бы глубина его сознания соответствовала глубине его стихийной жизни, он понял бы, наконец, что ему нечего бояться и стыдиться своей души-язычницы, что она дана ему Богом, и своего Бога, свою веру нашел бы в бесстрашной, бесконечной любви к себе так же, как люди с душами, по природе своей – христианками, находят своего Бога в бесконечном самопожертвовании и самоотречении.
Но вследствие глубокого несоответствия, неравновесия между его сознанием и бессознательной стихией, ему оставалось одно из двух: или подчинить свое сознание своей стихии, что он и делал в первой половине жизни; или, наоборот, свою стихию – своему сознанию, что он попытался сделать во второй половине жизни; и в последнем случае он должен был неминуемо прийти к выводу, что всякая любовь к себе, всякая жизнь и развитие обособленной личности есть нечто плотское, животное, а следовательно, преступное, злое, бесовское, то, чему не следует быть, и уничтожение чего есть высшее, единственное благо. Действительно, он и дошел до этого вывода, решил до конца возненавидеть и погубить душу свою, чтобы спасти ее. Когда он писал «Исповедь», ему казалось, что он уже этого окончательно достиг, что он открыл совершенную истину и что больше искать нечего. В заключительных страницах обличает он и судит уже не себя, а только других, называет всю человеческую культуру «баловством», людей, принадлежащих к ней, – «паразитами». Он прямо говорит: «Я возненавидел себя… теперь мне все ясно стало».
Но через три-четыре года после «Исповеди» это «ясное» мало-помалу снова замутилось и запуталось.
Уже в 1882 году, во время московской переписи и после осмотра Ляпинского ночлежного дома, когда убеждал он знакомых своих, богатых людей, соединиться, чтобы посредством частной христианской благотворительности спасти сначала Москву, потом Россию, наконец, все человечество, – совесть его была не спокойна. Напряженность, неуверенность, дребезжащий ложный звук надтреснутого колокола слышится в этом призыве, столь не простом, написанном на столь не свойственном Льву Толстому языке, напоминающем слог растопчинских афиш двенадцатого года: «Давайте мы по-дурацки, по-мужицки, по-крестьянски, по-христиански налегнем народом – не поднимем ли? Дружней, братцы, разом!»
Когда, собирая деньги для бедных, излагал он в знакомых домах свой новый план спасения мира, ему казалось, что слушателям становится неловко: «Им было как будто совестно, и преимущественно за меня, за то, что я говорю глупости, но такие глупости, про которые никак нельзя прямо сказать, что это глупости. Как будто какая-то внешняя причина обязывала слушателей потакать этой моей глупости». И после речи в Думе, разговаривая с руководителями переписи, опять почувствовал он, что они говорили ему взглядами: «Ведь вот смазали, из уважения к тебе, твою глупость, а ты опять с ней лезешь!»
Наконец величайшая и новая, как он полагал, истина о том, что частная благотворительность – вздор, открылась ему из самого простого арифметического расчета. Однажды вечером, в субботу, плотник Семен, с которым Лев Николаевич пилил дрова, подходя к Дорогомиловскому мосту, подал старику-нищему три копейки и «спросил две копейки сдачи. Старик показал на руке две трехкопеечные и одну копейку. Семен посмотрел, хотел взять копейку, но потом раздумал, снял шапку, перекрестился и прошел, оставив старику три копейки».
У Семена, как известно было Льву Николаевичу, сбережение равнялось 6 рублям 50 копейкам, а у него, Льва Николаевича, 600 тысяч рублей. «Семен, – подумал он, – дал 3 копейки, я дал 20. Что же дал он и что я? Что бы я должен был дать, чтобы сделать то, что сделал Семен? У него было 600 копеек, он дал из них одну и потом еще две. У меня было 600 тысяч. Чтоб дать то, что Семен, мне надо дать 3000 рублей и просить 2000 сдачи, и если бы не было сдачи, оставить и эти две тысячи старику, перекреститься и пойти дальше, спокойно разговаривая о том, как живут на фабриках и почем печенка на Смоленском».
Нельзя было не сделать последнего потрясающего вывода из этого расчета:
«Я дам 100 тысяч и все не стану в то положение, в котором можно делать добро, потому что у меня еще останутся 500 тысяч. Только когда у меня ничего не будет, я в состоянии делать хоть маленькое добро…То, что с первого раза сказалось мне при виде голодных и холодных у Ляпинского дома, именно то, что я виноват в этом, и что так жить, как я жил, нельзя, нельзя, и нельзя, – это одно была правда».
Все здание, воздвигнутое с такою мукою, с таким отчаянным напряжением сил, сразу обвалилось, рухнуло – и снова пришлось ему обличать себя и всенародно каяться:
«Я весь расслабленный, ни на что не годный паразит… И я, та вошь, пожирающая лист дерева, хочу помогать росту и здоровью этого дерева и хочу лечить его».
Только теперь, казалось ему, понял он слово Христа: тот, кто не оставит всего – и дома, и детей, и полей – для того, чтобы идти за Ним, тот не Его ученик.
И новый переворот, новое перерождение совершилось в нем.
Ему стало ясно, что он не только не «возненавидел себя» и не нашел истины, как думал, когда писал «Исповедь», но и не начинал ее искать. И вместе с тем он уверился, что на этот раз уже окончательно и навсегда все стало для него ясным и осуществление новой истины казалось ему простым: «Стоит только человеку не желать иметь земли и денег», чтобы войти в Царствие Божие. Он убедился, что зло, от которого мир погибает, – собственность – «не есть закон судьбы, воля Бога или историческая необходимость, а есть суеверие, нисколько не сильное и не страшное, а слабое и ничтожное», и что освободиться от этого суеверия, разрушить его так же легко, как «разрушить слабую паутину».
И он решил исполнить заповедь Христа, покинуть все – и дом, и детей, и поля, раздать свои 600 тысяч и сделаться нищим, чтобы иметь право делать добро.
1
Максимы и размышления (нем.).
2
Все быстротечное – символ, сравненье (нем.) – пер. Б. Л. Пастернака.
3
Отвращение к жизни, пресыщенность (лат.).