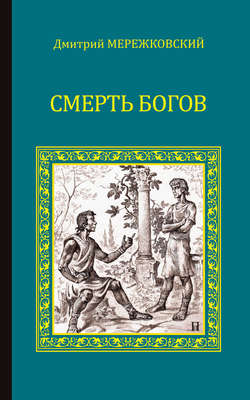Читать книгу Смерть Богов (Юлиан Отступник) - Дмитрий Мережковский - Страница 14
Часть первая
XI
ОглавлениеЮлиан посетил несчастного брата своего Галла, когда тот остановился проездом в Константинополе.
Он нашел его окруженным предательской стражей сановников Констанция: здесь был хитрый, вежливый придворный щеголь, квестор Леонтий, который прославился искусством подслушивать у дверей, выспрашивать рабов; и трибун щитоносцев-скутариев, молчаливый варвар Байнобаудес, похожий на переодетого палача; и важный церемониймейстер императора, comes domesticorum, Луциллиан, и наконец тот самый Скудило, который был некогда военным трибуном в Цезарее Каппадокийской, а теперь, благодаря покровительству старых женщин, получил место при дворе.
Галл, здоровый, веселый и легкомысленный, как всегда, угостил Юлиана превосходным ужином; в особенности хвастал он жирным колхидским фазаном, начиненным фиваидскими свежими финиками. Он смеялся, как ребенок, и вспоминал Мацеллум.
Вдруг Юлиан нечаянно в разговоре спросил брата о жене его, Константине. Лицо Галла изменилось; он опустил пальцы с белым сочным куском фазана, который подносил ко рту; глаза его наполнились слезами.
– Разве ты не знаешь, Юлиан? – На пути к императору – она поехала к нему, чтобы оправдать меня – Константина умерла от лихорадки в Ценах Галликийских, городке Вифинии. Я проплакал две ночи, когда узнал о ее смерти…
Он тревожно оглянулся на дверь, наклонился к Юлиану и проговорил ему на ухо:
– С того дня я на все махнул рукой… Она одна могла бы еще спасти меня. Брат, это была удивительная женщина. Нет, ты не знаешь, Юлиан, что это была за женщина! Без нее я погиб… Я не могу – я ничего не умею – руки опускаются. Они делают со мной, что хотят.
Он осушил одним глотком кубок цельного вина.
Юлиан вспомнил о Константине, уже немолодой вдове, сестре Констанция, которая была злым гением брата, о бесчисленных глупых преступлениях, которые она заставляла его совершать, иногда из-за дорогой безделушки, из-за обещанного ожерелья – и спросил, желая угадать, какая власть подчиняла его этой женщине:
– Она была красива?
– Да разве ты ее никогда не видал? – Нет, некрасива, даже совсем некрасива. Смуглая, рябая, маленького роста; скверные зубы; она, впрочем, избегала смеяться. Говорили, что она мне изменяет – по ночам, будто бы, переодетая, как Мессалина, бегает в конюшню ипподрома к молодым конюхам. А мне что за дело? Разве я не изменял ей? Она не мешала мне жить, и я ей не мешал. Говорят, она была жестокой. – Да, она умела царствовать, Юлиан. Она не любила сочинителей уличных стишков, в которых, бывало, мерзавцы упрекали ее за дурное воспитание, сравнивали с переодетой кухонной рабыней. Она умела мстить. Но какой ум, какой ум, Юлиан! Мне было за ней спокойно, как за каменной стеной. Ну, уж мы зато и пошалили, повеселились – всласть!..
Улыбаясь от приятных воспоминаний, он тихонько провел кончиком языка по губам, еще мокрым от вина.
– Да, можно сказать, пошалили! – заключил он не без гордости.
Юлиан, когда шел на свидание, думал пробудить в брате раскаяние, приготовлял в уме речь, во вкусе Либания, о добродетелях и доблестях гражданских. Он ожидал увидеть человека, гонимого бичом Немезиды; а перед ним было спокойное лицо молодого атлета. Слова замерли на устах Юлиана. Без отвращения и без злобы смотрел он на этого «доброго зверя» – так мысленно называл он брата – и думал, что читать ему нравоучения так же бессмысленно, как откормленному жеребцу.
Он только спросил шепотом, оглянувшись в свою очередь на дверь:
– Зачем ты едешь в Медиолан? – Или не знаешь?..
– Не говори. Знаю все. Но вернуться нельзя… Поздно!..
Он указал на свою белую шею.
– Мертвая петля – понимаешь? Он ее потихоньку стягивает. Он из-под земли меня выкопает, Юлиан. И говорить не стоит. Кончено! Пошалили – и кончено.
– У тебя осталось два легиона в Антиохии?
– Ни одного. Он отнял у меня лучших солдат, мало-помалу, исподволь, для моего же, видишь ли, собственного блага – все для моего блага? Как он заботится, как тоскует обо мне, как жаждет моих советов… Юлиан, это страшный человек! Ты еще не знаешь и не дай тебе Бог узнать, что это за человек. Он все видит, видит на пять локтей под землею. Он знает сокровеннейшие мысли мои – те, о которых изголовье постели моей не знает. Он видит и тебя насквозь. Я боюсь его, брат!..
– Бежать нельзя?
– Тише, тише!.. Что ты!..
Страх школьника выразился в ленивых чертах Галла.
– Нет, конечно! Я теперь, как рыба на удочке; он тащит потихоньку, так, чтобы леса не порвалась: ведь цезарь, какой ни на есть, все-таки довольно тяжел. Но знаю – с крючка не сорвись – рано или поздно вытащит!.. Вижу, как не видеть, что западня, и все-таки лезу в нее – сам лезу от страха. Все эти шесть лет, да и раньше, с тех пор, как помню себя, я жил в страхе. Довольно! Погулял, пошалил и довольно. – Брат, он зарежет меня, как повар куренка. Но раньше замучит хитростями, ласками. Уж лучше бы резал скорей!..
Вдруг глаза его вспыхнули.
– А ведь если бы она здесь была, сейчас, со мною, – что ты думаешь, брат, ведь она спасла бы меня, наверное спасла бы! Вот почему говорю я – это была удивительная, необыкновенная женщина!..
Трибун Скудило, войдя в триклиниум, с подобострастным поклоном объявил, что завтра, в честь прибытия цезаря, в ипподроме Константинополя назначены скачки, в которых будет участвовать знаменитый наездник Коракс. Галл обрадовался, как ребенок. Велел приготовить лавровый венок, чтобы, в случае победы, собственноручно венчать перед народом любимца своего, Коракса. Начались рассказы о лошадях, о скачках, о ловкости наездников.
Галл много пил; от недавнего страха его не было следа; он смеялся откровенным и легкомысленным смехом, как смеются здоровые люди, у которых совесть покойна.
Только в последнюю минуту прощания крепко обнял Юлиана и заплакал; голубые глаза его беспомощно заморгали.
– Дай тебе Бог, дай тебе Бог!.. – бормотал он, впадая в чрезмерную чувствительность, может быть, от вина. – Знаю, ты один меня любил – ты и Константина…
И шепнул Юлиану на ухо:
– Ты будешь счастливее, чем я: ты умеешь притворяться. Я всегда завидовал… Ну, дай тебе Бог!..
Юлиану стало жаль его. Он понимал, что брату уже «не сорваться с удочки» Констанция.
На следующий день, под тою же стражей, Галл выехал из Константинополя.
Недалеко от городских ворот встретился ему вновь назначенный в Армению квестор Тавр. Тавр, придворный выскочка, нагло посмотрел на цезаря и не поклонился.
Между тем от императора приходили письма за письмами.
С Адрианополя Галлу оставили только десять повозок государственной почты: всю поклажу и прислугу, за исключением двух-трех постельных и кравчих, надо было покинуть.
Стояла глубокая осень. Дороги испортились от дождя, лившего целыми днями. Цезаря торопили; не давали ему ни отдохнуть, ни выспаться; уже две недели как он не купался. Одним из величайших страданий было для него это непривычное чувство грязи: всю жизнь дорожил он своим здоровым, выхоленным телом; теперь с такой же грустью смотрел на свои невычищенные, неотточенные ногти, как и на царственный пурпур хламиды, запачканной пылью и грязью больших дорог.
Скудило ни на минуту не покидал его. Галл имел причины бояться этого слишком внимательного спутника.
Трибун, только что приехав с поручением от императора к Антиохийскому двору, неосторожным выражением или намеком оскорбил жену цезаря, Константину; ею овладел неожиданно один из тех припадков слепой, почти сумасшедшей ярости, которым она была подвержена. Говорили, будто бы Константина велела посланного от императора наказать плетьми и бросить в темницу; иные, впрочем, отказывались верить, чтобы даже вспыльчивая супруга цезаря была способна на такое оскорбление величества в лице римского трибуна. Во всяком случае, Константина скоро одумалась и выпустила Скудило из темницы. Он явился опять ко двору цезаря, как ни в чем не бывало, пользуясь тем, что никто ничего наверное не знал; даже не написал доноса в Медиолан и молча проглотил обиду, по выражению своих завистников. Может быть, трибун боялся, что слухи о постыдном наказании повредят его придворной выслуге.
Во время путешествия Галла из Антиохии в Медиолан Скудило ехал в одной колеснице с цезарем, не отходил от него ни на шаг, ухаживал раболепно, заигрывал, не оставляя его ни минуты в покое, и обращался, как с упрямым, больным ребенком, которого он, Скудило, так любит, что не имеет силы покинуть.
При опасных переездах через реки, на трясучих гатях Иллирийских болот, с нежною заботливостью крепко обхватывал стан цезаря рукою; и ежели тот делал попытку освободиться – обхватывал еще крепче, еще нежнее, уверяя, что скорее согласится умереть, чем дозволить, чтобы такая драгоценная жизнь подверглась малейшей опасности.
У трибуна был особенный задумчивый взгляд, которым с молчаливой и долгой улыбкой смотрел он сзади на белую, как у молодой девушки, мягкую шею Галла; цезарь чувствовал на себе этот взгляд, ему становилось неловко, и он оборачивался. В эти мгновения хотелось ему дать пощечину ласковому трибуну; но бедный пленник скоро приходил в себя и только жалобным голосом просил остановиться, чтобы хоть немного перекусить; ел он и пил, несмотря ни на что, со своей обыкновенной жадностью.
В Норике встретили их еще два посланных от императора – комес Барбатион и Аподем, с когортой собственных солдат его величества.
Тогда личину сбросили: вокруг дворца Галла поставили стражу на ночь, как вокруг тюрьмы.
Вечером Барбатион, войдя к цезарю и не оказывая никаких знаков почтения, велел ему снять цезарскую хламиду, облечься в простую тунику и палудаментум; Скудило при этом выказал усердие: так поспешно начал снимать с Галла хламиду, что разорвал пурпур.
На следующее утро пленника усадили в почтовую деревянную повозку на двух колесах – карпенту, в которой ездили, по служебным надобностям, мелкие чиновники; у карпенты не было верха. Дул пронзительный ветер, падал мокрый снег. Скудило, по своему обыкновению, одной рукой обнял Галла, а другой начал трогать его новую одежду.
– Хорошая одежда, пушистая, теплая. По-моему, куда лучше пурпура. Пурпур не согреет. А у этой – подкладочка мягкая, шерстяная…
И, как будто для того, чтобы ощупать подкладку, запустил руку под одежду цезаря, потом в тунику и вдруг с тихим вежливым смехом вытащил лезвие кинжала, который Галлу удалось спрятать в складках.
– Нехорошо, нехорошо, – заговорил Скудило с ласковой строгостью. – Можно как-нибудь порезаться нечаянно. Что за игрушки!
И бросил кинжал на дорогу.
Бесконечная истома и расслабление овладевали телом Галла. Он закрыл глаза и чувствовал, как Скудило обнимает его все с большей нежностью. Цезарю казалось, что он видит отвратительный сон.
Они остановились недалеко от крепости Пола, в Истрии, на берегу Адриатического моря. В этом самом городе, несколько лет назад, совершилось кровавое злодеяние – убийство молодого героя, сына Константина Великого, Криспа.
Город, населенный солдатами, казался унылым захолустьем. Бесконечные казармы выстроены были в казенном вкусе времен Диоклитиана. На крышах лежал снег; ветер завывал в пустых улицах; море шумело.
Галла отвезли в одну из казарм.
Посадили против окна, так что резкий зимний свет падал ему прямо в глаза. Самый опытный из сыщиков императора, Евсевий, маленький, сморщенный и любезный старичок, с тихим, вкрадчивым голосом, как у исповедника, то и дело потирая руки от холода, начал допрос. Галл чувствовал смертельную усталость; он говорил все, что Евсевию было угодно; но при слове «государственная измена» – побледнел и вскочил.
– Не я, не я! – залепетал он глупо и беспомощно. – Это Константина, все – Константина… Без нее ничего бы я не сделал. Она требовала казни Феофила, Домитиана, Клематия, Монтия и других. Видит Бог, не я… Она мне ничего не говорила. Я даже не знал…
Евсевий смотрел на него с тихой усмешкой:
– Хорошо, – проговорил он, – я так и донесу императору, что его собственная сестра Константина, супруга бывшего цезаря, виновата во всем. Допрос кончен. Уведите его, – приказал он легионерам.
Скоро получен был смертный приговор от императора Констанция, который счел за личную обиду обвинение покойной сестры своей во всех убийствах, совершенных в Антиохии.
Когда цезарю прочли приговор, он лишился чувств и упал на руки солдат. Несчастный до последней минуты надеялся на помилование. И теперь еще думал, что ему дадут, по крайней мере, несколько дней, несколько часов на приготовление к смерти. Но ходили слухи, что солдаты фиванского легиона волнуются и замышляют освобождение Галла. Его повели тотчас на казнь.
Было раннее утро. Ночью выпал снег и покрыл черную липкую грязь. Холодное, мертвое солнце озаряло снег; ослепительный отблеск падал на ярко-белые штукатуреные стены большой залы в казармах, куда привезли Галла.
Солдатам не доверяли: они почти все любили и жалели его. Палачом выбрали мясника, которому случалось на площади Пола казнить истрийских воров и разбойников. Варвар не умел обращаться с римским мечом и принес широкий топор, вроде двуострой секиры, которым привык на бойне резать свиней и баранов. Лицо у мясника было тупое, красивое и заспанное: родом он был славянин. От него скрыли, что осужденный – цезарь, и палач думал, что ему придется казнить вора.
Галл перед смертью сделался кротким и спокойным. Оп позволял с собою делать все, что угодно, с бессмысленной улыбкой; ему казалось, что он маленький ребенок: в детстве он тоже плакал и сопротивлялся, когда его насильно сажали в теплую ванну и мыли, а потом, покорившись, находил, что это приятно.
Но, увидев, как мясник, с тихим звоном водит широким лезвием топора, взад и вперед, по мокрому точильному камню, задрожал всеми членами.
Его отвели в соседнюю комнату; там цирульник тщательно, до самой кожи, обрил его мягкие золотистые кудри, красу и гордость молодого цезаря. Возвращаясь из комнаты цирульника, он остался на мгновение с глазу на глаз с трибуном Скудило. Цезарь неожиданно упал к ногам своего злейшего врага.
– Спаси меня, Скудило! Я знаю, ты можешь! Сегодня ночью я получил письмо от солдат фиванского легиона. Дай мне сказать им слово: они освободят меня. В сокровищнице Мизийского храма лежат моих собственных тридцать талантов. Никто не знает. Я тебе дам. И еще большее дам. Солдаты любят меня… Я сделаю тебя своим другом, своим братом, соправителем, цезарем!..
Он обнял его колени, обезумев от надежды. И вдруг Скудило, вздрогнув, почувствовал, как цезарь прикасается губами к его руке. Трибун ни слова не ответил, неторопливо отнял руку и посмотрел ему в лицо с улыбкой.
Галлу велели снять одежду. Он не хотел развязать сандалии: ноги были грязные. Когда он остался почти голым, мясник начал привязывать ему руки веревкой за спину, как он это привык делать ворам. Скудило бросился помогать. Но, когда Галл почувствовал прикосновение пальцев его, им овладело бешенство: он вырвался из рук палача, схватил трибуна за горло обеими руками и стал душить его; голый, высокий, он был похож на молодого, сильного и страшного зверя. К нему подбежали сзади, оттащили его от трибуна, связали ему руки и ноги.