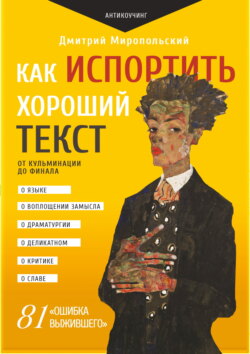Читать книгу Как испортить хороший текст. От кульминации до финала - Дмитрий Миропольский - Страница 7
Акт четвёртый
Кульминация
О языке
Должен ли писатель быть филологом?
ОглавлениеНет.
Филология – это наука. Писатель использует её достижения в прикладных целях. Профессионально разбираться в языке и литературе – одно дело, профессионально создавать на этом языке литературные произведения – другое. Есть показательная история в тему:
⊲
Выдающиеся советские физики, доктора наук, лауреаты государственных премий, разработчики циклотронов, атомных бомб, космических кораблей и прочих сложнейших устройств трудились в секретных лабораториях. Широкая публика их не знала. Гениальную компанию вывезли отдохнуть к Чёрному морю. Учёные взяли на пляж несколько бутылок вина, но не смогли справиться с толстой полиэтиленовой пробкой. Местный мужичок предложил свою помощь. Пламенем зажигалки он оплавил пробку и легко сковырнул её одним движением заскорузлого ногтя. Выпил стакан, полученный в награду, и сказал восхищённым гениям: «Физику надо учить!»
Филологи грамотно пишут, но хороших писателей среди них единицы. Филологи знают, что самостоятельное предложение, в котором отсутствует сказуемое, называется эллиптическим. Когда филолог пишет эллиптическое предложение вроде: «В числе достоинств литературы – язык и стиль», он ставит тире, если есть пауза, и не ставит, если паузы нет…
…но литературные способности филологов принято переоценивать так же, как и недооценивать важность грамотности для писателей, а это – «ошибка выжившего» № 42.
Эрудиты любят ссылаться на друга Пушкина – поэта Евгения Баратынского. В мемуарах Анны Керн сказано, что Баратынский был очень слаб в грамматике и спрашивал у ещё одного друга, издателя Антона Дельвига: «Что ты называешь родительским падежом?». Возможно, он так шутил, только при этом не пользовался никакими знаками препинания, кроме запятых. Остальные знаки расставляла Софья Салтыкова – жена Дельвига, которой поручали переписывать стихи для типографии. Но для того, чтобы соревноваться с Баратынским в безграмотности, надо быть способным написать хотя бы о Музе с «лица необщим выраженьем».
Писатели порой ведут себя, как персонажи комедии Дениса Фонвизина «Недоросль» Митрофан Простаков с его матушкой. На вопрос учителя: «Дверь, например, какое имя: существительное или прилагательное?» – Митрофанушка отвечал: «Котора дверь?.. Эта? Прилагательна… Потому что она приложена к своему месту. Вон у чулана шеста неделя дверь стоит ещё не навешена: так та покамест существительна».
Той же святой простотой отличались и рассуждения госпожи Простаковой о бесполезности географии: «Да извозчики-то на что ж? Это их дело. Это-таки и наука-то не дворянская. Дворянин только скажи: повези меня туда, свезут, куда изволишь».
Зачем писателю быть грамотным, если редакторы с корректорами всё исправят и причешут? Для ответа годится цитата, знакомая всем поклонникам Владимира Высоцкого. «У нищих слуг нет», – говорил его герой вору в сериале «Место встречи изменить нельзя».
Профессиональные сотрудники издательства, получив безграмотный текст, имеют все основания принять его за свидетельство неуважения – к себе, к читателям, к языку, к литературе… Они его даже читать не станут, а не то что исправлять и причёсывать.
Не надо писать неграмотно.
У нищих слуг нет.