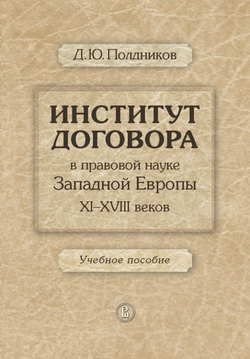Читать книгу Институт договора в правовой науке Западной Европы XI–XVIII веков. Учебное пособие - Дмитрий Полдников - Страница 19
Глава 2. Становление института договора в учении болонских глоссаторов
2.2. Схоластический метод толкования болонских глоссаторов
2.2.2. Учение о понятии
ОглавлениеВ современной логике понятие – это форма мышления (мысль), отражающая в обобщенной форме предметы и явления действительности и связи между ними путем указания на общие и специфические признаки, в качестве которых выступают свойства предметов и явлений, а также отношения между ними[11]. Понятия выражаются и закрепляются в словах и словосочетаниях, неразрывно связаны с ними, но не тождественны. Например, одно и то же понятие может выражаться разными словами и наоборот (синонимы и омонимы).
Для античной и средневековой логики «понятие» есть «слово», «речь» (λóγος), имеющее только объективное содержание и не нуждающееся в подробном пояснении. Затруднительно даже назвать слово, которым обозначалось понятие. В данном смысле древняя логика – это масса понятий без общего определения понятия.
Древняя логика различала содержание и объем понятия. Содержание, или совокупность существенных признаков предмета, раскрывалось в учении о категориях (см. подразд. 2.2.3). Учение о понятии концентрировалось на объемной характеристике понятия, т. е. множестве обозначаемых им предметов. Этому способствовало укоренившееся со времен Платона представление, что наука оперирует только общими понятиями. Чтобы «единичное» стало доступным уму, его требовалось обобщить. Поэтому единичные понятия зависели от общих, и в доктрине глоссаторов они не играли заметной роли (за искл. «римский народ» (populus Romanus) и «римская церковь» (ecclesia Romana)). Таким образом, в учении о понятии разрабатывалось соотношение между ними безотносительно их значения.
Различие между понятиями устанавливалось через их соотнесение с пятью предикатами: род (genus), вид (species), различие (differentia), свойство (proprium), случайные признаки (accidentia). Их перечислил Порфирий в «Исагоге» (введение к органону Аристотеля), а за ним Боэций. Эти «основные понятия» вначале не имели специального обозначения. У Боэция они – res («вещи»), с XII в. их стали называть voces (слова), а затем predicabilia, откуда произошло современное название «предикаты».
Наиболее важные предикаты, характеризующие понятия с точки зрения объема, – это род (genus) и вид (species) как целое и часть[12]. Род и вид соотносятся как целое и часть в самом общем смысле, т. е. подразумеваются не составные части предмета, а нечто такое, что «целиком содержится в другом». Таким образом, вид содержится в роде. Оба предиката являются классами, только род состоит из разных предметов или более мелких классов, а вид включает только похожие предметы, различаемые числом. В этом проявляется характеристика вида с содержательной стороны: вид содержит все признаки рода, а также имеет некоторые особые признаки. По словам ученого VIII в. Алкуина, род – это именно то, что отличается от видов. Ту же мысль находим у Цицерона: «Род есть то, что включает в себя два вида или более, сходные между собой в известном общем признаке, но различные по признакам видовым».
Римские юристы при анализе правового материала часто различали род и вид, однако род они выделяли без учета подклассов, а вид в их понимании означал индивидуально определенные предметы, т. е. единичные понятия. Достаточно вспомнить деление вещей в римском праве на определенные родовыми признаками и индивидуально определенные.
Глоссаторы учитывали, что вид может обозначать и множество однородных предметов, и отдельный предмет. Как правило, они выстраивали логическую «лестницу» из общих понятий. Внизу этой «лестницы» находился класс, который являлся только видом, т. е. охватывал только отдельные предметы и не объединял никаких других подклассов, а на вершине – класс, который являлся только родом, т. е. охватывал подклассы и не входил в другие классы. Этот высший класс был категорией в смысле, который придавал этому понятию Аристотель. Между низшим и высшим классами находились такие, которые являлись родами для нижестоящих и одновременно входили как виды в вышестоящие классы.
«Лестница» классов позволяла глоссаторам более полно анализировать объем понятий; она легла в основу многоуровневого деления, сыгравшего определяющую роль в построении четких понятийных систем (о делении понятий см. подразд. 2.2.3). Поэтому глоссаторы могли называть, например, владение или иск и родом и видом (глосса к D. 41.2.3.21), и делать выводы, отсутствовавшие в Своде Юстиниана.
Сопоставление родов и видов по содержанию проводилось с использованием третьего предиката – «различие» (differentia). В специальном логическом смысле «различие» – это отличия рода от вида, видовые отличия (differentia specifica). Значение видового отличия проявлялось в том, что с его помощью обосновывалась принадлежность вида к роду (общие признаки, differentia constitutiva) и в то же время отличие вида от рода (видовые отличия – differentia divisivd).
При сопоставлении родов и видов учитывались только существенные признаки, однако ясные критерии «существенности» не смогли найти ни в Античности, ни в Средние века. Так, Фома Аквинский в комментариях к трактату Аристотеля «О душе» констатировал, что «начала вещей нам неизвестны».
Неясности понятия «сущность» соответствовала многозначность ее обозначения – substantia, natura, essentia, esse rei, summa. До XIII в. чаще использовали слово substantia, но затем его заменила essentia, чтобы избежать путаницы с substantia в смысле первой категории Аристотеля.
Глоссаторы попытались практически осмыслить предикат «различие» и понятие «сущность». «Различие» они отождествили с формой. Далее, на примере вида, рассуждения развивались так: поскольку предмет состоит из формы (в смысле «различия») и материи в ее особом качестве (отличном по форме от рода – qualitas substantialis), то сущность вида как раз будет состоять из сочетания особого качества (qualitas) с формой. В целом такое определение сущности вносит не больше ясности, чем диалектическое: сущность – это то, что составляет предмет, без чего он существовать не может.
В доктрине глоссаторов сущность приобретала практическое значение не чаще, чем у римских юристов, например pactum de substantia, error in substantia. В теоретическом плане болонские профессора ограничивались поверхностным употреблением substantia лишь в ряде случаев (противопоставление substantialia и accidentalia контрактов, т. е. сущностного и случайного).
Как и римские предшественники, глоссаторы ясно использовали только логическое содержание диалектики. Например, substantia contractus купли-продажи – это согласие сторон о предмете и цене. Если хотя бы одна из этих составляющих отсутствует или изменяется, исчезает «сущность» купли-продажи и контракт считается незаключенным, а не превращается в другой вид контракта, как того можно было бы ожидать в соответствии с онтологическим пониманием изменения сущности.
Не вполне четкими были также представления глоссаторов о двух последних предикатах – свойстве и акциденции. Свойство (proprium) – это случайные признаки, присущие всем предметами определенного вида. Таким образом, по своему объему «свойство» равнялось самому виду. При делении рода на виды «свойство» играло роль видового различия (differentia specifica), пересекаясь с предикатом «различие».
Предикат «акциденция» (accidentia) представлял собой остаточное понятие и охватывал все то, что не являлось «существенным» и не составляло «свойство» предметов. Глоссаторы понимали данный предикат как «явно случайное», отделимое от предмета без ущерба для его родовидовой принадлежности.
Ограниченность учения о понятии, воспринятого глоссаторами, проявлялась в двух главных аспектах. Во-первых, они не выделяли различные функции одного и того же слова. Общее понятие всегда обозначало только класс (множество предметов). Между тем в настоящее время считается доказанным, что общее понятие может указывать как на институт (например, государство), так и на определенный предмет (например, Россия). Речь в данном случае идет не о многозначности (например, право как правопорядок, как субъективное право, как указание направления и т. д.), а о различных функциях одного понятия.
Во-вторых, вслед за Порфирием, автором «Исагоги» (введения к «Органону»), глоссаторы были убеждены, что любой предикат связан только с одним субъектом (например, S есть Р, «Сократ сидит»), тогда как в действительности нередко использовали многоместные предикаты (например, «Гай должен Титу», где предикат «должен» предполагает связь между двумя и более субъектами).
11
Кондаков Н. И. Логический словарь. М., 1971. С. 393.
12
Аристотель. Первая аналитика // Сочинения. В 4 т. М.: Мысль, 1978. Т. 2. С. 120.