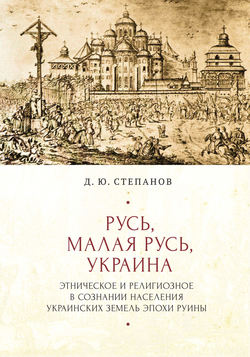Читать книгу Русь, Малая Русь, Украина. Этническое и религиозное в сознании населения украинских земель эпохи Руины - Дмитрий Степанов - Страница 3
Часть I. Представления о «русском народе» в среде духовенства Киевской митрополии в конце 40-х – 60-х гг. XVII в
Глава II. Малороссийское духовенство в годы Руины: основные высказывания о «русском народе» в контексте военно-политических событий
ОглавлениеНастоящей проверкой политической и идеологической лояльности представителей высшего киевского духовенства по отношению к царской власти стал мятеж гетмана И.Е. Выговского. В историографии неоднократно отмечалась роль украинского приходского духовенства в борьбе против гетмана и его окружения. При этом, однако, позиция «духовной шляхты» была рассмотрена только в самом общем ракурсе.
Проект Гадячского договора107, составленный ближайшим сподвижником Выговского Ю. Немиричем, включал в себя 5 статей, которые напрямую касались статуса православной церкви в так называемом «Великом княжестве Русском». Первый пункт договора декларативно уравнивал в правах православную церковь с католической. Во втором пункте оговаривалось право киевского митрополита и пяти украинских архиереев заседать в Сенате (по Зборовскому договору это предоставлялось только двоим). 13-й, 14-й и 16-й пункты касались будущей Киевской Академии и Печерской типографии. Статус Академии определялся отдельно: предполагалось не допускать в нее иноверных преподавателей. В типографии разрешалось печатать любые полемические произведения108. Таким образом, Гадячский договор шел куда дальше Зборовского и, в общем, отвечал интересам высшего православного духовенства периода Освободительной войны. Однако к 1658 году украинская церковная элита уже могла сравнить Гадячские условия с тем положением Церкви, которое сложилось после 1654 г.
Несмотря на действия московского правительства, которые крайне волновали высшее украинское духовенство (регулярные попытки подчинения Киева власти московского патриарха, возможная поставления московских архиереев и священников в украинские епархии, ссылка представителей украинского духовенства в московские монастыри и т.п.) положение киевских духовных лиц под царской властью обладало весомыми преимуществами над теми, которые предлагал Гадячский договор. Во-первых, многие украинские монастыри уже успели получить царские жалованные грамоты на различные маетности. В то же время, вопрос о церковном землевладении и возможном его переделе в пользу католической церкви в Гадячском договоре так и не затрагивался. Во-вторых, киевское духовенство занимало в православном государстве господствующее положение в религиозных институтах. Пафос Гадячского договора, в противоположность этому, предусматривал, что православная церковь так или иначе остается на вторых позициях (в частности, все православные архиереи-сенаторы должны были заседать только после католических епископов своих епархий). В-третьих, резкая перемена внешнеполитического курса Гетманщины негативно отразилась бы на стабильности как в политической, так и в церковной жизни региона.
В 1658 г. наметился определенный раскол в среде высшего украинского духовенства. Митрополит Дионисий Балабан с частью киевских игуменов поддержал Выговского и отправился в Варшаву для обсуждения условий соглашения. Несколько позже нежинский протопоп Максим Филимонович писал в Москву: «митрополит киевский и все владыки и архимандриты, как Тукальский, Василевич игумены и протопопы некоторые до Варшавы к королю на сейм поехали, на нечестивое сборище. Только отец Гизель, игумен межигорский, отец Варнава и отец Клементий Старушич, игумен Выдубицкий неколебимо стоят. А отец Баранович також в Печерском монастыре немощен». Так что, видимо, полную лояльность по отношению к царской власти в то время продемонстрировали две значимые церковные фигуры – Иннокентий Гизель и Лазарь Баранович. Несколько непонятной остаелась позиция виленского наместника Иосифа Нелюбовича-Тукальского.
Тогдашний местоблюститель митрополии Лазарь Баранович практически никак не проявил себя в этом конфликте. В отличие от него архимандрит Иннокентий Гизель активно, так как, по всей видимости, внешнеполитический курс Выговского вызвал у него отторжение. Еще в начале 1658 года Гизель вместе с Иосифом Тукальским. написали в Москву пространное послание, в котором уверяли «нашего же великого князя киевского», как они называли Алексея Михайловича в целесообразности продолжения войны с Речью Посполитой. Тон письма не вызывает никаких сомнений в решимости авторов: «храни ся, – писали архиерея царю, – и всю державу от псов; врагу же твоему не ими веры николиже…»109 Не стесняясь в выражениях, особое внимание Гизель и Тукальский уделили возможному будущему положению униатов: «…ненаказанные супостаты от церкве святыя восточные отпадше, пришедше в чювство, приимут жалость о суетной крамоле своей, и либо с пшеницею – сице с православными смешеся, се есть проклятую ту свою отвергше, в житницу Господню соберутца, либо огнем праведныя ярости [сожжены будут]…»110 Письмо не только обсуждалось на заседании боярской Думы, но имело и другие последствия111.
Это письмо было написано в то время, когда Выговский уже вел тайные переговоры с поляками. Таким образом, реакция Гизеля на Гадячский договор была вполне ожидаема: «А Печерской архиморит Инокентей Гизель тебе великому государю служит верно, и гетману и полковником говорит, не боясь от них ничего», – писал Филимонович112.
В июле 1658 г. Гизель послал в Москву наместника киево-печерского архимандрита Авксентия с просьбой о материальной помощи и о подтверждении прав на все маетности, принадлежавшие Киево-Печерскому монастырю. Об этом посольстве упоминал В.И Эйнгорн, но пристального внимания ему не уделил113. Однако знакомство с материалами миссии Авксентия интересно для изучения позиции киевского.
Перед тем как подать челобитную, Авксентий вручил царской семье дары от Киево-Печерского монастыря: Алексею Михайловичу были преподнесены – второй раз после такого же дара, сделанного митрополитом Петром Могилой в 1635 г. – частицы мощей св. Владимира, а царевичу Алексею Алексеевичу был подарен образ «Великого святителя Христова Алексея, митрополита киевского и всея Росии чудотворца…»114 Семантическое значение этих подарков очевидно. В речах, сказанных представителями киевского духовенства накануне и во время проведения Переяславской рады, в их посланиях, в Патерике Иосифа Тризны была подчеркнута связь «Володимерова корени» с московскими правящими династиями.
Посланники архимандрита предоставили в Посольский приказ грамоту киевского князя Андрея Юрьевича «Китая», универсал гетмана Хмельницкого, привилеи польских королей на различные маетности, письма константинопольского патриарха и привилей, полученный от митрополита Сильвестра Коссова. Из всех когда-либо приобретенных маетностей интересна судьба, в первую очередь тех, которые оказались в составе Брянского уезда и впоследствии, когда Брянск перешел в состав Великого княжества Московского, были утеряны для Киево-Печерского взятия русскими войсками Бреста в 1660 г., по указу Алексея Михайловича, одну из униатских церквей отдали под приход Афанасия Брестского. монастыря. Иннокентий Гизель просил вернуть эти вотчины на том основании, что когда-то их подарил монастырю князь Андрей «Китай» Юрьевич «благоверный и великий князь русский, внук володимерова мономахова правнука Ижеславля…» (в московском пересказе письма архимандрита Андрей Юрьевич и другие русские князья названы «прежними государями царями и великими князьями российскими»)115. Закончил свою челобитную Гизель словами: «…и ныне, государь, те монастыри и вотчины за тобою великим государем, а мы богомольцы твои ими, монастыри, прежними и вотчинами не владеем…»116 По указу царя, бывшие владения Киево-Печерского монастыря в Брянском уезде были возвращены117.
Просьба Иннокентия Гизеля говорит о том, что киевское духовенство надеялось на возвращение украинским монастырям земельных владений, принадлежащих Москве118. Советы которые давали Гизель и Тукальский в уже цитируемом письме, отправленном царю в начале 1658 г. также можно объяснить в т.ч. желанием вернуть маетности киевских монастырей, которые остались под контролем польской короны.
Деятельность Мефодия (Максима) Филимоновича, его политические и идеологические взгляды в 1658– 1665 гг. Максим Филимонович – яркий пример того, насколько особенное место занимали протоиереи в среде украинского духовенства в середине – второй половине XVII в119. До своего политического «дебюта», пришедшегося на гетманство И. Выговского, Филимонович, по-видимому, выступал как креатура Сильвестра Коссова.120 Так, в сентябре 1654 г. нежинский протопоп, ссылаясь на поручение, полученное от киевского митрополита, в своем письме уговаривал мещан Могилева сдаться на милость казаков Б. Хмельницкого, так как «сохрани Боже, москва не хотела по своем нраве и право поставити совершенно в вашем городе…»121 Видимо, протопоп в это время разделял позицию Коссова, желавшего, как можно больше, ограничить вмешательство московской администрации в дела верующих Киевской митрополии.
В январе 1654 г. Максим встречал московского посла В.В. Бутурлина речью, похожей на те, которые были сказаны Богданом Хмельницким, представителями старшины и духовенства во время проведения Переяславской рады122. Интересна и другая речь, которая была произнесена в присутствии наказного гетмана Ивана Золотаренко. Рассмотрим её подробнее. Выражая свой восторг по поводу присоединения Малороссии к Русскому государству, Филимонович говорил: «Призрел Господь Бог на смирение наше, коли подал до сердца вашему царскому величеству, дабы расточенных сынов русских злохитрием лятцким воедино собрал, разделенных составов воедино тело русского великого княжения совокупил, разсеянных что кокошь птенца своя под крыла вашего царского величества восприял, дабы преславное имя русское в Малороссии уничиженно и гноищем насилствования лятцкого погребенное воскресил и в первое достояние привел»123
107
Под Гадячским договором или «Гадячской унией» мы понимаем, строго говоря, проект договора, соглашение о котором было подписано 16 сентября 1658 г. Несмотря на то, что польский король Ян Казимир присягнул на этом договоре, польский сейм ратифицировал договор в значительно урезанном виде, оставив основные преобразования исключительно на бумаге. Таирова-Яковлева Т.Г. Иван Выговский // Единорогъ. Материалы по военной истории Восточной Европы эпохи Средних веков и Раннего Нового времени. Вып. 1. М., 2009. С. 248. Согласно проекту договора, украинские земли входили в состав Триединой Речи Посполитой на правах «Великого княжества Русского», проводилась касация Брестской унии, в польский Сенат избирались сенаторы от православных, в том числе обязательно – пять русских архиереев. Проводилась нобилитация казацкой старшины. Отдельно оговаривалось, что казаки имеют право на нейтралитет в случае московско-польской войны. Польский сейм 1669 г. сильно урезал политические пункты договора. Уничтожив саму идею суверенного Русского княжества. См.: Степанков B.C. Гетьманство Івана Виговського: соціально-політична боротьба і проблема державного будівництва (серпень 1657 – вересень 1659 р.) // Середньовічна Україна. Вип. І. Київ, 1994. С. 88–108.
108
13. Училища два, одно в Киеве, другое в Княжестве Литовском, где себе их укрепят, имеют быти поволены учители и униаты имеют быти. 14. Католики и греки, а еретики всех соборищ от тех училищ все отвержены быти имеют. 16. Библии, атеки и печатные дворы везде поволены, в которых в статье веры оберегатца имеют, чтоб кто противного ничего не вкинул. «Договорные статьи поляков с запорожскими казаками. АЮЗР. Т. 7. С. 252.
109
АЮЗР Т. 4. С. 85.
110
Там же.
111
Гизель и Тукальский, в частности, упомянули св. Афанасия Брестского, убитого униатами в 1648 г.: «который ко блаженной памяти вашего царского величества родителю на Москву духом пророчествия, со иконою чюдотворною пречистыя… Девы Богородицы… его царскому величеству победы на враги и умножения державы православных царей Московских…» После
112
АЮЗР. Т. 15 Стб. 290.
113
Эйнгорн В.И. Указ.соч. С. 118.
114
РГАДА. Малороссийский приказ. Ф. 124. Оп. 1. 1658 № 12. Л. 13.
115
РГАДА. Малороссийский приказ. Ф. 124. Оп. 1. 1658 № 12. Л. 14–15.
116
Там же. Л. 93.
117
Там же.
118
Надо отметить, что такие мысли посещали представителей духовенства Правобережья. См. Наст. соч. С. 142–143.
119
Биографии трех протопопов – Максима Филимоновича, Симеона Адамовича и Григория Шматковского дают основания полагать, что белое духовенство могло находиться в некоторой оппозиции по отношению к «князьям церкви». Имевшие, вероятно, такой же образовательный уровень, они происходили не из среды православной шляхты, как, например Сильвестр Коссов, Иосиф Тризна, Дионисий Балабан, Иосиф Тукальский, Лазарь Баранович и др., а из семей потомственных священников. Для большинства из них сан протоиерея был пиком церковной карьеры, доступ к высшим духовным должностям для них был закрыт. Филимонович, Адамович и Шматковский в разное время вступали в конфликт с высшим духовенством (в первую очередь с черниговским архиепископом Лазарем Барановичем) и терпели поражение.
120
Об этом свидетельствует в первую очередь тот факт, что «подручным» киевского митрополита его считали в первую очередь в Речи Посполитой. В своем письме виленский воевода Януш Радзивил в 1655 г. писал Филимоновичу: «Ведая о том, добре, что его милость отец митрополит киевской, яко есть человек великой и богобоязливый, и вашу милость также прилагаемыя доброты и богобоязньства…» (АЮЗР. Т. 14. С. 548); Примерно так же обращался к нему белорусский шляхтич Константин Поклонский.
121
АЮЗР. Т. 14. Стб. 152.
122
«Кто не возрадуется с правоверных христьян и росийских сынов в нынешнее время толикое благодеяние Божие увидевше… такожде и нас, православнх сынов российских, днесь верным рабом своим, благочестивым великим государем нашим, царем и великим князем Алексеем Михайловичем, всеа Русии самодержцем от сопостат наших свобождает, да якож тамо мынове Израилевы, прошедше по суху Чермное море…» АЮЗР. Т. 10. С. 266.
123
АЮЗР. Т. 14. Стб. 175.