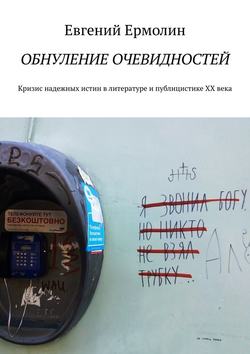Читать книгу Обнуление очевидностей. Кризис надежных истин в литературе и публицистике ХХ века: Монография - Е. А. Ермолин - Страница 5
Глава 1. Мифы, пророчества, свидетельства
Россия как литература в контексте исторической катастрофы
ОглавлениеЕдва ли стоит сомневаться в том, что сердцевиной не очень счастливой российской истории и главной темой самой России как таковой, определяющей ее значительность, являлись два феномена, две творческих духовных практики достижения жизненного максимума: мышление способом жизни и мышление образом, святость и художественное творчество. Русская святость – искусство жизни, уподобляемой Христу. Русское искусство – аскеза богослужения, постепенно трансформирующаяся в аскезу народослужения и аскезу идеократии (сначала иконопись; потом литература: фикшн и нон фикшн, «изящная словесность» и публицистика); и лишь изредка – в симпосийный пир свободного от аскетических забот, беззаботного, увлеченного недеспотической истиной духа.
Святость бывала и бессловесна, почти бессловесна иконопись – но лишь постольку, поскольку все главное уже было заранее сказано в Священной Книге, книге последних слов. Литература же расцветает как попытка применить старое знание к новой жизни, понять, схватить интуицией и рассудком усложняющийся опыт бытия, войти в личное отношение с миром – и выразить новое знание словами, которые не всегда, но нередко приобретали значение также последних, то есть максимально весомых, окончательных и бесповоротных, руководящих жизнью.
Россия в минувшие два века сложилась как словоцентричное, литературоцентричное общество. Авторитетное слово здесь не имело конкурентов в своих претензиях на могущество. Причем это слово, ориентированное на идеал, идеационное (по Питириму Сорокину). Тем и была, тем и брала традиционная русская литература, называемая обычно классической, что она совершенно явно что-то значила. И значила что-то крайне важное, насущное и необходимое. Она имела отношение к истине бытия. Она, кажется, хотя бы иногда была даже неизмеримо значимей, чем то, что считалось просто жизнью. Повседневная жизнь являла профанный срез существования, литература относилась к сакральному ядру бытия; она прокладывала дорогу в вечность.
Именно здесь, на ее авансцене, оглашались и исследовались основные истины – из тех, что становились доступными человеческому опыту. Литература была средством, в целом адекватным социальному и экзистенциальному поиску человека. Была тем местом, где развивались, обсуждались, развенчивались культурные проекты, связанные с широким кругом ценностей – как христианских, гуманистических, так и их жестоковыйных антиподов. Здесь задавали роковые и проклятые вопросы и отвечали на них по существу. Здесь обдумывались главные проблемы человеческого существования. Литература неизменно была в центре духовной работы своего времени. Она реализовалась как самосознание, как самопознание общества в связи с неотложностью духовной перемены мира, как «художественное упреждение преображения жизни», по авторитетному суждению Николая Бердяева [15; 335].
У литературы был почти сакральный статус. Ее книги сознавались священными, храмовыми книгами. Трудно отказаться от впечатления, что в основном своем замысле и смысле она представляла собой движущееся в потоке истории Евангелие, попытку актуализации Слова Божьего, род причастия или молитвы… В этом контексте потенциальному оппоненту непросто было ответить на вопрос: зачем нужна литература, если она не доискивается до последней правды, если она не взыскует разрешения мировой мистерии и утверждения идеала?
Каждый настоящий автор дописывал Евангелие. Давал имя безымянному хаосу. Постигая мироздание «разумом и любовью», он свидетельствовал об истине, а значит – о Боге. Литературное творчество в этих координатах выглядит как храмостроительство, как жертвоприношение Богу (пусть иногда «неведомому»). Занятия литературой понимались как исключительное по важности и ответственности поприще. Как особое служение. Не каждый достоин его (и писателя нередко тревожило сознание своего вопиющего недостоинства.) Писатель наделялся даром царственного священства и авторитетом учителя, апостола, едва ль не пророка. Он знал истину.
Заметим, что в момент могущества такого слова литература и публицистика существовали нераздельно (своего рода литерастика или публитура; словесные практики; словотворчество). Журналист (публицист) и писатель – это в классическом модусе практически одно культурное амплуа, часто одно лицо.
Сегодня мы смотрим в прошлое и вокруг себя оторопело. Где те великаны, куда утекла горячая лава огненных слов? И вообще, в коня ли был корм, оправданы ли такие великие литературные амбиции на фоне сравнительного ничтожества окружающей жизни? В этом видится какой-то фатальный парадокс. Литература, литературно инфицированное (экстраполированное словесными средствами, по Кондакову) искусство в целом приподымали над низменностью реалий и конкретных перспектив, создавали некую литературную нацию, литературную идентичность, другую Россию, отношения которой с окрестным миром оставались неразрешимой, полной дисгармонических акцентов проблемой. В общем-то, литература и публицистика и свидетельствовали со всей честностью о драме и муке нереализованности, невоплощенности идеального начала в жизни, не отказываясь, однако, от ценностей незыблемой скалы.
Итак, русский человек – святой или художник. Сергий, Серафим. Пушкин, Достоевский, Некрасов, Толстой, Чехов (как бы последний ни уходил от окончательных слов). Россия строилась как осиянный скит или как художественное, литературное пространство. В XIX – XX веках в наиболее простом и конкретном выражении русская идея есть русская литература и ее автор.
Кризис этих претензий совпал с острой фазой агонии всей социальной системы, которая так или иначе строилась на фундаменте незыблемых слов. В начале ХХ века он уже очевиден. Постоянно сводивший с русской литературой свои личные счеты Василий Розанов в «Уединенном» симптоматично объявлял: «Литература как орел взлетела в небеса. И падает мертвая. Теперь-то уже совершенно ясно, что она не есть «взыскуемый невидимый град» [89; 335].
Можно предположить, что он поторопился, диагностируя смерть этого, будем считать – традиционного и исконного восприятия литературы и литературного труда. Даже я, вообще не успевший не только на пир богов, но и на дележку их наследства, еще прекрасно помню и могу кому угодно дать отчет в том, что вот эта русская литература (и не только Пушкин, но и блуждающий в декадентских туманах Блок) с младенчества преимущественно и была моей настоящей, доподлинной родиной, а вовсе, признаться, не убогий окрестный совок. Может быть, это «слишком» личное ощущение, но именно его интимно-личная качественность свидетельствует, как мнится, об его подлинности; а сверх того, открыться в нем – значит мотивировать факт появления этих строк.
Впрочем, те мои переживания и переживания моего поколения были жутко ретроспективными. Это была временная станция причудливой культурной ностальгии, общества памятников, пушкинского мифа, миазмов прекраснодушного лихачевства, мифа серебряного века, господ юнкеров и поручика Голицына, – всего того, что докатилось до нас гламурным хрустом французской булки и мутным безумием потерявших берега реконструкторов. Сбавив иронический тон, признаем, что русская литература в своем сущностном ядре не просто являла нам образ России, но сама Россией и была, оставаясь ею даже тогда, когда ухнуло в небытие почти все остальное, что связывало нас с российской культурной традицией. Литература в глухом и лицемерном мире отчасти осталась тем градом Китежем, в котором спасалась от лжи и пагубы одинокая душа. Русский миф, высказанный в литературе, жил вопреки профанной действительности.
Советская инверсия ХХ века изменила порядок слов, уронила их качество – но не презумпцию их значимости. Однако эффект Клода Лефора (государственная идеология неспособна доказать истины, которые она постулирует) в итоге работал разрушительно. Дефицит больших вербальных смыслов давал о себе знать давно. По мере иссякания социального оптимизма проявилось настроение печальной ясности.
Судьба литературы в России роковым образом оказалась связана с исторической и культурной конвульсией, которая пришлась на ХХ век. Век, в который Россия вошла динамично развивающейся, с обещаниями грандиозных перспектив. Но все случилось наперекосяк.
В итоге пришлось осознать, что русский провал ХХ века – это плата за извечное отсутствие в русской жизни свободы и справедливости, за русское рабство, за самодержавный деспотизм и крепостное право. Россия – не страна утраченных гражданского единства, доверия и солидарности. Не страна свободы, являющейся естественной предпосылкой названных социальных добродетелей. Она перманентно – страна господ и рабов. Рабство было тем более вопиющим фактом, что не имело даже фиктивного духовного оправдания среди тех, кто считал себя христианами. Оно юридически было упразднено только в 1861 году, а житейски и душевно и не кончалось, давало метастазы, и в минувшем веке обнаружив страшной силы рецидив. И даже в начале ХХ века, хотя рабство крестьян уже давно было вроде бы отменено, оставалось огромное число наследовавших ему форм социальной несвободы и несправедливости, сделавших вопрос об общественной солидарности, о «классовом мире» и социальном консенсусе неразрешимым. Несвобода (и глубокая несправедливость в распределении благ и свобод) искажала формы личного опыта и сознания, деформировала народную душу, подселив в нее злые помыслы и научив ее ходить путями зла. Она рубила общество на части, размежевывала его, провоцировала углубление общественных противоречий.
В обществе начала ХХ века, по свидетельствам современников, царила атмосфера всеобщей и глубокой ненависти – идеологической, этнической, социальной. Люди начинали жить лучше, но это не делало их щедрее и человечней. Жить в свое удовольствие становилось нормой. Служение, верность чести и исполнение долга выходили из моды. Корысть процветала. Алкоголизм, падение семейной морали, рост числа самоубийств, дикий размах хулиганства. Общество чуяло неправду, несправедливость – и делалось до патологии враждебно-нетерпимым ко всему и всем, с чем связывали эту неправду: к государству, к власти, к церковному клиру, к богатым.
Пространства социальной свободы русский человек находил либо в аскетическом служении Богу, святом подвижничестве, либо в искусстве, творчестве, либо на периферии социума, уходя из него в степь, в Сибирь, в эмиграцию. Свободная и духовно убедительная Россия и случилась только в опытах святости и творчества, чаще всего – в личном уходе из социума, от его рабских детерминант, каковой уход и есть наш аналог библейского исхода. И сам по себе этот уход не решал проблем общества в целом, скорее их усугублял. Прекрасная химера искусства полыхала над буераком социальности.
Начало века. Иссякает до-Модерн с его сакральным средоточием, выраженным в формах общезначимой веры и так или иначе зафиксированным жизнеприятием. Приходит к драматически кризисному состоянию Модерн, с самоутверждением личности, с культом непосредственной очевидности и разумной целесообразности. Жизнь обесценивается, мир проблематизируется в своих основаниях. Через разрывы и надломы старых вер и убеждений в мир входит хаос, входит стихия и бешеная воля переписать бытие заново.
Уже первые годы нового века проходят в поисках и брожении. В России сгущается атмосфера предчувствий, предощущений, выражаемых по-разному, но сводимых, пожалуй, к одному идейному знаменателю: существующие формы жизни не имеют оправдания свыше, они онтологически недостоверны. Художники-символисты и участники религиозно-философских собраний, мистики-сектанты и декаденты, революционеры и ницшеанцы вместе и порознь сходятся на этом.
С одной стороны, в обществе началось духовное возрождение, религиозное пробуждение. Но времени, чтоб духовно просветить толщу необразованного простонародья, не оставалось: упущены были века. И, с другой стороны, в гораздо больших размерах начался отход от Церкви и веры вообще. Не стало общей веры. Не стало общего дела.
В этой круговерти и родился советский проект, в котором идеологический перспективизм совместился с рецидивирующей сакрализацией государства и отождествлением его с личностью вождя.
Советский Союз в его зрелом, сталинско-хрущевско-брежневском обличье был образованием, аналогичным всем постосевым империям – государствам, которые создавались для преодоления социального хаоса и для обуздания осевой, подчас довольно анархической, свободы человека неким ярмом.
Не всякому хочется жертвовать своей свободой в принципе, ради какой угодно формы общественного закрепощения. Но ярмо ярму рознь. И империи бывали разными. Империя строится на учении. Это может быть инструментализованная, огосударствленная, но все-таки осевая религия (от древнего Рима и Маурьев до Византии и ее нововременной восприемницы России, до Священной Римской империи германского народа и ее наследников эпохи Модерна – Великой Испании, империи Наполеона, Великой Франции, Австро-Венгрии, Великобритании, Соединенных Штатов), может быть теифицированная система морали (как в Китае). И качество учения в определяющей мере влияет на качество империи.
Советская империя строилась на базе специфической квазитеологической доктрины – «русского марксизма», эсхатологического и хилиастического проекта перманентной мировой революции и чаемого светлого будущего – как земной замены упраздненного царства небесного-царства Мессии. Этот проект был предельно радикальным, предполагал внедрение его «любой ценой», а главное – он был неосуществим в принципе. Беспримерно высокая цена корреспондировала с принципиальной утопичностью проекта. Эта же утопичность очень быстро стала препятствием для стабилизации режима и уже с самой ранней советской поры была дополнена испытанными инструментами власти. Возникшая репрессивно-террористическая государственность абсолютизировала себя в качестве органа необходимости, мыслила себя как орудие проекта, а потому не затруднялась в выборе средств. Цель оправдывала любые средства.
Советский Союз в его государственном статусе был агрессивной химерой (тут весьма уместно употребить это словцо, которое и появился-то в новом понятийном качестве как обобщение советского опыта Льва Гумилева). Причем тотальная агрессия была обращена и наружу, и вовнутрь. Химера поедала как то общество, в котором она обосновалась, так и саму себя.
В обществе, хранившем традиции досоветского прошлого, выгрызалось и уничтожалось все, что не соответствовало проекту. Но и сам проект менялся, корректировался с учетом конъюнктуры власти, вынужден был реагировать на присутствие внешнего мира.
Меняясь, он себя постепенно изживал. Его нежизнеспособность заставляла власть адаптировать те или иные элементы традиции. Некоторые из них были глубоко архаическими, доосевыми (подавление и чуть ли не полное уничтожение свободы, возвращение к экономике рабского труда и т.п.), причем эта новая архаика была генерально усугублена тотальными претензиями проектанта-власти на всего человека со всей его физикой и психикой, без традиционных для древности немалых ограничений. И такой взбесившейся архаики было страшно много в советской цивилизации (можно ли сказать: «советская цивилизация»? годится ли понятие «цивилизация» для того, чтобы описать это состояние существования? не точнее ли сказать – бардак?).
А потому бессмысленно искать в подлой и пошлой советской государственной политике величественные и торжественные моменты. Бессмысленно апеллировать к былому государственному «величию», аналогичному великим историческим тупикам – Египту Рамессидов, Вавилону Навуходоносора и Набонида, Риму Нерона и Диоклетиана.
Но постепенно в состав советского эклектического синтеза проникали и элементы осевых традиций, в него вживлялись христианско-гуманистические идеи и ценности. Происходило это, конечно, крайне путаными маршрутами. Но, раз попав в школьную программу, Пушкин и Лев Толстой делали свое дело. Эклектика усугублялась, органически присущая человеку свобода упорно, иногда даже самоубийственно обнаруживала себя.
Антихристианский и антигуманистический в основе своей проект никак не мог прийти в гармоничное сочетание с элементами такой традиции. А потому он был обречен. Здесь, как и всегда в культуре Запада, работает логика «или – или». Или Бог – или дьявол. Tertium non datur.
Катастрофический финал советского «эксперимента» был предопределен этой логикой несочетаемости. Хотя общество довольно долго держалось на плаву за счет не совсем исчерпанных запасов социальной динамики, живого воодушевления и стремления сделать жизнь лучше.
После того, как ХХ век пройден до конца, обозревая этот путь, отчетливо видишь, как грандиозные литературные заявки первой трети столетия, пройдя гибельной эпохой, обернулись в конце века очевидной редукцией литературных амбиций. В два приема к концу столетия обвалилось то иерархически упорядоченное здание культуры, в котором не только было так или иначе определено традицией проживание писателя, но и существовала естественная необходимость в инструменте осмысления, в средстве понимания сложной и противоречивой жизни человека и общества.
Уже ряд текстов в начале ХХ века создают контекст глобальной катастрофы, мобилизуя и форсируя для этого ресурс сильного слова. Начнем с них.