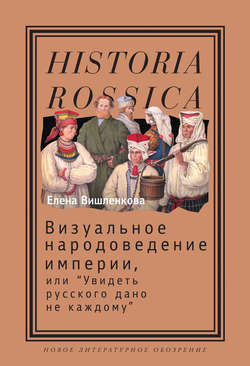Читать книгу Визуальное народоведение империи, или «Увидеть русского дано не каждому» - Е. А. Вишленкова - Страница 6
ВВЕДЕНИЕ
Художественная оптика
ОглавлениеПриступая к анализу графических источников, я предполагала, что специфика их языка обусловлена особенностями производства, воспроизводства и потребления образов в культуре вообще и в российской культуре исследуемого периода в частности. В ходе исследования эта гипотеза подтвердилась. Данное допущение я выводила не только из опыта изучения конкретной исторической ситуации, но и опираясь на теоретические разработки феномена массовой визуальной культуры, изложенные в трудах Р. Барута, М. Фуко, Ж. Деррида, Ж. Лакана, Д. Левина, Г. Дебора, М. Шапиро, Т.Дж. Митчелл, К. Силверман, Ж. Бодрийяра, С. Московичи, Г. Поллок[37]. Данные теоретики признали презумпцию, озвученную еще в 1940-е гг. Э. Панофским: «Свойством реальности, – утверждал он, – наделено лишь то, что постигается посредством зрительного представления… которое ни при каких обстоятельствах не может быть рациональным»[38]. Следовательно, воображаемые реальности (в том числе человеческие общности) должны изучаться посредством анализа зрительских предпочтений и особенностей видения, а не рационализирующего письма.
Хронологию произошедшего, благодаря публикациям и организаторской деятельности протагонистов «визуального поворота» (или «pictorial turn»), принято отсчитывать от 1988 г. – времени выхода книги «Видение и визуальность» под редакцией Х. Фостера[39]. В ее создании принимали участие специалисты в разных академических дисциплинах – литературной критике, истории искусства и литературы, культурологии, философии искусства и др. Такое дисциплинарное разнообразие предопределило различие подходов к теме. С тех пор и поныне одни последователи визуальных исследований полагают, что главная их цель – реконструкция «истории образов», базирующаяся на семиотическом понятии репрезентации (Н. Брайсен, М.Э. Холли, К. Мокси и др.). Для других данное исследовательское пространство – это социальная теория визуальности (А. Дженкс, Г. Поллок, Ф. Джеймисон, Дж. Вулф и др.), для третьих – анализ визуальных стратегий и технологий (О. Хорхордин, Н. Мирзоев, Т. Митчелл, С. Московичи, Дж. Бергер). Общим же является изучение культурных детерминаций основанного на зрении опыта в широком смысле.
Для исследований идентичности визуальная культура[40] создала новую перспективу, в которой визуальное признается не менее важным, чем нарратив[41], и не сводимым к структуралистскому пониманию языка как логоса[42]. Это синкретичное пространство, в котором социальные и культурные различения проявляются особенно драматично в силу их апелляции к человеческим чувствам и эмоциям. Здесь человек сталкивается с Другим и ищет механизмы для его понимания и обозначения отношений с ним. В связи с этим в визуальные исследования входит изучение эмоций и анализ процессов стереотипизации, через которые осуществляется осознание пола, расы, сексуальной ориентации, класса, нации, субкультурной идентичности и пр.
И поскольку визуальные образы относятся к миру договоров и конвенций, каждый исследователь вынужден отвечать на следующие вопросы: «как мы смотрим», «как мы можем, как нам позволяют, как нас заставляют видеть», «как мы видим видимое и невидимое». При таком подходе изобразительные искусства предстают одним из способов социального дизайна. Практиками рассматривания и изображения они программируют в современниках ракурс видения, а значит, и восприятия реальности[43]. Поэтому им обучаются и обучают в соответствующих учреждениях.
Исследователи, вставшие на путь анализа визуального, отрицают иерархические и дихотомические рамки, отделяющие искусство от «неискусства», элитарное от профанного, считают, что интерпретация самого образа как текста настолько же важна, как и знание экстратекстуальных – исторических, социальных, культурных и экономических – параметров его производства и функционирования[44]. Вскрытие этих параметров позволяет обнаружить в меняющихся способах смотрения и видения борьбу создателей эстетических канонов[45]. При этом сам канон понимается как результат соглашения о художественных продуктах, принципах их сортировки и использования для проведения культурных границ[46]. В самом обобщенном виде он видится как своего рода доминирующее мировоззрение и система ценностей, что дает ему возможность действовать в качестве средства интеграции людей в единое культурное и национальное сообщество. В таком виде история канона является уже не историей визуальных объектов, а историей политики смотрения[47]. Поддерживая власть нормы, ее законодатели и защитники навязывают современникам общую (иллюзорную) идентичность и подавляют (или ретушируют) альтернативные версии.
Россия представляет благодатную почву для проверки данных теоретических положений. С конца XIX в. и по сей день отечественное искусствоведение выстраивает свой дискурс на трех аксиомах: «история искусства есть борьба художественных канонов», «русское искусство – народное и реалистичное», «сокровищница отечественной живописи состоит из великих творений»[48]. Теоретическая рефлексия на тему эстетических норм[49] сразу же поставила под сомнение незыблемость этой триады, а выявленные мною в изданиях конца XVIII – первой трети XIX в. рассуждения о «красивом», «прекрасном» и «возвышенном» убеждают в историческом характере канона, позволяют увидеть в нем подвижный компромисс персональных и групповых намерений. По всей видимости, язык отечественного искусствоведения нуждается в такой же деконструкции и профессиональной рефлексии, как те, через которые уже прошли языки этнографии, истории, географии, ботаники, антропологии и социальных наук[50], тем более что сейчас выявлена связь между художественным воображением, научными открытиями и политическими интересами[51].
Моя «сверхчувствительность» к языковым проблемам обусловлена спецификой рассматриваемой темы. Каждому исследователю, имеющему дело с визуальным миром России XVIII в., приходится представлять и описывать его посредством вербальных категорий. При этом подавляющая часть таких описаний использует категории, созданные в контексте модерного знания, возникшего значительно позже изучаемой эпохи и превратившего ее в «архаичную». Избегая модернизации исследуемой эпохи, а также произвольной трактовки изучаемых культурных феноменов, мне постоянно приходилось иметь в виду онтологическую несводимость образа к вербальным терминам, с одной стороны, и факт разрыва языковой преемственности, с другой.
Подобная процедура семантического перевода не имеет устойчивого алгоритма. Ограничения искусствоведческого способа его осуществления лежат в нарративной описательности и вольной интерпретации изображенного. А уязвимость семиотического метода мне видится в анализе нелигвистических явлений через прямую аналогию с вербальным языком, в доминировании пролингвистической аргументации[52]. Предлагаемая в данной книге процедура перевода основана на анализе изменений в воображении современников, вызванных визуальными образами. Такой подход коррелирует с идеей Б. Андерсона о «нации как воображаемом политическом сообществе»[53]. Для того чтобы увидеть или не увидеть общность людей, чтобы современники приписали художественным объектам (или опознали в них) соответствующий смысл, чтобы они вызвали у них эмоции, заставляющие их говорить и действовать заданным образом, – для всего этого требовалась деформация фантазии, появление способности переводить конкретные отношения между объектами из пространственных в темпоральные (например, способность превратить «местных жителей» в «современный народ» или в «историческую нацию»).
В растяжении воображения современников художник[54] играл ключевую роль. Не случайно в эпоху Просвещения на него возлагали особую социальную ответственность. Охваченный страстью или энергией творческого замысла, мастер должен был показывать зрителям скрытые миры и «пролагать новые пути». На этой миссии настаивали Д. Дидро, Ш. Батто и А.Г. Баумгартен[55]. Предполагалось, что созданные ими творения не просто зафиксируют реальность, а создадут желаемую действительность. Посредством зрения она проникнет в головы зрителей, они облекут ее в слова (тем самым завербовав новых единоверцев), а потом воплотят в жизнь через отношения, дела и поступки.
В связи с этим художественное производство сопровождалось интенсивной рефлексией над изображением и публицистическо-литературными заказами на него. Институциональные условия для этого создали Академии художеств, одна за другой возникавшие тогда в европейских странах. Систематическое обучение требовало размышлений над природой искусства, над формами его воплощения и путями развития. Выходившие где бы то ни было теоретические работы на эти темы тут же переводились на национальные языки. В процессе порождения воображаемых сообществ рационализация играла роль деструктивного фактора, посредством которого художественные миры проверялись на возможность их адаптации к исторической действительности (а значит, независимого от художественного гения бытования и воспроизводства). Артикуляция или вербальное описание либо «уничтожали» шедевр, либо давали ему социальную прописку[56].
Опираясь на данную логику, мне предстояло выявить нарративные и ненарративные ситуации, рождавшие в современниках фантазии и размышления на тему человеческой многоликости Российской империи; реконструировать созданные ими художественные миры; и, наконец, выявить используемые в исследуемой культуре способы апроприации этих эфемерных созданий текстоцентричными системами. Данный подход побуждает работать не в одном языковом регистре (визуальном или вербальном), а сразу в обоих. Он требует анализа коммуникативных возможностей различных языков в исследуемой культуре, выявления специфики смыслообразования в них, определения зон взаимоусиления и конфликта.
Чтобы ослабить зависимость собственного письма от национализирующего дискурса описания прошлого, я, во-первых, подавляла в себе соблазн искать в источниках свидетельства за или против какой-либо телеологии Российской империи. Поэтому понятия «народ», «нация», «империя» в данной книге играют роль открытых семантических ниш. Они наполняются конкретным содержанием по мере анализа графических образов и письменных свидетельств современников. Во-вторых, я заменила термины современных рассуждений на эту тему нейтральными аналитическими категориями («группа», «народ», «солидарность», «общность», «сообщество» вместо «этнос», «племя» или «нация»). И лишь в тех случаях, когда данные термины употреблялись в источниках или если не получалось осуществить замены без ущерба для понимания, я вводила их в создаваемый текст. Так, мне не удалось найти заместителей для современных понятий «идентичность» и «идентификация», и они используются в моем тексте, несмотря на понимание их исторической обусловленности и нелюбви к ним моих коллег.
Одним из центральных сюжетов данной книги является проблема упаковки естественно-научных теорий в иконографическую форму[57]. Меня интересовало, как инструментальное знание участвовало в графическом описании и упорядочении сведений о Российской империи. Деформировал ли российский опыт эмпирических наблюдений западные «большие теории» (например, А. Цезальпино, Ф. Ансильона, К. Линнея, Дж. Вико, И. Гердера, И. Винкельмана)? Выявленный комплекс знаний и представлений о человеческом разнообразии («многолюдье») Российской империи я не рискнула обозначить современным термином «антропология», имеющим вполне определенную дисциплинарную привязку и генеалогию. Обычно в таких случаях исследователи стараются воспользоваться документальными терминами, извлекая их из языка источников. Близкий к антропологии раздел науки люди XVIII в. называли «политической географией» (относя к ней изучение нравов и обычаев народов)[58], а в начале XIX в. к описанию людских сообществ подключилась «натуральная история человека»[59]. Данная дисциплина исследовала человеческие тела, выявляла анатомические признаки рода, разрабатывала таксономии (классификации) групп и видов, занималась поисками общих прародителей человечества, экстрагировала «нравы» народов из их физиологических особенностей. Объект своих исследований естествоиспытатели Российской империи определяли как «россияне вообще и народные племена в особенности»[60].
Термины «политическая география» и «натуральная история человека» не удовлетворили меня: первый тем, что его предмет радикально отличается от объекта современных исследований, а второй – своей сосредоточенностью на рациональном описании. Поскольку в предлагаемой книге речь идет не столько о производстве научных «высказываний», сколько о невысказанном, но осязаемом и, следовательно, об условиях таких ощущений и видения, – поскольку в ней повествуется о рождении этнических стереотипов и профанных представлений (то есть об определенной «парадигме мышления» по Т. Куну или «дискурсивном фоне» по М. Фуко), то более корректным для обозначения данной тематической области было ввести условный аналитический термин. Я использую «народоведение»[61].
Необходимость поименования «означающих» (то есть субъектов, имеющих право присваивать значения политическим и культурным явлениям) в очередной раз поставила меня перед выбором. Очень разные личности, для аналитических нужд объединенные мной в категории «российские элиты» и «отечественные интеллектуалы», в реальности были связаны лишь временем, физическим пространством и участием в создании представлений о собственной культурной среде, цивилизации, эстетике, морали, праве и прочем. Особенно меня интересовала та их часть, которая участвовала в изобретении способов их показа и установлении норм рассматривания. На языке XVIII в. художники костюмного жанра и этнографических портретов именовались «рисовальщиками для сбора живописных объектов» или «рисовальных дел мастерами». А в публицистике начала XIX в. производители образов и их интерпретаторы стали называть себя «любителями изящного».
Для разграничения их участия и позиции в идентификационных процессах Зигмунд Бауман предлагал разделить данную группу (он называл ее «эксперты») на «производителей» и «потребителей»[62]. К первым философ относил тех интеллектуалов Нового времени, кто мерил мир категориями «свой» и «чужой». Для художника такого типа было важным выявить и показать потенциально возможное сопротивление Чужого цивилизационному процессу. Данная задача представлялась необходимой постольку, поскольку сопротивление не позволяло достичь единства норм, а значит, и стабильности мира. «Чужой мир» виделся частью работы, которую следовало совершить, а признание за «другим» его собственной значимости таило опасность утратить четкость цели, а с ней и критерии ее достижения. Поэтому, как правило, «производителей» не интересовала идентичность осмысляемого «другого»: они пренебрегали ею, попирали либо изменяли до неузнаваемости и растворяли в присвоенной идентификации.
Согласно типологии Баумана, «потребители» обобщали мир через иные отношения: «я» и «не-я». Сквозь призму такого взгляда наблюдаемый народ мог видеться тем самым «другим», который нужен наблюдателю как автономный объект. В данной ситуации художник оказывался заинтересованным в том, чтобы силою художественного письма выделить и даже придумать его инаковость и оригинальность. Такой подход порождал изображение народа как эстетической «натуры», приносящей удовольствие зрителю.
37
Boorstin D.J. The Image, or What happened to the American dream. New York, 1962; Crary J. Techniques of the Observer: On Vision and Modernity in the Nineteenth Century. Cambridge, 1990; Eagleton T. The Idea of Culture. Oxford; Malden, 2000; Interpreting Visual Culture: Explorations in the Hermeneutics of the Visual / Ed. I. Heywood and B. Sadywell. New York, 1999; Jay M. Cultural Relativism and the Visual Turn // Journal of Visual Culture. 2002. Vol. 1, № 3. P. 267–278; The Languages of Images / Ed. W.J.T. Mitchell. Chicago, 1980; Languages of Visuality: Crossings Between Science, Art, Politics and Literature / Ed. B. Allert. Detroit, 1996; Markus G. Culture: The Making and the Make-up of a Concept: (An Essay in Historical Semantics) // Dialectical Anthropology. 1993. Vol. 18, № 1. P. 3–29; Mirzoeff N. An Introduction to Visual Culture. London; New York, 1999; Mitchell W.J.T. Iconology: Image, Text, Ideology. Chicago, 1986; Mitchell W.J.T. Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation. Chicago, 1994; Modernity and the Hegemony of Vision / Ed. D.M. Levin. Berkeley, 1993; Moscovici S. The Phenomenon of Social Representations // Social Representations / Ed. R.M. Farr and S. Moscovici. New York, 1984. P. 3–69; Panofsky E. Perspective as Symbolic Form / Trans. C.S. Wood. New York, 1991; Silverman J., Rader D. The World as a Text: Writing, Reading and Thinking about Visual and Popular Culture. 3d ed. Prentice Hall, 2008; Sites of Vision: Discursive Construction of Sight in the History of Philosophy / Ed. D. M. Levin. Cambridge, 1997; Tekstura: Russian essays on visual culture / Ed. A. Efimova and L. Manovich. Chicago, 1993; D’Arcy Wood G. The Shock of the Real: Romanticism and Visual Culture, 1760–1860. New York, 2001; Vision and Textuality / Ed. S. Melville and B. Readings. Durham, 1995; Vision in Context: Historical and Contemporary Perspectives on Sight / Ed. T. Brennan and M. Jay. New York, 1996; Visual Culture / Ed. C. Jenks. London, 1995; The Visual Culture Reader / Ed. N.M. Mirzoeff. London, 1998; Visual Culture: Images and Interpretations / Ed. N. Bryzon, M.A. Holly, K. Moxey. Hanover, 1994; The Visual Culture Reader/ Ed. N. Mirzoeff. 2nd. ed. London, 2002.
38
Панофский Э. Перспектива как «символическая форма»: Готическая архитектура и схоластика. СПб., 2004. С. 223.
39
Vision and Visuality / Ed. H. Foster. Seattle, 1988.
40
Данное понятие объединяет «процесс смотрения мира и создания визуальных репрезентаций» (Mitchell W. J. T. What is Visual Culture? // Meaning in the Visual Arts: Views from the Outside: A Centennial Commemoration of Erwin Panofsky (1892–1968). Princeton, 1995. P. 207). См. также: Meskimmon M. Visuality. The New, New Art History? // Art History. 1997. Vol. 20, № 2. P. 331; Homer W. I. Visual Culture. A New Paradigm // American Art. 1998. Vol. 12, № 1. P. 6–9.
41
McGregor G. A Case Study in the Construction of Place: Boundary Management as Theme and Strategy in Canadian Art and Life // Invisible Culture: An Electronic Journal for Visual Culture. 2003. Issue 5: Visual Culture and National Identity. http://www.rochester.edu/in_visible_culture/Issue_5/McGregor/McGregor.html. Последнее посещение: 10.11.2010.
42
Stafford B. Good Looking: The Essays on the Virtue of the Images. Cambridge, 1996.
43
О методах исследования массовой культуры см.: Confino A. Collective Memory and Cultural History: Problems of Method // American Historical Review. 1997. Vol. 102, № 5. P. 1386–1402; Burke P. Eyewitnessing: The Uses of Images as Historical Evidence. London, 2001. О визуальном языке лубка: Соколов Б.М. Художественный язык русского лубка. М., 1999. Об образном языке театра: Swift E.A. Popular Theater and Society in Tsarist Russia. Berkeley, 2002.
44
Визуальная антропология: Новые взгляды на социальную реальность: Сб. науч. ст. / Ред. Е. Ярская-Смирнова и др. Саратов, 2007.
45
Деларов П.В. Картинная галерея Императорского Эрмитажа. СПб., 1902. С. 1–2.
46
Обзоры дебатов о каноне в европейском и американском научных сообществах см.: Дубин Б.В., Зоркая Н.А. Идея «классики» и ее социальные функции // Проблемы социологии литературы за рубежом: Сб. обзоров и рефератов. М., 1983. С. 40–82; Гронас М. Диссенсус: Война за канон в американской академии 80–90-х // Новое литературное обозрение. 2001. № 5 (51). С. 6–18; Савельева И.М., Полетаев А.В. Классическое наследие. М., 2010. С. 24–26.
47
Поллок Г. Созерцая историю искусства: Видение, позиция и власть // Введение в гендерные исследования: Хрестоматия. СПб., 2001. Ч. 2. С. 718–737.
48
Впервые они были сформулированы в следующем издании: Кондаков С.Н. Юбилейный справочник Академии художеств, 1764–1914. СПб., 1914. [Ч]. 1. С. I–II.
49
Altiery C. Canons and Consequences: Reflections on the Ethical Force of Imaginative Ideals. Evanston, 1990; Cook A. Canons and Wisdoms. Philadelphia, 1993; Guillory J. Cultural Capital: The Problem of Literary Canon Formation. Chicago, 1993; Bloom H. The Western Canon: the books and school of the ages. New York., 1995; Gombrich E. H. Art History and the Social Science // Gombrich E.H. Ideals and Idols: Essays on Values in History and Art. Oxford, 1979. P. 131–167.
50
Обзорные работы по данной теме: Anthropology and the Colonial Encounter / Ed. T. Asad. London, 1973; Clifford J. Travelling Cultures // Cultural Studies. New York, 1992. P. 96–116; Gough K. Anthropology: Child of Imperialism // Monthly Review. 1968. Vol. 19, № 11. P. 12–27; Reinventing Anthropology / Ed. D. Hymes. New York, 1974; Webster S. Dialogue and Fiction in Ethnography // Dialectical Anthropology. 1982. Vol. 7, № 2. P. 91–114; Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography: a School of American Research advanced seminar / Ed. J. Clifford and G. Marcus. Berkeley, 1986.
51
Tobin B.F. Picturing Imperial Power: Colonial Subjects in Eighteenth-Century British Painting. Durham, 1999.
52
Бел М., Брайсон Н. Семиотика и искусствознание // Вопросы искусствознания. 1996. № 2. С. 521–559; Лотман Ю.М. Культура и взрыв. М., 1992; Eco U. A Theory of Semiotics. London, 1977; Schapiro M. Words, Script, and Pictures: Semiotics of Visual Language. New York, 1996.
53
Андерсон Б. Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении национализма. М., 2001. С. 30.
54
Согласно «Правам художников» (1768), в данную категорию в России входили «живописцы, скульпторы или истуканщики, архитекторы, рещики, на каменьях и меди медалиры, машинисты, часовщики, мастера инструментов математических и физики экспериментальной, химики, аттестованные в сей науке, аптекари, сочинители музыки и одним словом все те, которые преуспевают в таких искусствах, кои требуют понятия и сведения в геометрии, астрономии, оптике, перспективе, химии и прочих» (Сборник материалов для истории Императорской Санкт-Петербургской Академии художеств за сто лет ее существования / Под ред. П.Н. Петрова. СПб., 1864. Ч. 1. С. 171).
55
Арасс Д. Художественный мир Просвещения // Мир Просвещения: исторический словарь / Под ред. В. Ферроне и Д. Роша. М., 2003. С. 197–198.
56
Popper K.R. The Logic of Scientific Discovery. New York, 1972; Popper K.R. Conjectures and Refutations. New York, 1963; Richmond S. The Interaction of Art and Science // Leonardo. 1984. Vol. 17, № 2. P. 81–86.
57
Применительно к Западной Европе проблемы «информационной картографии» и культурного статуса науки рассматривались в следующих работах: Alpers S. The Art of Describing: Dutch Art in the Seventeenth Century. Chicago, 1983; Ogilvie B.W. The Science of Describing: Natural History in Renaissance Europe. Chicago; London, 2006; Holmes R. The Age of Wonder: How the Romantic Generation Discovered the Beauty and Terror of Science. London, 2008.
58
Татищев В. Н. Избранные труды по географии России. М., 1950. С. 204.
59
НА РТ. Ф. 92. Оп. 1. Д. 1603. Л. 97. (Об отправлении экстраординарного профессора Тимьянского в вояж. Январь 1823 г.)
60
НА РТ. Ф. 977. Оп. Историко-филол. факультет. Д. 164. Л. 1. (Дело по мнению г. профессора Булыгина об обстоятельном наблюдении над народными племенами, в Казанском округе обитающими. 15 мая 1830 г.)
61
Этим термином пользуются историки этнографии (Дмитриев В.А. Предисловие // Георги И.-Г. Описание всех обитающих в Российском государстве народов, их житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий и других достопамятностей. СПб., 2005. С. 9).
62
Bauman Z. Life in Fragments: Essays on Postmodern Morality. Oxford; Cambridge, 1995. P. 125.