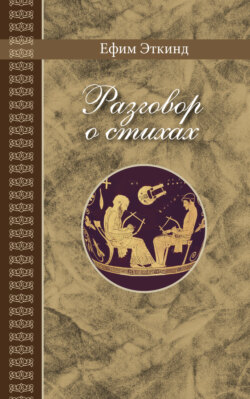Читать книгу Разговор о стихах - Е. Г. Эткинд - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Разговор о стихах
Введение
Сказка и философия
ОглавлениеЕсть люди с превосходным слухом, которым внятны еле уловимые шорохи и шелесты, – однако они чужды музыкальной восприимчивости. Иногда они даже петь умеют, даже танцевать любят. Но симфония Бетховена или фортепьянный концерт Рахманинова навевают на них неодолимую скуку. Почему так – вопрос особый. Пытаться им растолковать музыку – безнадёжно. То, чего они не слышат, они, скорее всего, и не услышат, сколько им ни объясняй, что такое контрапункт или каковы законы классической гармонии. Воспитать в них музыкальность, конечно, можно, но это дело долгое и трудное.
Есть люди с отличным зрением: они без всяких очков видят самые мелкие буквы на таблице, висящей в кабинете врача-окулиста, однако они равнодушно проходят мимо полотен Петрова-Водкина или Ван Гога, ничего не видя в картине, кроме сюжета, и ничего не испытывая, кроме холодного раздражения. То, чего они не видят, они, скорее всего, так и не увидят, сколько бы экскурсовод ни объяснял им колорит картины и её композицию. Когда-то Тютчев говорил о людях, для которых окружающий мир природы нем и мёртв:
Они не видят и не слышат,
Живут в сем мире, как впотьмах,
Для них и солнцы, знать, не дышат,
И жизни нет в морских волнах!
Лучи к ним в душу не сходили,
Весна в груди их не цвела,
При них леса не говорили
И ночь в звезда́х нема была!
Не для таких читателей написана эта книга. Она покажется им непонятной, трудной, да и ненужной.
Она и в самом деле нелёгкая. Но тот, для которого стихи существуют, преодолеет некоторые трудности чтения и, может быть, потом увидит в стихах больше, чем видел до того.
Потому что настоящие стихи многослойны. Их можно воспринимать по-разному, с меньшей или большей глубиной понимания. В сущности, они на это и рассчитаны: каждый получает от поэзии то, что он способен от неё взять. Это зависит от многого: от уровня образованности читателя, от объёма его жизненного и душевного опыта, от возраста, наконец, от чуткости и одарённости.
Нельзя сказать: «Это стихотворение я уже прочитал». Стихи можно читать сотни раз, каждый раз открывая их для себя, обнаруживая неведомые прежде глубины смыслов и новую, не замеченную доселе красоту звучаний. Лирический поэт рассказывает о себе, своей любви и своём горе. Но рассказывает он так, что требует от читателя сотворчества. Читатель как бы становится на место поэта и говорит его словами, его ритмами о собственной жизни. Поэт приобщает вас к своему опыту, но его опытом вам не прожить, если у вас нет собственного. Стихи останутся рифмованными строчками – звучными, прекрасными, но всё же строчками, то есть словесностью, если вы не сможете обогатить их своими переживаниями.
Это относится не только к лирике – философской, любовной, пейзажной, – но и ко всякой поэзии, даже такой, которая на первый взгляд кажется доступной для всех, от велика до мала. Начнём с простого примера. В 1831 году В. А. Жуковский перевёл балладу Ф. Шиллера «Кубок» (Der Taucher, 1798), которая с тех пор стала любимым чтением романтически настроенных подростков. Сюжет её такой: царь бросает в клокочущее море золотой кубок и призывает рыцарей найти его в пучине; наградой смельчаку будет кубок. Юный паж кидается в волны; когда уже никто не верит в его спасение, он выплывает, а затем повествует царю о неведомых глубинах, откуда ещё не возвращался никто. Увлечённый рассказом, царь вторично посылает юношу в морскую стихию, суля ему алмазный перстень. За пажа вступается царевна, тогда царь обещает смельчаку ещё и руку дочери. Паж безоглядно бросается в бездну – и на этот раз гибнет.
Мальчик лет десяти-двенадцати читает «Кубок» затаив дыхание. Его покоряет и бесстрашие пажа, который в ответ на призыв царя выступил вперед «смиренно и дерзко»; и фантастические ужасы морского дна, о которых с таким красноречием рассказывает юноша:
И смутно все было внизу подо мной
В пурпуровом сумраке там;
Все спало для слуха в той бездне глухой;
Но виделось страшно очам,
Как двигались в ней безобразные груды,
Морской глубины несказанные чуды.
Я видел, как в черной пучине кипят,
В громадный свиваяся клуб,
И млат водяной, и уродливый скат,
И ужас морей – однозуб;
И смертью грозил мне, зубами сверкая,
Мокой ненасытный, гиена морская.
Подросток восхищается царевной, которая, краснея, заступилась за пажа, а затем в удвоенной степени – пажом, который, теперь уже во имя любви, «неописанной радостью полный, / На жизнь и погибель… кинулся в волны».
Чудесная романтическая сказка, поэтичнейшая легенда об отваге и красоте духа, о любви и гибели…
Проходит несколько лет; юноша перечитывает «Кубок». Сказка о прекрасной царевне отступает на задний план, теперь для него важнее иное: противостояние природы и человека. Природа – всемогущая, стихийная, страшная. Человек – слабый, хрупкий, обречённый. Вот природа:
И воет, и свищет, и бьет, и шипит,
Как влага, мешаясь с огнем,
Волна за волною; и к небу летит
Дымящимся пена столбом;
Пучина бунтует, пучина клокочет…
Не море ль из моря извергнуться хочет?
И вдруг, успокоясь, волненье легло;
И грозно из пены седой
Разинулось черною щелью жерло;
И воды обратно толпой
Помчались во глубь истощенного чрева;
И глубь застонала от грома и рева.
А вот человек, противостоящий этой грозной и беспощадной силе:
…Уж юноша в бездне пропал.
И бездна таинственно зев свой закрыла:
Его не спасет никакая уж сила.
…
Вдруг… что-то сквозь пену седой глубины
Мелькнуло живой белизной…
Мелькнула рука и плечо из волны…
И борется, спорит с волной…
И видят – весь берег потрясся от клича –
Он левою правит, а в правой добыча.
Хрупкий юноша, такой уязвимый, такой беспомощный и бессильный, не пал жертвой громадной и безжалостной стихии. Он живой – она бездуховна. Он прекрасен – она уродлива: в ней двигаются «безобразные груды, / Морской глубины несказанные чуды». Он добр – она злобна; рассказывая о подводном царстве, юноша говорит:
И был я один с неизбежной судьбой,
От взора людей далеко;
Один меж чудовищ с любящей душой,
Во чреве земли, глубоко
Под звуком живым человечьего слова,
Меж страшных жильцов подземелья немова.
Пройдёт ещё год-другой, и читателю «Кубка» попадётся книга французского философа XVII века Блеза Паскаля «Мысли»; читая одну из записей Паскаля, он, может быть, вернётся к балладе Шиллера – Жуковского и прочтёт её иначе, теперь уже на фоне глубоких раздумий французского мыслителя:
«Человек всего лишь тростник, самый слабый во всей природе; однако он тростник мыслящий. Чтобы раздавить его, нет нужды всей вселенной ополчаться на него: убить его может струя пара, капля воды. Но если бы вселенная раздавила его, человек всё равно был бы благороднее того, что его убивает, ибо он знает, что гибнет, и знает, какое преимущество имеет над ним вселенная, вселенная же не знает об этом ничего».
С точки зрения философии Паскаля о тростнике баллада «Кубок» углубляется, приобретает новые важные оттенки и смыслы.
Пройдут ещё годы, и, вернувшись к балладе, мы обнаружим в ней строфу, мимо которой до сих пор проходили, не замечая. Юноша только что выбрался «из пропасти влажной», и вот начало его рассказа:
Да здравствует царь! Кто живет на земле,
Тот жизнью земной веселись!
Но страшно в подземной таинственной мгле…
И смертный пред Богом смирись:
И мыслью своей не желай дерзновенно
Знать тайны, им мудро от нас сокровенной.
Здесь философия иная, не паскалевская. Согласно этому учению, сущность вещей скрыта от человека, ибо разум не в состоянии её вместить. На дне океана таится истина бытия, но она, истина, мудро утаена от человека. Увидев её, человек гибнет. Бог милостиво держит его в невежестве, и верующий христианин не должен нарушать предписания Всевышнего: «Смертный пред Богом смирись».
Так у Жуковского. А у Шиллера? В немецком подлиннике и похоже, и не похоже. Вот дословный перевод: «Да здравствует король! Пусть ликует всякий, кто живёт в розовом свете. А там внизу – страшно…»
До сих пор Жуковский в точности следовал за Шиллером. А дальше?
«…Там внизу – страшно. И пусть человек не искушает богов, и пусть он никогда не стремится узнать то, что они милосердно укрывают мраком и ужасом».
Не христианский Бог, а языческие боги. Не «смертный, смирись», а «пусть человек не искушает богов». Шиллеру чужда идея христианского смирения, его философия не религиозная, а кантианская: Иммануил Кант утверждал, что разум человека не может постичь «вещь в себе», не в силах проникнуть в суть мира.
От романтической сказки об отваге и несчастной любви мы поднялись до сложной философии, даже до двух разных философий: агностицизм Канта – Шиллера и христианское смирение В. А. Жуковского.
А ведь мы говорим всё об одной балладе, казалось бы простой, предназначенной для юношеского чтения. Какая же в ней обнаружилась глубина!