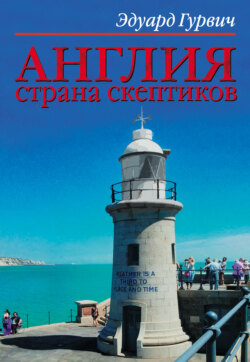Читать книгу Англия страна скептиков - Эдуард Гурвич - Страница 5
Раздел 1. Глазами русского эмигранта
Предисловие
ОглавлениеЭмигрантская судьба Владимира Набокова привлекла меня не только тем, что он был величайшим скептиком. Скептицизм его, конечно, русский. Но отчётливо он проявился впервые именно в Англии начала 20-х годов прошлого столетия, точнее, в Кембридже. Потому Набоков виртуально сразу стал частью моей английской жизни, и в гораздо большей степени, чем если бы присутствовал физически. Отставив в сторону пережитки снобизма московского литературного салона, скажу, что Набоков со своей судьбой уникального писателя-эмигранта по-настоящему начал впервые открываться мне в 1989-м, когда я приехал в Лондон.
Неофит, заглянув нынче в интернет, сразу наткнётся на глупость: «Оказавшись в Англии, Набоков приобрёл пару правильных ботинок под названием «оксфорды-броги». На самом деле всё было куда прозаичнее. В 1919 году семья Набоковых выбралась из советской России в Англию и поселилась в большом доме в Кенсингтоне, респектабельном районе Лондона. Чтобы прожить и найти деньги для учёбы детей, пришлось продать драгоценности матери, которые она привезла. В октябре того же года Владимир стал студентом-пансионером «Тринити-колледж» в Кембридже. Да, ему пришлось купить чёрную академическую мантию и квадратный головной убор с кисточкой.
Осваивался Владимир быстро ещё и потому, что детские годы прошли в Петербурге, в семье отца-англомана. Читать по-английски научился раньше, чем по-русски. Поначалу сошёлся с русскими, которые учились в Кембридже. Но дружеских отношений ни с ними, ни с англичанами-сверстниками установить не удалось из-за того, что Набоков радикально относился к большевикам и революции в России. Скепсис Владимира к тем, кто не поддерживал идею интервенции в Советскую Россию, обернулся отходом и прекращением всяких политических дискуссий.
…Прерву рассказ о его жизни в Кембридже, чтобы прямо тут заметить: в 1936 году Набоков ещё откровеннее выразил свой скепсис: «Я не только не верю в правоту какого-либо большинства, но и вообще склонен пересмотреть вопрос, должно ли стремиться к тому, чтобы решительно все были полусыты и полуграмотны». А вот ещё: «Знакомый N., родителей которого три года назад расстреляли, сам он подвергся позорным гонениям, но, вернувшись с государственного праздника, где слышал и видел Его, заявляет: «А всё-таки, знаете, в этом человеке есть какая-то мощь!» – мне хочется заехать N. в морду». И ещё: «Между мечтой о переустройстве мира и мечтой самому это осуществить – разница глубокая, роковая…». А ведь в эти самые 30-е годы, когда Набоков публикует такое, Страну Советов посещали европейские леваки, среди которых Бернард Шоу, Ромен Роллан, Андрэ Жид, Леон Фейхтвангер… Их в Кремле принимал Сталин; их кормили-поили на убой, устраивали в их честь приёмы; они поднимали или поддерживали тосты «За Сталина!» и, возвращаясь на Запад, оправдывались, ловчили…
Кембридж помог Набокову обрести ощущение времени, определив его, как «свободные, привольные дали времени и простор веков», и в этом смысле дал ему много. «Мимо моего окна, – вспоминал 20-летний Владимир, – шел к службам пятисотлетний переулочек, вдоль которого серела глухая стена. Вызывал восторг снег, как в русском городке. Трудно представить себе, что за два с половиной столетия до него в колледже учился Ньютон, что столетием раньше здесь по улицам Кембриджа гулял лорд Байрон…» Набоков внимательно всматривался в окружавший его английский мир и уверенно в нём обживался. Выглядел жизнерадостным, романтичным, уделяя время своим прежним увлечениям – футболу и теннису, но уже тогда был немного снобом, а скептицизмом превосходил сверстников-англичан, относившихся к тому же футболу сверх меры серьёзно. Похоже, он был обречён оставаться в безнадёжном одиночестве. В записях о трёхгодичном пребывании в Кембридже Набоков называет своего компаньона Михаила Калашникова «черносотенцем и дураком». Возмущается кембриджскими радикалами, которые читали роман Герберта Уэллса «Россия во мгле» и говорили, что большевикам надо дать шанс. Тогда он прекратил и с ними всякие дискуссии.
Кембридж, конечно, толкнул Набокова к активной литературной деятельности. Но и тут в интонациях будущего писателя слышится скепсис: «У меня не было ни малейшего интереса к истории Кембриджа или Англии, и я был уверен, что Кембридж никак не действует на мою душу; однако именно Кембридж снабжал меня и мое русское раздумье не только рамой, но и ритмом». На рыночной площади в лавке букиниста он купил Толковый Словарь Даля в 4-х томах. «Я приобрел его за полкроны, – вспоминал Набоков, – и читал его, по несколько страниц, ежевечерне, отмечая прелестные слова и выраженья… Страх забыть или засорить единственное, что успел я выцарапать, довольно, впрочем, сильными когтями, из России, стал прямо болезнью. Окруженный не то романтическими развалинами, не то донкихотскими нагромождениями томов (тут был и Мельников-Печерский, и старые русские журналы в мраморных переплетах), я мастерил и лакировал мертвые русские стихи, которые вырастали и отвердевали, как блестящие опухоли, вокруг какого-нибудь словесного образа… Но Боже мой, как я работал над своими ямбами, как пестовал их пеоны – и как я радуюсь теперь, что так мало из своих кембриджских стихов напечатал».
В лондонском периоде эмиграции Набокова меня поразила и очаровала не столько его верность русскому языку, русской литературе, сколько способность перерабатывать страх одиночества в стремление к уединению, без которого творчество невозможно. Ранние рассказы Набокова крутятся вокруг безысходности русских эмигрантов – драмы мужа, которого оставила жена, трагедии жены, покинутой мужем… Героя едва ли не самого раннего рассказа «Бахман», гениального музыканта, фамилия которого сложилась из двух композиторских – Бах и Шуман, – отличает именно стремление к уединению, отгороженность от других людей. Одиночество провозглашается как интимнейшая связь с самим собой. Пытливым биографам, исследующим жизнь Набокова, совсем не трудно проследить эту склонность в характере самого писателя, наряду с его скепсисом…
Вспомнилась моя поездка из Лондона в Монтрё, случившаяся, кажется, в период моего одиночества, оборачивавшегося депрессией. Я часами ходил вокруг гостиницы, где жили Набоковы. Один, без приятеля, который позвал меня и с которым приехал сюда, я поднимался на шестой этаж, бродил по коридору, увешанному фотографиями русского писателя, стоял около двери под номером 65 – увы, туда мне проникнуть не удалось – там жил какой-то гость из русских нуворишей. Я пробовал представить себе шестнадцать лет писательской жизни тут; жену Веру, ангела-хранителя Набокова; с ней он играл в шахматы на балконе. Спустившись вниз, потоптался у входа в ресторан, где Набоковы ждали и не дождались Солженицыных. Потом, выйдя на променад, оттуда разглядывал балкон Набоковых с видом на Женевское озеро и альпийские склоны. А потом шёл в свою гостиницу рядом – в набоковском отеле поселиться мне не удалось, – и из своего номера любовался теми же видами…
Я уже два года жил в Лондоне, когда советская империя в течение нескольких дней развалилась на глазах изумлённого мира. С восторгом глядел в сторону России начала 90-х. Мне было очень непросто понять, вжиться в английское общество – без языка, без работы, в возрасте 50 лет, с опытом журналиста в СССР, который поначалу не был востребован даже в стенах «Русской службы» Би-би-си. Начав преподавать русский язык, я внушал своим студентам одну мысль – всё, что видел в СССР, достойно осуждения и отрицания. И часто не встречал понимания. Потому, наверное, я брал в поддержку себе опыт эмигранта Владимира Набокова. Ведь к моменту отбытия моего из Страны Советов там только-только его начали печатать. Первое произведение Набокова в 1986 году было опубликовано в «Шахматном журнале СССР». Скорее всего, по недосмотру. Нелепые литературные байки Салона того времени, впрочем, хорошо известны…
Теперь же я читал всего Набокова – его лекции по русской и зарубежной литературе, воспоминания, романы – в библиотеке Славянского факультета Лондонского университета, просиживая там всё свободное время. Добавлю лишь, что мой любимый роман «Дар» появился в московских книжных магазинах уже после моего отбытия из «Той Страны». Из Лондона я наблюдал, как в 90-е российская критика с трудом осмысляла это имя – Набоков. Да и прежде ему доставалось. Бабель, писавший об экзотическом – бандитах, красноармейцах, а другим себя серьёзно так и не заявивший, – объявляет, что Набоков «талантлив, но писать ему не о чём». Эренбург, поместивший сей отзыв в своих мемуарах, ему не возражает. Кстати, сам Эренбург, как справедливо замечает в статье Д. Быков, «уцелел именно потому, что… в законченном виде демонстрировал (а может быть, и являл…) тип еврея… с его вечным внутренним хаосом, скепсисом, неуверенностью…», и что в нём присутствовал «внутренний ад вечного чужака, который и в Европе всем чужой». Нет более изощрённых антисемитов, чем сами евреи и полукровки. Это по ходу дела о Быкове, который вываливает про чужака своё, неразрешённое в рамках России (об этом речь ниже). Эренбург же больше циник, чем скептик. Именно потому предпочёл жить в сталинской Стране Советов. Драма такого же порядка, как и драма Бабеля, только без смертельного исхода в застенках Лубянки…
Советские критики навешивали на Набокова ярлыки сноба, обвиняли в космополитизме. Твардовский обозвал Набокова эпигоном, правда, в защиту Ивана Бунина. В 90-е имя писателя-эмигранта, уже публиковавшегося, снова муссируется. Журнал «Звезда» пробует развенчать Набокова. Его прозу не понимают и не принимают, видя в ней пустую словесную эквилибристику. Об этом пишут в первых монографиях… Но тут ничего нового. Ведь и эмигрантская пресса встретила Набокова враждебно. И ещё раньше, в 1916 году, Зинаида Гиппиус сказала отцу писателя: «Пожалуйста, передайте вашему сыну, он никогда писателем не будет». Сказала на заседании Литературного фонда. А вот Иван Бунин сразу разглядел в Набокове Мастера: «Этот мальчишка выхватил пистолет и одним выстрелом уложил всех стариков, в том числе и меня…».
Обдумывая это предисловие, вечерами я перечитывал прозу Набокова. Почему-то в памяти долго держались две его фразы: «Паровоз, шибко-шибко работая локтями, бежал сосновым лесом…» и «Это было чистое синее озеро с необыкновенным выражением воды». Только две. Мастер! Подозреваю, Набокова не пощадила тогдашняя заграничная русская критика, в первую очередь, из-за его радикального скепсиса по отношению к России, ну, и из-за ревности. О нём отзывались как о «талантливом пустоплясе», «человеке весьма одарённом, но внутренне бесплодном». Резкие отзывы прозвучали у А. Куприна, Б. Зайцева. Георгий Адамович заявил, что Набоков – «ремесленник», что из-под его пера вылезает «искусственная, холодная и опустошённая проза». Французский философ Жан-Поль Сартр присоединился к такой критике, назвав Набокова писателем-поскрёбышем – за то, что тот, якобы, пользуется приёмами Достоевского, но при этом осмеивает их, превращая в набор обветшалых и неминуемых штампов. Георгий Иванов выступил с разнузданной статьёй, где назвал его «способным хлёстким пошляком-журналистом»…
Набоков хотел вызвать его на дуэль. Но потом прислушался к советам – отвечать надо литературой. Тема дуэли давно притягивала его. И Набоков пишет великолепный рассказ под названием «Подлец». Анализируя сюжет, литературоведы утверждают, что он был знаком с рассказами Мопассана «Дуэль» и «Трус», хотя, главный импульс – повесть «Дуэль» Чехова… Исследователи находят тут множество реминисценций, включая историю несостоявшейся дуэли… отца писателя с извинившимся перед ним издателем А. Сувориным, редактором журнала «Новое время». Автор «Подлеца», конечно, имел в виду и работы отца, В. Д. Набокова, выдающегося правоведа и опытного криминолога, полагавшего, что «дуэль, конечно, не является восстановлением чести», что это вовсе не метод разрешения конфликта.
Повторюсь, Набоков был величайший скептик. Источник таких взглядов – его горький скептицизм отлучённости России (именно так – России, а не его самого), который проник в литературу. Проза Набокова пронизана нарочитой холодностью и отстранённостью. Этот его литературный стиль, в буквальном смысле, инфицирован скептицизмом. Тут и языковая игра с читателем, и отсутствие морализаторства (рассказ «Звонок»). Тут и скептическое отношение к российским классикам, к модному тогда Джойсу, к марксизму, к фрейдизму, к религии, ко всякой потусторонности. Критики отмечают скептицизм и по отношению к общепринятым нормам автора «Лолиты». Роман же Набокова «Другие берега» – пример сочетания того, что не может сочетаться – острый скептицизм и лирика – тепло и любовь к своим героям, звуки, запахи, точные наблюдения. Стиль такой прозы, как я думаю, толкает читателя воспринимать Набокова, со скепсисом глядящего на себя со стороны. Очевидный скептицизм по отношению к классическому роману не мешает Мастеру высмеивать приёмы, которыми сам же пользуется… Много чего я узнал, нырнув в отечественное и зарубежное набоковедение: и про метароман, и про нарциссистский роман, и про монологический роман, и про латание дыр в собственной жизни… Впрочем, всему этому литературному трёпу подводит итог Набоков своим романом «Дар», где ясно прочитывается: пошлость – это не просто дрянь, а псевдозначительная, псевдопрекрасная, псевдоумная дрянь.
Своему стилю Набоков верен до конца. Хотя самому писателю – веры никакой. К примеру, Набоков признавался: «У меня нет музыкального слуха, это недостаток, о котором я горько сожалею». Не только это, но и многие другие заявления писателя обманчивы. Так он укрывался от читательской публики, уводя её, многократно запутывая следы от прототипов… Чему, кстати, я по мере сил следовал, когда писал свой «Роман Графомана», смысл которого видел и в той самой набоковской бесконечности, созданной Словом, которая оказывается реальнее, подлиннее человеческой жизни.
…Вернусь к своей эмиграции. Получив британский паспорт, я задумался – а что надо ещё, чтобы стать англичанином с его терпимостью? Именно тогда я осознал: истинный англичанин – прежде всего скептик. Чтобы оценить и принять этот скептицизм, надо жить в Англии. А ещё лучше родиться там. Как моя дочь. Я не устаю восхищаться её позитивным взглядом на вещи. Что бы ни произошло, она спокойно, со скепсисом принимает случившееся. И если видит пути поправить, делает это. Если нет – принимает как должное и идёт дальше. Её совсем не смущает то, что смущает меня. Если я чего-то не знаю, я тушуюсь. Она же легко признаётся, что чего-то не прочитала, о чём-то общеизвестном (с моей точки зрения) не слышала. Только в 29 лет она захотела начать писать и читать по-русски. До того она только говорила по-русски со мной.
Мы стали заниматься по Скайпу когда из-за пандемии объявили общенациональный карантин. И, спустя год, к своему 30-летию, она писала и читала. Мою поздравительную открытку я написал ей по-русски и послал с новой книгой «Драма моего снобизма». Она без словаря поняла всё, что я написал в открытке. Хотя надежд, что дочь будет читать когда-либо мои книги, у меня мало. И вслед за ней я не чувствую себя удручённым. Дочь удивительно не тщеславна. Но когда в «Дейли Телеграф» опубликовали её цветные фотографии еврейских женщин, которые ясно показали, что она не только профессионал, но и Художник, и я написал ей об этом, она впервые вдруг ответила совсем не как скептик: «О, я так счастлива, папа, что ты гордишься мною».
На её 30-летие многочисленные подруги из-за карантина не могли приехать. И посылали ей на Инстаграм фотографии прежних дней рождения, где она делала весёлые рожи – высовывала язык, вытаращивала глаза, корчила немыслимо смешные гримасы… Всё это подруги вывалили на Инстаграм в поздравлениях. Было очень смешно. Как ответила на это моя дочь? Замечательным портретом с тортом и свечами, а поверх "Thank you for all the fucked up birthday wishes. Love you all x". Переводить не буду. По крайней мере она дала мне урок – не только к дням рождения, но и ко всяким круглым датам следует относиться скептически…
Скепсис помогает англичанам стоически пережить невзгоды. Пандемия унесла более 100 тысяч жизней в Англии. Но в том-то и штука, что англичане несли бремя испытаний достойно – вакцинацию проводили, прежде всего, среди людей старше 80, а в какой-то момент, во время эпидемии остановили повторную вакцинацию, чтобы охватить больше населения… Я на своём опыте убедился, как даже лёгкая скептическая шутка помогала не впадать в панику, когда вдруг отказывала компьютерная сеть, и как, несмотря на это, всё было организовано – нас, пожилых людей, прибывающих в центр вакцинации, встречали с улыбкой, немыслимой заботой, заверениями, что всё будет сделано как надо, но и со строгим соблюдением очереди (хотя ждать надо было не так уж долго).
Да, в Англии понимали риск посещения родных и близких перед Рождеством-2020. Все сочувствовали запертым в своих домах престарелым родителям, бабушкам и дедушкам. Власти не стали запрещать такие посещения. С моей точки зрения, это разрешение не стоило стольких жизней. Цифра жертв коронавируса выросла, и пришлось пойти на третий национальный карантин. Но в массе своей англичане не роптали, а приняли и эту плату за риск как должное…
Так что скептицизм англичан не исчезает и в самые драматические моменты. Никакой истерики. Третий национальный карантин из-за коронавируса 31 января 2021 года прикончил паб в Оксфорде с 450-летней историей. The Lamb and Flag впервые открылся в 1566 году, затем в 1613 году переехал на одну из центральных улиц Оксфорда. Reuters называл его любимым местом студентов, ученых и писателей, в том числе автора «Властелина колец» Джона Толкина и его друга Клайва Льюиса, написавшего «Хроники Нарнии». Владельцем The Lamb and Flag являлся Колледж Святого Иоанна, входящий в структуру Оксфордского университета, и с 1997 года использовал прибыль от заведения на стипендии для студентов. Закрытие паба не затронет студенческие субсидии, заверили в колледже. Опять же, давайте подумаем: этот паб пережил за свою историю бесчисленное количество войн, тех же эпидемий, кризисов и… не устоял в последнюю пандемию. Немыслимо! Но истерики по случившемуся у англичан всё равно нет. На её месте скептицизм – мол, всему когда-нибудь приходит конец.