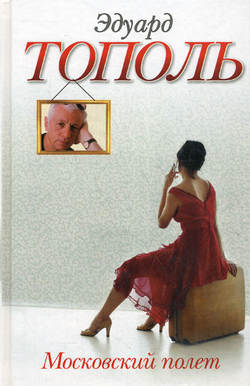Читать книгу Московский полет - Эдуард Тополь - Страница 10
Часть вторая
10
ОглавлениеВ начале нашего века супергигантская колония саранчи неожиданно перелетела из цветущей Абиссинии в пустыню Джибути, где вся тут же издохла от жары и голода. Французские ученые посчитали тогда, что масса саранчи превышает даже запасы африканских месторождений меди! И никто не мог понять, что же подняло такую тучу саранчи и понесло ее через море не на новые луга и зелень, а прямо на погибель. А русский ученый Вернадский, случайно наткнувшись в газетах на это сообщение, сформулировал наличие особого вида энергии – биохимической энергии живого вещества. Когда эта биохимическая энергия кончается, например у леммингов, они собираются в стада, идут в океан, не могут остановиться и тонут. И муравьи, исчерпав запасы этой энергии, вдруг вылезают из своего муравейника и движутся колонной по амазонским джунглям, пока не сдохнут…
Но это я уже цитирую другого ученого, Льва Гумилева, сына русского поэта Николая Гумилева, расстрелянного большевиками в 1921 году. Как потомок «врага народа», Лев Гумилев еще в юности попал в сталинские лагеря. И вот в 1939 году в общей камере ленинградской тюрьмы «Кресты», сидя на нарах, этот Гумилев размышлял об истории человечества. Почему Александр Македонский пошел в Индию, которая была ему абсолютно не нужна? Что его толкнуло на эту бессмысленную войну, после которой он тут же умер от ран и переутомления? Почему Ньютон отказался от семьи, от потомства, от любимой женщины и даже с гордостью написал: «Я всю жизнь работал ради науки и не пролил ни капли семени!»? Почему Наполеон повел солдат на Россию, которая была ему нужна так же, как Индия Македонскому?
И тут Гумилев с криком «Эврика!» вскочил с нар – он открыл явление, которое назвал «пассионарность». Иными словами, он открыл синдром, который появляется у некоторых людей или даже общества в результате мутации. Но зеки посмотрели на Гумилева как на идиота, и он опять залез на нары и смог рассказать о своем открытии только через 50 лет – в цикле лекций, которые прочел в 1989 году по ленинградскому телевидению.
Я не хочу вникать в тонкости теории Гумилева, но доскажу вам его вывод. По Гумилеву, Македонский, Колумб, Кук, Ньютон, Наполеон и так далее – отступление от человеческой нормы, уроды, плод неправильной мутации и травмы в генах. Травмы, которая могла случиться в результате, например, жесткого космического облучения, выброса солнечного протуберанца, кратковременной микродыры в земной ионосфере. «Все пассионарии – это, конечно, уроды, – говорит Гумилев. – Их устраняет естественный отбор. Но они успевают рассеять свой генофонд и оставить после себя памятники».
Я летел в Москву, не оставив после себя памятника. А с «уродами» Македонским, Колумбом, Наполеоном и прочими пассионариями меня роднило только одно – честолюбие. Честолюбие, которое в Нью-Йорке оказалось сильнее трусости и простого голоса разума. Именно эта сила подняла меня и понесла через океан в СССР. Однако на подлете к Москве, где-то над Брянском или над Можайском, моя духовная связь с Македонским, Наполеоном и другими великими пассионариями вдруг оборвалась. Я тут же понял состояние муравья или лемминга, который со всей стаей движется в гибельном направлении. Держу пари: в предчувствии смертельной опасности эти муравьи и лемминги начинают хохмить без остановки. И чем ближе к гибельной аравийской пустыне, тем громче шутит саранча. А лемминги с хохотом входят в гибельные воды. Точно так же, как я при посадке в шереметьевском аэропорту, когда колеса нашего «боинга» чиркнули по посадочной полосе и за иллюминаторами в вечернем сумраке помчались еловые леса Подмосковья.
– O.K.! Enough! Now I see my lovely Motherland and that is enough for me! Let’s go back [Все! Хватит! Я уже увидел мою любимую родину, с меня достаточно! Полетели обратно]! – вопил я, притворяясь, что шучу. – Barry! Tell the captain I’m not leaving the plane! I’ll go back with the crew [Барри, скажи капитану самолета, что я не выхожу на этой остановке! Я полечу назад с пилотами]!
Но когда самолет остановился и я увидел под его крылом двух солдат с автоматами на груди, мне стало не до шуток. Я сглотнул ком в горле и, старательно подбирая английские слова, сказал нашему ковбою из Колорадо:
– Мистер Макгроу, у меня в Москве много друзей, и я везу им всякие мелкие подарки. Но я не знаю, разрешат ли мне пронести столько подарков через таможню. Могу я отдать вам часть?
– Sure! No problem! – ответил он с легкостью, которую обретаешь только после дюжины пива. И небрежно швырнул мне через проход пустую сумку от видеокамеры.
По моим представлениям, Роберт Макгроу в своей ковбойской шапке, сапогах, да еще явно «под мухой» мог больше всех рассчитывать на снисходительность советских таможенников: в России обожают американские фильмы о ковбоях и с традиционной симпатией относятся к выпивохам. Я достал из-под сиденья свою дорожную сумку и стал горстями пересыпать в сумку Макгроу зажигалки, магнитофонные кассеты, калькуляторы, косметические наборы, женские колготки, баночки с кофе, презервативы, сигареты «Мальборо» и всякую ерунду, которая в Москве – жуткий дефицит.
Между тем все уже двигались к выходу. И только у меня вдруг ослабли ноги – я все не решался встать с кресла и сидел в нем с какой-то глупо-рассеянной улыбкой. Тут Норман Берн тронул меня за плечо.
– Я с тобой, пошли! – сказал он и крикнул вперед, Сэму Лозински: – Полковник, подожди! Ты идешь первым, Вадим за тобой, а я – за ним! Роберт, ты с нами?
– Yes, sir! – Роберт Макгроу браво расправил плечи и плотней надвинул на глаза свою ковбойскую шляпу.
– Let’s go [Вперед]! – приказал Берн.
И мы пошли к выходу – в эту трубу, соединяющую самолет с аэровокзалом, – как маленький взвод в атаку.
Прямо за порогом самолета стояли два русских солдата в зеленых погонах и с автоматами на груди. Зеленые погоны – это погоны пограничных войск, а пограничные войска в СССР – это часть КГБ. Держа руки на прикладах «калашниковых», эти два пограничника встречали каждого пассажира каменными лицами и напряженными взглядами, как потенциального террориста.
Но когда я перешагнул порог самолета, маленькая старушка Огилви из колледжа «Вильям энд Мэри» вдруг храбро подошла к этим солдатам:
– Hi, boys! How are you? Can I take a picture of you [Привет, ребята! Как поживаете? Можно я вас щелкну]? – И вскинула свой «Кэнон», отвлекая их внимание от меня, Лозински и всей нашей группы.
– No! No фото!!! – тут же рявкнул старший из них, с лычкой сержанта на погонах.
– Oh, sorry… – сказала храбрая миссис Огилви и с сознанием отлично выполненной миссии пошла за нашим «боевым» взводом.
Мы прошли в коридор и оказались в пустом и плохо освещенном зале, возле двух черных спящих питонов – транспортеров выдачи багажа. Я настороженно огляделся, словно попал в тот же окоп, где когда-то меня уже накрыло вражеским снарядом. Шереметьево! В сердце каждого русского эмигранта это слово торчит, как осколок последней гранаты, брошенной в него на прощание советской властью. Где-то здесь, за стеной, в соседнем зале вспарывали подкладку моего чемодана, прощупывали каждый шов в одежде и сломали буквы в пишущей машинке. Правда, не устроили проверку анального отверстия. Однако теперь, после публикации в двенадцати странах моих «Гэбэшных псов», что они мне устроят?
Впрочем, пока все было поразительно тихо и даже как бы безучастно. В огромном зале выдачи багажа царили полумрак и пустота. Ни нашего багажа, ни таможенников. Даже за витринами Duty-free Shop не было ни одного продавца. Только рядом с этим, уже закрывшимся на ночь магазином сидели в креслах пять русских грузчиков, одетых не в форму, а кто во что. Вытянув ноги и положив их на багажные тележки, они с напускным безразличием разглядывали нас из-под козырьков своих надвинутых на глаза кепок. Я тут же вспомнил рассказы советских туристов об этих грузчиках. Именно они и таможенники шереметьевского аэропорта связаны с московскими рэкетирами и сообщают им, что именно человек привез из-за рубежа в своих чемоданах. Охота идет в основном за компьютерами, звуковой техникой и киноаппаратурой. Получив от грузчиков «наводку», московские бандиты нападают на людей по дороге из аэропорта или являются к ним в квартиры с пистолетами и забирают компьютер, который сейчас стоит в СССР 50 тысяч рублей – четыре годовых зарплаты президента[8]…
Тут, прервав мои размышления, ко мне подошел двухметровый Роберт Макгроу. Он наклонился и сказал так, что эхо прокатилось через весь зал и загудело в коричневых трубах, которыми декорирован потолок шереметьевского аэровокзала.
– Вадим, – сказал Макгроу, – а что скажут таможенники, когда увидят у меня десять дюжин этого добра? Мне уже больше шестидесяти, мы приехали в Россию на девять дней, а у меня десять дюжин презервативов! Что я могу сказать – зачем мне столько?
– Дашь таможеннику пачку презервативов, он пропустит тебя без проблем, – нервно ответил я, оглядываясь на грузчиков. Ведь среди них обязательно должен быть гэбэшник, понимающий по-английски.
– Но зачем тебе столько гондонов? Ты хочешь умереть здесь? – не унимался Роберт. Из-за его громового голоса на нас оглянулись даже две японки из нашей делегации, стоявшие по другую сторону багажных транспортеров.
– Это не мне, – сказал я, краснея под перекрестными взглядами японских журналисток и русских грузчиков. – У меня много друзей в Москве. А согласно советской статистике, в СССР на одного мужчину приходится три презерватива в год! В Воронеже мужчины вообще пользуются надувными шариками вместо презервативов, я сам читал об этом в советской газете.
– Come on! – не поверил мне Роберт. Как все американцы, он считал, что эмигранты всегда преувеличивают негативную информацию о стране, из которой они бежали.
Японки отвернулись от нас, сохраняя на своих круглых личиках бесстрастное выражение, но грузчики продолжали из-под своих кепок рассматривать меня и Роберта. У него через плечо висела видеокамера. Я процедил ему сквозь зубы:
– Держи свою камеру.
– Не беспокойся, друг мой! – пробасил он на весь аэропорт.
Тут неожиданно дернулась лента транспортера и с ржавым металлическим урчанием стала выбрасывать наши чемоданы из черной глотки, завешанной резиновыми языками-полосками. А грузчики продолжали сидеть в своих креслах без движения, держа ноги на багажных тележках. Барри Вудсон подошел к ним, взялся рукой за одну тележку, но хозяин тележки сказал ему коротко:
– No. Rent.
– How much? – легко согласился Барри.
– One rouble.
– Но у нас еще нет советских денег, – растерянно сказал Барри по-английски. – Как насчет долларов?
– No. Forbidden [Запрещено], – так же кратко ответил грузчик.
Те, кто стоял рядом, досадливо крякнули и сами потащили свои тяжелые чемоданы к выходу с надписью «Nothing to declare». А Барри растерянно оглянулся – его чемоданы даже на вид были неподъемными. Я поспешил к нему на помощь и сказал грузчикам по-русски:
– Ребята, он вам даст доллар. Это же десять рублей!
– Мы не можем, – лениво ответил один из них. – Нам запрещено брать валюту.
– Но откуда у нас рубли? – сказал я. – Мы еще не прошли таможню! Доллары на рубли можно менять только после досмотра, вы же знаете!
– Сигареты, – коротко бросил сквозь зубы один из грузчиков, и я понял их игру. В СССР на черном рынке пачка «Мальборо» стоит 20 рублей, и для грузчиков такой вид расплаты «сувенирами» безопасней, чем носить в кармане валюту, полученную путем явного шантажа.
Мы дали им по пачке «Мальборо», сами нагрузили свои вещи на тележки и сами покатили их к выходу, к будке паспортного контроля. Ни один из грузчиков не поднялся помочь даже дамам, хотя получил за аренду тележки в двадцать раз больше, чем положено. Впрочем, слово «положено» здесь тоже неуместно, потому что тележки эти не принадлежат грузчикам, а выдаются им для обслуживания пассажиров. Но вместо обслуживания они выдумали свою систему эксплуатации капиталистов – не отрывая своих пролетарских задниц от кресел…
– Слушай, помоги хоть японкам! – сказал я одному из этих грузчиков, возясь с чемоданами старой миссис Огилви. Наши миниатюрные японки вдвоем поднимали на тележку один чемодан.
– Да пошли они на х… – небрежно отозвался грузчик, и я узнал голос милой родины.
– Vadim, may I ask you something [Вадим, можно вопрос]? – подошла ко мне Дайана Тростер, «Хантсвилл войс», Алабама. – У меня при себе шесть тысяч долларов наличными. Думаешь, мне нужно записать их в декларацию?
– O God! – У меня даже плечи опустились от досады. – Зачем вам столько денег в России?
– Well, я не знаю. Может, я куплю что-нибудь. Икону…
– Я не знаю насчет декларации, это зависит от вас. Но никогда не носите при себе больше сотни, ну – двух сотен. Остальное отдайте Барри Вудстону – я слышал, что он собирается арендовать в гостинице сейф…
– I see. Thank you… – сказала она с сомнением и отошла. Для меня это был последний повод задержаться в зале выдачи багажа.
Я набрал воздух в легкие и покатил свою тележку к очереди, стоящей перед будкой паспортного контроля.
– Вадим, сюда! – позвал меня Норман Берн из середины очереди.
– Ничего, я тут… – отозвался я не столько из скромности, сколько потому, что именно эта будка паспортного контроля обозначала роковой рубеж – Государственную границу СССР. Господи, сколько раз за последние три недели я прокручивал в уме этот момент перехода советской границы! Что будет, когда сидящий в будке пограничник увидит мой паспорт, где черным по белому записано: «Place of birth: U.S.S.R.»? «Вот он берет мой американский паспорт, – думал я, – видит, что я родился не в США, а в СССР, и тут же набирает мое имя на компьютере. А если у них еще нет компьютеров, листает спрятанную под стойкой картотеку! И конечно, вот он я, в списке: Вадим Плоткин, most wanted man!»
Что произойдет дальше, после того как пограничник найдет мою фамилию в списке людей, интересующих КГБ, я не знал. На меня наденут наручники? Меня окружат и уведут на допрос куда-нибудь в глубину аэровокзала? А может, меня сразу отвезут на Лубянку, во внутреннюю тюрьму КГБ? Или сначала, для проверки моих чемоданов, у меня «найдут» марихуану, кокаин, взрывчатку?
Я мог ожидать от КГБ всего – особенно после того, как мне первому оформили визу.
И, оттягивая переход через этот рубикон, я встал в очередь последним, после двух наших миниатюрных японочек. Но тут из середины очереди ко мне решительной походкой Юла Бриннера подошел Норман Берн.
– Come on! Let’s go! – сказал он непререкаемым тоном адвоката.
– Но я после этих леди!
– Все все понимают… – процедил он сквозь зубы, решительно взял мою тележку и покатил ее в середину очереди, где стояли полковник Сэм Лозински, ковбой Роберт Макгроу и огайский мэр-тяжеловес Джон О’Хаген.
И только тут я обратил внимание, что вся наша делегация – все тридцать человек! – словно бы невзначай, вполоборота, искоса, исподлобья или через плечо смотрят на меня. Даже те, кто уже прошел паспортный контроль, – даже они не ушли к стойке проверки багажа, а стоят возле будки паспортного контроля и – якобы роясь, кто в сумке, кто в карманах, – держат меня в зоне своих взглядов.
Я не понял, что это значит, и с недоумением осмотрел, ощупал себя и вытер вспотевшее лицо.
О’Хаген положил мне на плечо свою пудовую руку:
– Не волнуйся. Мы с тобой.
И только тут до меня дошло, что они, все до одного, даже те, кого я еще не знал по имени, даже наши миниатюрные японочки, даже зануда Ариэл Вийски, «вели» меня с момента моего выхода из самолета. Так во время второй мировой войны русские солдаты иногда подбирали во фронтовой полосе мальчишек-сирот, кормили их, одевали в военную форму, зачисляли в свою часть «сыновьями полка» и заботились о них как о родных детях. Пятнадцать лет назад я даже сделал фильм о таких мальчишках, это был мой первый фильм, он назывался «Юнга торпедного катера». А теперь, в возрасте пятидесяти лет, я вдруг сам превратился в такого же «сына делегации»…
Тем временем Сэм Лозински положил перед пограничником свой паспорт.
Мы ждали.
У Сэма польская фамилия, но она звучит и как русская. К тому же он полковник американской армии. Что будет?
Но пограничник бесстрастно шлепнул штамп в его паспорт:
– Проходите.
Теперь – моя очередь.
Я вдохнул воздух, словно собрался нырнуть, и шагнул к пограничной будке, положил свой паспорт на окошко.
Полная тишина воцарилась в зале – такая, что даже сержант-пограничник удивленно поглядел по сторонам. Но наши сделали вид, что и не смотрят на него. Тогда он открыл мой паспорт, глянул на фотографию, потом – пристально на меня. Не знаю, зачем американские фотографы просят вас улыбаться даже для паспортных фотографий. Теперь, чтобы соответствовать идиотской улыбке на своей паспортной фотографии, мне пришлось с усилием раздвинуть губы.
Пограничник опять взглянул на мое фото, удостоверился, что я это я, взял правой рукой штамп и шлепнул им по паспорту.
– Проходите.
Я шагнул от его будки, выдохнул воздух и вдруг…
– Hurray!! – раздалось со всех сторон.
Это вся наша делегация аплодировала моему мирному переходу советской границы.
Сержант-пограничник выглянул из своей будки, недоумевающе хлопая белесыми ресницами.
А еще через минуту мы с такой же легкостью прошли таможенный досмотр – таможенники даже не открывали наших чемоданов и сумок, а просто штамповали таможенные декларации:
– Проходите… Следующий… Проходите, пожалуйста…
Встречавшая нас молоденькая гидша «Интуриста» изумленно всплеснула руками:
– Господи, так быстро через таможню не проходила ни одна моя группа! Это, наверно, потому, что вы журналисты! Добро пожаловать в СССР!
– Это потому, что завтра у нас интервью с генералом КГБ, – сказал я ей по-русски.
Она глянула мне в глаза и тут же отвела взгляд – мы с ней сразу поняли друг друга. Генерал КГБ, с которым мы должны встретиться завтра, не хотел, чтобы эта встреча началась с жалоб на таможню, и приказал своим ребятам пропустить нас без помех. Но именно эта легкость, которая изумила даже советскую гидшу, подтверждала мою уверенность в том, что КГБ ведет нашу группу.
8
В 1989 году заработная плата Президента СССР составляла 1200 рублей в месяц.