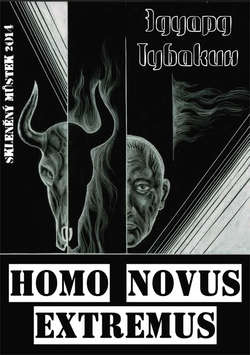Читать книгу Homo Novus Extremus - Эдуард Тубакин - Страница 2
Глава 2. Теплый угол
ОглавлениеКаждодневное, будничное катилось комом, между прочим. По рабочим дням в микроскоп поглядывала, исследовала посевные на желатине, опустошала продуктовые магазины. По выходным – к подругам на юбилеи. И чем дальше, тем круглее даты, тем дольше и тщательнее приходилось готовиться у трельяжа, в закуте, отрезанном от всего остального мира, пластиковой трехстворчатой перегородкой для переодевания. Уютом и живой человечностью дышал он, вклинивался теплым, неряшливым куском в стройное, математически выверенное расположение мебели и вещей вокруг, напряженную больничную чистоту комнат и парадность прихожей. Кокетливо обвисали мамины платья и небрежно вывернутая наизнанку ночная сорочка. Порой попадались несвежие бюстгальтеры и чулки, исходившие прокисшими французскими духами польского производства. Сюда тайным эротоманом проникал Яшенька. Стыдливо вдыхал запретные ароматы. Командовал армией пузырьков и тюбиков. Смешивал хну с зубным порошком. Нанизывал на капроновые нити янтарные бусины с кромешинками внутри, любуясь на доисторических, зябнущих мушек. Набеги, бывало, замечали, побивали портупеей. Оставаясь один дома, каждый раз искушался. Еще любил, манипулируя зеркалами, точно гиперболоидом Гарина, уловить яичный желток солнца, утопить его в белобрысой, спутанной макушке. Плешка! Неровная, вытянутая, по контурам. В миниатюре расплывчатый Крымский полуостров. Земля предков! Прохладный поводырь ранних воспоминаний пробирался в заброшенные архивы памяти.
Светает. На чердаке среди бутылей самодельного виноградного переброда, спрятана в массивном серебряном окладе старинная икона. Лики святых задумчивы и тревожны. Со двора слышны редкие, глухие шаги. Кто-то чужой топчется, не решается войти внутрь. Это сыплются переспелые абрикосы. Желтеют на рыхлом глиноземе медовой, волокнистой мякотью. Ближе к обеду отберут самые цельные и крепкие, остальные по углам размечут. Муравейник у веранды, где потрескалась и осыпалась штукатурка, давно ожил. Его обитатели выстроились в цепочку, спешно перетаскивают безликие коконы, похожие на рисовые зерна. Под порогом скребется мышь. У соседей занялись собаки. Дядя Паша собирается на рынок торговать мохнатым, бордовым персиком. В малиннике горячие, алые росы вспыхивают с мизинец. Возьмешь три, рот полный, и языку не протолкнуться. Захлебываешься сладким до приторности соком. Солнце на востоке лениво выбирается из яблоневых колхозных садов.
Теперь Яше открылось истинное предназначение многочисленных париков и шиньонов! Отчего мама прячет свою плешь? Он примерил один медного цвета, похожий на разоренное гнездо трясогузки, вившей из года в год в дуплах старых, перекрученных осин прямо за домом. На него глянул римский профиль испуганного мальчишки с темнеющим мочалом чужих волос на затылке. Равнодушная однобокость бритого призывника, обезличивающая любую индивидуальность, досталась ему по наследству. При встрече с Яшей у преданных маминых товарок сыпались из рук авоськи, летели наземь кастрюльки с супом, просительно вскидывали челками: будущий цезарь не проходи мимо нас! Данила Иванович обладал точенным, ровным, крепким носищем, резкой волевой линией бодбородка, вялыми, влажными губами, близко посаженными глазами. Казалось, взгляд никогда больше не сможет быть устремлен вдаль или ввысь, а недалеко, коротко, прямо перед собой. С возрастом полнота сгладила приятную рельефность, превратила Данилу Ивановича в пародию на Депардье-старшего. Семени его хватило, чтобы искривить горбинкой, разбить бороздкой сыновний носишко на две вершины, приговорив Яшу к раздвоенности и непостоянству в характере. Посмотреть в профиль – он был четкой, неискаженной, уменьшенной копией Данилы Ивановича без возрастных наслоений и приобретенных пороков, разве полоса рта тоньше, очерченней, жестче. Залысина, у отца в том же месте, круглая размером с пивную крышку. Объяснял ее происхождение увлечением классической борьбой в молодости. Приходилось качать мышцы шеи, выгибать спину мостиком с упором на голову, бросать соперников через себя. У Яши – последствия внутриутробной инфекции. Спутаны ручки, чтобы не царапался, не раздражал воспаленную кожицу. Мажет Рида затылок, лоб, шею зеленкой. В прадеда, кулака-еврея-мельника, за свое, нарочно сожженное, богатое добро, у цветущих кувшинкой прудов, где в жирный чернозем, хоть палку воткни – зеленеет, захмелевшая от крови, лихая голытьба не промазала.
Оставили молодую вдову с девятью ртами в доброй хате из крымского ракушечника и припрятанными козой на задах огорода, мешком картофеля, двумя десятками яиц, церковными побрякушками наверху у слухового оконца в соломе за четвертью домашнего винца. Двоюродная тетка из продотряда, рискуя, за день до раскулачивания предупредила. Спасаясь от голода бежали в Москву. Из детей одна Мария выжила. Выслали во Владимирскую область. Там у Марии Рида родилась. Встретилась с Данилой. Ему, авиаконструктору дали работу и квартиру, в одном из научных городков Подмосковья. На лето-сень переезжали в старый, здоровущий домище, пожалованный властью позже.
Яша у мамы допытывался. Рида Власовна притворялась глухонемой. Пожарить капульку? Яичница на языке пятилетнего. Иди, погуляй, убираться буду! Непонятное упорство добавляло таинственности, раззадоривало. После слезопролитного стояния под столом, взял изнуряющим ревом. Брошено в сердцах:
– Идивот! Краской сожгла!
Но Яше мало этого объяснения. Нельзя краской сжечь! Он идет к себе в комнату, открывает коробку с акварельными красками, брызгает водой, обмакивает палец, осторожно пробует на вкус. Мажет волосы. За ужином семейство дружно катится над иссиня-желто-лиловыми переливами. Яше не смешно. Для себя уяснил: неспроста тем или иным образом, явлены одинаковые отличительные знаки семьи Краснобаевых. Может от того неприятности? В субботу перемешал рис с гречкой. Поставлен в угол. В детском саду дубина Кра-вец из подготовительной группы пнул. Маме опять не дали отпуск летом, вместо нее пойдет заведующая химлабораторией. Придется отдыхать врозь. Они целый день ругались. Папа называл маму жохлой отпускницей, она его – мнительным ходоком. Яша спросил у отца, почему «жохлой», Данила Иванович зло пояснил:
– Жохают ее без моего присмотру, всякие!
Про ходока объяснять не стал. Мама убежала в соседнюю комнату, хлопнула дверью так, что с потолка осыпалась штукатурка. Отец с сыном, изумившись, окаменели в белой кадильной дымке, верно, ожидая ключей от рая. У Самуилы плешки нет. Она не в счет, сводная сестра Яши, дочь от первого брака Риды Власовны. Яков многое видал и подслушивал в закуте, да и отношение к ней Данилы Ивановича иное: чужая она ему.
Лет через шесть-семь обозначилась следующая метка семейства Краснобаевых: ею страдал римский император Корнелий Сулла. Проклятие появилось вдруг, неожиданно темным, декабрьским утром.
– Очень вегетативный мальчик, – задумчиво произнес давний мамин знакомый доктор, простукивая молоточком нервные узлы – Зимний тип заболевания, советую летом на море, – намеренно скорчил потешно лицо, весело подмигнул Яшиной маме, как дурак-паралитик.
Заведующая уступила Риде Власовне лучшее отпускное время за небольшую, но хлопотную услугу: оставила им в нагрузку свою четырнадцатилетнюю дочь-дылду.
Море перекатывалось упругим зверем, поигрывало мелкой галькой. Бросало в широкие ладони светлеющих барашков пенистую муть, очень похожую на ту, которая остается после стирки белья. Яков боялся: заплыви далеко за буйки, выпучится из морских глубин Невиданное, поглотит его. В зыбкой ряби воды мерещились неясные шевеления. Мальчик десятки раз проигрывал воображаемую схватку. Переворачивался на спину, с облегчением понимая: этому никогда не бывать. Фантазия. На берегу мельтешили люди. Они бесконечно выкладывали то полотенце, то студенистый кусок куриной голени, то журнал или газету, то крем для загара. И так до остывающих, подслеповатых сумерек. Где-то там, в груде лоснившихся тел должна быть Нелли. Яков с удовольствием представлял, как он выберется на сушу, подкрадется, бросит Нелли на голый живот вместе с горстью солоноватых капель колючего краба. Она вздрогнет. Заполощутся рваными флагами на ветру выгоревшие с позолотой волосы. Рида Власовна окажется рядом, но Яков приластится к ней:
– Мамуля, ну, мамуля! Видишь, мы забавляемся!
Она рассмеется, притянет его к себе. Яков, прислонившись к родительнице, вспыхнет. Застесняется розоватой в родинках складчатости, отпрянет в воду. Нелли за ним. Замрет у кромки прибоя, потом неохотно шагнет вперед, заберется по самую грудь. Яков поднырнет, осторожно коснется упругой ягодицы. Девушка притворится. Ничего не заметила. Не сговариваясь, поплывут вместе к нагромождению камней. За острыми выступами на мелководье блещут перламутром пупырчатые раковины. Их выстроят в ряд, будут подмечать мельчайшие различия, оттенки. Подростки посплетничают о школе, учителях. Паузы между разговорами все более продолжительны. В синеву глаз досыта не наглядеться. Третий день прячутся в укромных местах, украдкой неумело целуются. Нелли поопытней, подучивает Якова. Впервые смешно вышло. Зубами стукнулись. Рида Власовна не перестает удивляться: даже губы обгорели до кровяной юшки!
Разлягутся на разогретых окатышах. Девичьи завитушки разбегутся по тонкому мальчишескому предплечью. На душе тепло, благостно. Мальчик вспомнит, как прошлым летом болел корью. Пропало лето! Температурил, бредил. Его положили под цветастым ковром с нарисованным на нем носорогом. В окно настойчиво царапался орешник. Ветер выкручивал наизнанку листья. Солнечные блики набегали урывками. Чернокожие охотники выслеживали зверя, плутали по узорам синтетики. Запомнился шприц в белом халате, отцовское: «Терпи!» Верно, надо крепиться, пока не загонят разъяренное животное в западню. Озабоченные, родные лица склонялись над мальчиком, плавно перетекали в глиняные, охряные маски. Вечером Якова госпитализировали. Когда он вернулся домой, угрюмый носорог непобедимым пятном щурился на прежнем месте. Длинные, подвижные тени загонщиков пропали. Стояла поздняя осень, орешник давно гол.
Волна от пролетающей мимо моторки захлестнула Якова. Судорожно откашлялся. Оглянулся. Оранжевыми точками поколыхивались пластиковые бочонки. Он развернулся, вразмашку заторопился к лежакам, зонтикам, говорливым дымам шашлычек и прохладным мороженщицам.
Данила Иванович решил лечить Якова своим способом. Марш, в спортзал! Боксерские перчатки. Окреп ох, окреп, парень! И техника есть, и сила. Призовые места мешала занимать противная мягкость к противнику. Жальчегом прозвали товарищи-спортсмены. Напоминало унизительное: зайчик. Не было у Якова природной злости. Всплески случались. Кратковременные, слабые. Вредили ему. Выматывался на тренировках. Ненавидел тренера и спаринг-партнеров. Бить человека по лицу, как в песне, не научился. Тянущие боли в спине остро вываливали крепкий сон на обочину ночи, сделав слепую черноту нудным ристалищем дня, отравленного тычками и презрением сверстников. Рентген показал врожденную мутацию по мужской линии: расщепление позвонка в нижнем отделе позвоночника.
– Батя виноват! – всюду мамин хороший, знакомый доктор!
Сколько помнил Яков, этот сутулый, высокий человек, напоминающий худым видом единицу в дневнике по алгебре за девятый класс, всегда находился где-то рядом. Конечно, им занимались другие врачи. Тот числился специалистом по нервным или кожным заболеваниям, но отчего-то запомнился больше других. Их вердикты, выносились его голосом. То ли память обманывала, то ли Рида Власовна таскала к нему Якова по всякой мелочи слишком часто. Мышечные связки неправильно крепились к расщепленным кончикам, при расслаблении мышц временно теряли эластичность, зажимали нервные окончания. Отсюда боль. Следует отказаться от спорта, тем более, ростковая кость на левой ноге пониже колена давала о себе знать.
– Вы, ведь не хотите, чтобы, когда закончился общий рост у ребенка, одна конечность была короче другой? – преследовал надоедливый домашний лекарь.
– Хлюпик! – буркнул Данила Иванович.
Поколдовал над пивом с водкой. Сотворил ядреный ерш. Оросил нутро.
Он все чаще окунался в тягучие, алкогольные грезы. Вглядывался в стакан-колодец. До дна никому не удавалось добраться. Иллюзорность милей реальности. В ней бровастый Брежнев лобызался крепче, заказов на оборонку больше. Следовательно, денег на разработку новых самолетов не жалели. Перестройку, отец обозвал перекуйкой, с буквой «х» на месте первой «к».
– Мишка-то, меченный! – шептались в народе.
Время выдохлось рубленными виноградниками. Прогоркло. На поверку оказалось просроченным векселем.
В домашней библиотеке, на верхних рядах хранились запрещенные книги. Влез на стремянку. Рядом с Камасутрой отрыл Черную Магию. Во всю обложку рогатый, козлиный череп, схожий с перевернутой кремлевской рубиновой звездой. Белеющий позвонок на рентгеновском снимке, с разведенными, клыкастыми отростками удивительно ровно повторял очертания. Третья метка окончательно убедила Яшу в своей уникальности. Осталось выяснить, чего особенного ему нужно совершить, чтобы отомстить за обиды всем одним махом.
Поддатый Данила Иванович сосредоточенно отодрал с рдеющего локтя слюдянистую пленку былой имперской власти, обратился к – Я понял, слышишь, Яша? Нас слишком много на Земле. Надо бы уменьшить численность, пока не поздно. Но как это сделать? Не знаю.
Яков доел мороженное, брезгливо вытер руки о дефицитные джинсы, добытые по распределению, неприязненно сообщил:
– Без тебя разберусь!
Вышел из комнаты. Данила Иванович облегченно отвалился на спинку кресла. Пробурчал несусветное, белогорячечное:
– Обезьяна улетела. Будем жить.
Через открытые окна влезла в дом осень. Прошелестела сухим, безбожным смехом по комнатам. С красного угла, заслоненная портретами советских вождей, укоризненно сверкнула золотом борода Николая-угодника.
Точку в сложных родственных отношениях поставила единственная, сохранившаяся дневниковая запись отца, оформленная не без художественного лоска, впрочем, без даты и пометок на полях, сделанная, по всей видимости, на работе.
Младший научный сотрудник Шикаев скользит взглядом по сетке кроссворда. Я освободил нежную электронику от защитного кожуха. Пробую попасть в разъем. Передо мной письмо от Якова. Одним глазом в створ целюсь, другим в бумажку кошу. Думаю, чудной все-таки у меня паренек растет, мог бы запросто наэсэмэсить. Шикаев пыхтит, влезает на стол, что на трибуну, рвет глотку:
– По горизонтали…!!!
– Не верно, – отвечают ему, – двенадцать букв!
Я натягиваю респиратор, беруши, пытаюсь спрятаться от Шикаева. Он усмехается, тычет пальцем, читает следующее задание.
…Слушаю другую музыку. Назло тебе. Я рок-меломан поневоле. Из-за тебя. Ты запрещал слушать Цоя. Всю жизнь изобретал, создавал, строил. Я поклялся бережно разрушить. Аккуратно в нитку сместить клепанное с крыльями и фюзеляжем совсем, как одиннадцатого сентября небоскребы. Кормильцев[4] нехорошо писал. Разве возможно ходить по воде? Нельзя! Зато удобно натянуть майку с профилем Ленина или Че Гивары, отправиться в Макдоналдс и там, за гамбургером рассуждать о романтике того времени. Скитаться в джунглях, отсекая затупленным о человеческую плоть мачете скрученные вьюны, пить пиво на Либештрассе. Намотать сифилис. Не осуждаю тебя. Ненавижу! Ты не пропащее, как пытался мне внушить, ты – обманутое поколение. Ненавижу тебя за твою толстокожесть, за то, что не польстился, не сумел стать челноком, не открыл частное предприятие, не выкручивался, не лез в партию, чиновники и погоны; остался совком, мастерящим что-то в НИИ, и шепотом на кухне после второй рюмки про власть…
Не могу попасть в разъем. О первом опыте писать ведь жутко, а Шикаев? Особенно, когда сразу не получается. Уйди, не заглядывай через плечо, ломай шараду! Вы уже в домино играете, тогда рыбу делай! Тяни блесну! Сорвалась. Придется менять блок после удачной транзакции. Все спешат на обеденный перерыв, нелепо подхватив каски, словно запасные черепа. Тыкаю и потею. В одного.
…Поэтому учусь я, папа, на пиротехника. Передаю привет маме, шопоголичке Самуиле, силачу Кравцу, прохиндею Степану и всему почтеннейшему обществу нашего дачного поселка…
Попал, попал епа-майла! Сейчас зайду и нажму две кнопки. Надо бы вывесить табличку «Осторожно, работают люди» или «Под током» со скрещенными костьми. Ничего не нахожу. Чугунная бандура отдает эхом. Если закрыть меня и повернуть рычаг, давление раздавит, сомнет, перемесит в фарш. Шикаев, конечно же, гаркнет:
– Блин-да! Выноси! Оформляй несчастный случай!
Потом в каптерке, попивая, перечитают письмо, укладут мои мослы в промасленный брезент.
– Бедный сын! – скажут.
Весело загогочут, завизжат, запенятся.
Мне смешно. Улыбнусь посиневшими губами, дрогну лицом, пойду трупными пятнами. Попрошу мысленно: «Учись на взрывотехника. Очень нужная специальность в будущем, когда ожидаются локальные конфликты, природные катаклизмы, война, оккупация, освобождение и провозглашение. Проживешь долго. Умрешь в кругу сподвижников и соратников».
Для смеха нальют мне. Но говорить, выпивать и закусывать не могу. Мертвецы – освобожденные души, обозреватели потусторонних селений.
Зачистил концы, бегом из железистого гроба. Шикаев ехидно улыбается:
– Мы тебя похоронили. Максимушка хотел опустить втулку. – По горизонтали: установка для… из двенадцати букв! – кричат из цеха ему.
– Турбодитантр!
Ша! Разгадали ребус.
Степе в займе денег отказывают. Наскребает мелочь по карманам, мотыляет резвой походкой бывшего легкоатлета в «Пиво. Воды». Там у лезгина в белой рубашке и бабочке с жирным пятном майонеза на воротничке, берет стограммовку, забытый кем-то, недоеденный чебурек на столике. У него в состоянии делирия больше причин ненавидеть прямоходящих, чем у Яши, трясущегося в запашистом окружении подмышек из Выхино в Центр. Употребив, пробирается моряцкой походкой домой через рыночные развалы с азиатками по сто раз на дню переодевающими манекены. Загребает короткими, похожими на маслянистых опарышей пальцами с серыми ободами ногтей, близлежащие тряпки.
– Пшел, пянь! – кричат Степе.
– Эге-ге, иым! – прочищает горло в ответ.
Сдает одежду в следующем ряду сестре ограбленной торговки. К задним рядам рынка набирает на бутылку и закусь.
Устроился во дворах, на скорую треснул, лицо налилось коровьим выменем, местность под гору понеслась.
Прячется за штору, разделяющую комнату на две неравные части. Снимает с вьетнамцами однокомнатную квартиру. Они сейчас соленую селедку жарят на кухне. Зажав онемевший нос, Степа с сожалением по трезвому размышляет, куда бы податься. Спотыкается. Пол, разминая старые, отсыревшие паркетины, уносит его в Коломну в мастерскую художника Тугаринского. Пейзажист пыхнет улыбкой и объятьями, объявит: помер, портвейн любил!
Степан оттолкнет покойника, побежит в луга, изображенные на холсте, переберется за реку по круто сколоченному деревянному мостку, через борщевики и колючую акацию на пустырь. Там дотемна гоняли кожаный, разлохмаченный мяч. Степка всегда был желанным членом дворовых команд, соперничающих между собой. Все старались перетянуть его на свою сторону. Не умел отказывать, поэтому слыл виновником тайных и явных интриг. Высокий, жилистый, скоростной, владеющий хитрыми финтами и ловкий в обводке. Тренера закрывали глаза на нехватку лет, допускали к межгородским соревнованиям во взрослую группу. Физкультпросвет засветил Степе. Да так засветил, что на футбольных соревнованиях в расстрельном Мюнхене 1972 года по числу забитых мячей, вошел в десятку. Фотография Ахмеда Бучики из давнишнего, пропахшего отравой для книжных червей, журнала, выловленного в омутах музейных заказников, путешествовала с ним, висела над кроватью.
Он протирал бокалы, навешивал соломенные занавески, принимал заказы.
Настороженность спряталась в густой бороде. И обслуживал, да полноте! Степа вспомнил-то его только после известия о слепой смерти. Сейчас был готов приписать чуть ли не дружбу с приветливым, осторожным арабом, ожидающим, завернутую в похоронное полотнище невеселой славы и воткнутую в глинистую, неприспособленную землю на мусульманском кладбище, судьбу. Кто же обслуживал их столик в тот день? Дождливый, солнечный, тревожный. Ахмед хмурился, ожидал клиенток по свою душу.
Получил международника, ушел на тренерскую работу. Работал на цементном заводе, вел дутый список ГТОшников, футбольную команду «Коломзавод».
Инфляция давит, россиянам обещают рассеять. Бронзовые основы под печами притягивают неверный, воровской глаз. Весь цветмет на территории завода успешно реализован. Шальные деньги затягивают. Пойман. Разоблачен. Уволен. Со значительной суммой разъезжает по весям. Скупает продукты оптом.
Подвязались два сержанта из вневедомственной охраны. Предпринимательство во внутренних органах не поощрялась. Навесили на Степана формальные атрибуты владельца, сами, как бывшие участники конфликтов под афганцев легли. Чужие бандиты не трогали. Надежная крыша для целой торговой сети. И посыпалась оголтелая манна небесная. Какого рожна втянулся в азартные игры одноруких разбойников?! Степа объяснить не мог.
Забывался в тесных, темных, прокуренных игровых залах. Поднимал ставку до трех, выпивал кружку пива, испытывал щекочущее чувство азарта. Из замкнутого, хмурого буки Степан превращался в щебечущего, бесшабашного балагура. Курил папиросу одну за другой, остервенело жал на кнопки, распушив «крылья» наскакивал на хитрый ящик, пожирающий его кровные. Я – рядом. Мне не велено отлучаться. А как он играл! Песня! Вдохновение чистой воды! Сосредоточенный взгляд, богохульства. Руки метались от одной кнопки к другой в невиданном танце. Чувствовал, душа темнела в предвкушении легкой наживы. Поначалу – неприятно. Начинал жалеть, что меня приставили к Степе. Отказаться от обязанностей не мог. Привык выполнять работу аккуратно, честно. Сам заряжался непонятной, нехорошей, сладостной энергией игры. Пробовал вникать в психологию людей с отчаянным взглядом, ожесточенно толкающихся возле ярких мониторов. Да и куда после двадцати лет отсидки деться?
Игроки народ особенный. Они не живут реальной жизнью. Грезят. Днем это всего лишь незаметные тени. Вечером попадают на крючок джокера, превращаются в падших ангелов несущих в мир дух бунтарского просвещения.
Довел Степана до ручки, потом слил компаньонам-дружкам. К тому времени ему замену нашли. Терпеливо ожидали, когда завязнет поглубже. Долги скупили, объявили: подвинься, малый! Движимое, недвижимое продали. Комнату жене Ксении в коммуналке оставили, дачку ту, злосчастную, где пьянствовали под яблонями, планы вынашивали, она заставила на себя отписать. Мне проценты упали. Степа – тряпка! Даже если бы знал, простил. Ну, да я молчок. За колючкой Сталина-Ленина на грудь подсадил. Одна надежда, во время побега не посмеют пальнуть в главарей Октябрьского Переворота. И наутек. Им похер. Хоть анфас, хоть профиль. Стреляли.
– Лазарев, Лазарев, – укоризненно выговаривали сокамерники, – пропадешь, голова шальная!
– Воскресну! – отшучивался.
Воскресал. Озлобился Степан после. Запил. Подниматься трудно. Падать легко, но в те дурные Ельцинские времена то, и другое одинаково просто удавалось. Пошел по объявлению на машиниста электропоезда. Посменно, отпуска большие, запойная работа! Я курьером подвязался. Эх, иногда думаю: мы все на Земле по объявлению! Верное, предназначенное нам, выпадает редко. Маемся! Да и где оно, наше, за чьей околицей?
Яша сошелся со Степкой из любви к литературе. Степан, пьяный или трезвый – читал. Пил, конечно, больше. Соседями оказались по площадке в подъезде. Яша, после развода, снимал отдельную квартиру, Степа – угол. Забаррикадировался книгами. Я рекламный мусор по многоэтажкам разбрасывал. Возле дверей люди, чего только не оставляют: старую технику, детские игрушки, вещи, книги. Последние приносил Степе. Он курить выходил, Краснобаев проветриться. Опыты ставил. Химия – вонючая штука. На площадке разговоры заканчивались пузырем и занюшкой. Фотография абрека у Степы на стене – революционера или жертвы террора, не помню – романтического, жидкого парня свалила в дыры.
4
Илья Кормильцев, поэт, писал тексты песен для группы «Наутилус Помпилиус»