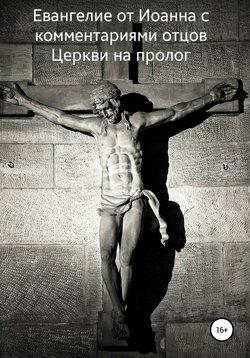Читать книгу Евангелие от Иоанна с комментариями отцов Церкви на пролог - Эдуард Вазгенович Ханагян - Страница 2
Глава 1
1. В начале бе Слово, и Слово бе к Богу, и Бог бе Слово[1]
1. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог
Святитель Иоанн Златоуст
Оглавление«Если бы Иоанн хотел сам с нами беседовать или говорить нам что-либо свое, от себя, то нужно было бы сказать о роде его, об отечестве, о воспитании. Но так как не он, а Сам Бог чрез него вещает роду человеческому, то исследовать это представляется мне излишним и неуместным. Впрочем, может быть, это и нелишне, и даже весьма нужно. Когда узнаешь, кто он был, откуда и от кого происходил и каков был сам по себе, потом услышишь его глас и все его любомудрие, – тогда ясно увидишь и то, что Евангелие было не собственным его произведением, но делом Божественной силы, которая действовала в душе его.
И вот этот-то рыбарь, вращавшийся около озера, сетей и рыб, родом из Вифсаиды галилейской, сын бедного рыбаря, и бедного до крайнего убожества, человек простой, и притом на последней степени простоты, не изучавший наук ни прежде, ни после соединения со Христом, – вещает к нам. Узнаем же, о чем он с нами беседует. Не о том ли, что на полях? Или – что в реках? Не о торговле ли рыбою? Иной, может быть, и ожидал бы услышать это от рыбаря. Но не бойтесь, ничего подобного мы не услышим. А услышим о том, что на небесах и чего прежде его еще никто не знал. Он приносит к нам столь возвышенные догматы, столь превосходные правила жизни и такую мудрость, какие возможны только для вещающего из самых глубин Духа, и вещает так, как только что пришедший с самых небес. Еще более: и из живущих на небе, как я и прежде говорил, не все могли бы это знать. Скажи же мне, свойственно ли это рыбарю? Или хотя бы ритору, или софисту, или философу, или вообще всякому, изучившему внешнюю мудрость? Нет; обыкновенному человеческому духу невозможно любомудрствовать так о вышнем бессмертном и блаженном Существе, о ближайших к нему силах, о бессмертии и бесконечной жизни, о естестве тел смертных, но впоследствии имеющих соделаться бессмертными, о будущем суде и наказании, о предстоящих отчетах в словах и делах, в мыслях и чувствах, также – знать, что такое человек и что – мир, что такое человек по существу и что такое – кажущийся человеком, но не таковой на самом деле, что такое порок и что – добродетель.
Итак, будем внимать не рыбарю, не сыну Зеведееву, но тому, кто ведает глубины Божии, то есть Духу, движущему эту лиру. Он ничего человеческого не будет говорить нам, но все, что ни скажет, будет из глубины Духа, из тех тайн, которых даже и ангелы не знали прежде, нежели они совершились. И ангелы вместе с нами чрез глас Иоанна и чрез нас научились тому, что мы познали.
Итак, чем же начинает евангелист свое сказание?»
В начале бе Слово, и Слово бе к Богу.
«Видишь ли ты в этом изречении все его дерзновение и силу? Как он вещает, нисколько не колеблясь, не ограничиваясь догадками, но все говоря положительно? Свойство учителя – не колебаться в том, что сам он говорит.
Бе, в отношении к Слову, означает, во-первых, вечность Его бытия: в начале, сказано, бе Слово. А во-вторых, то же бе показывает, что Слово было у кого-либо. Так как Богу по преимуществу свойственно бытие вечное и безначальное, то прежде всего это и выражено. Потом, чтобы кто-нибудь, слыша – в начале бе Слово, не признал Его и нерожденным, такая мысль предупреждается тем, что прежде замечания, что было Слово, сказано, что оно бе к Богу. А чтобы кто-либо не почел Его словом только произносимым или только мысленным, для этого прибавлением члена (ỏ), как я уже прежде сказал, и другим выражением (к Богу) устранена и такая мысль. Не сказано: бе в Боге, но: бе к Богу, чем означается вечность Его по ипостаси.
Далее еще яснее открывается это в присовокуплении, что Бог бе Слово. Но это Слово сотворенное, скажет кто-либо. Если так, то что же препятствовало сказать, что в начале сотворил Бог Слово?
Когда все прочие евангелисты начинали с воплощения (Матфей говорит: книга родства Иисуса Христа, сына Давидова; Лука вначале повествует нам о Марии; и Марк подобным же образом излагает сначала повествование о Крестителе), для чего Иоанн только вкратце коснулся этого предмета, притом уже после тех первых слов, сказав: и Слово плоть бысть (ст. 14), а все прочее – Его зачатие, рождение, воспитание, возрастание минуя, вдруг возвещает нам о Его вечном рождении? Какая тому причина, я и скажу вам теперь. Так как прочие евангелисты большею частью повествовали о человеческом естестве Сына Божия, то должно было опасаться, чтобы по этому самому кто-нибудь из людей, пресмыкающихся по земле, не остановился только на этих одних догматах, что и случилось с Павлом Самосатским. Итак, возводя склонных к падению людей от такого пресмыкания по земле и привлекая к небу, Иоанн справедливо начинает свое повествование свыше, от бытия предвечного. Тогда как Матфей приступил к повествованию, начав от Ирода царя, Лука – от Тиверия Кесаря, Марк – от крещения Иоаннова, евангелист Иоанн, оставив все это, восходит выше всякого времени и века, и там устремляет ум своих слушателей к одному: в начале бе, и, не позволяя уму нигде остановиться, не полагает ему предела, как те (евангелисты) – Ирода, Тиверия и Иоанна. Но вместе с этим достойно удивления и то, что как Иоанн, устремившись к возвышеннейшему слову, не оставил, однако ж, без внимания и воплощения, так и они, с особенным тщанием повествуя о воплощении, не умолчали также и о предвечном бытии. И этому так быть должно, потому что один Дух двигал души всех их; а потому они и показали совершенное единомыслие в своем повествовании. Ты же, возлюбленный, когда слышишь о Слове, никогда не терпи тех, которые называют Его творением, равно как и тех, которые почитают Его простым словом. Много есть слов божественных, которыми действуют и ангелы, но ни одно из этих слов не есть само Божество, а все это только пророчество и Божие повеление.
Это Слово (о котором говорит евангелист Иоанн) есть ипостасное Существо, бесстрастно происшедшее от Самого Отца. Это именно, как я и прежде сказал, (евангелист) изобразил самым наименованием Слова. Потому как изречение: в начале бе Слово означает вечность, так и выражение: сей бе искони к Богу (ст. 1, 2) показывает Его совечность (с Отцом). А чтобы ты, услышав: в начале бе Слово и признав его вечным, не подумал, однако ж, что жизнь Отца на некоторое расстояние, то есть на большое число веков, предшествует (жизни Сына), и, таким образом, чтобы ты не положил начала Единородному, (евангелист) присовокупляет: искони бе к Богу, то есть Он так же вечен, как Сам Отец. Отец никогда не был без Слова; но всегда был Бог (Слово) у Бога (Отца), в собственной, однако ж, ипостаси. Но как же, скажешь ты, евангелист говорит, что Слово в мире бе, если Оно было действительно у Бога? Подлинно, оно и у Бога было, и в мире было: никаким местом не ограничивается как Отец, так и Сын. Если величию Его несть конца, и разуму Его несть числа (см.: Пс. 146, 5), то ясно, что существо Его не имеет никакого временного начала. Ты слышал, что в начале сотвори Бог небо и землю? Что ты думаешь об этом начале? Без сомнения, то, что небо и земля произошли прежде всех видимых творений. Так когда слышишь о Единородном, что Он в начале бе, разумей бытие Его прежде всего мыслимого и прежде веков. Если же кто скажет: как возможно Сыну не быть по времени после Отца? – происшедший от кого-либо необходимо должен быть после того, от кого произошел, – отвечаем, что таковы только человеческие рассуждения.
Скажи мне: сияние солнца из самого ли естества солнечного истекает, или из чего иного? Всякий, имеющий неповрежденные чувства, необходимо признает, что сияние происходит от того самого естества солнца. Но, хотя сияние исходит от самого солнца, однако ж мы никогда не можем сказать, что оно существует после солнечного естества, потому что и солнце никогда не является без сияния. Итак, если и в видимых и чувственных телах то, что происходит от чего-нибудь другого, не всегда после того существует, от чего происходит, то почему ты не веришь этому в рассуждении невидимого и неизреченного естества? И здесь то же самое, только так, как сообразно это вечному существу. Поэтому и Павел назвал Сына сиянием славы Отчей (Евр. 1, 3), изображая этим и то, что Он рождается от Отца, и то, что Сын совечен Отцу. Скажи же мне: все века и всякое пространство времени не чрез Сына ли произошли? И это необходимо должен признать всякий, кто не потерял еще ума. Итак, нет никакого расстояния (времени) между Отцом и Сыном; а если нет, то Сын не после Отца существует, но совечен Ему.»