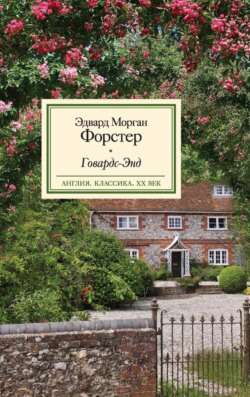Читать книгу Говардс-Энд - Эдвард Морган Форстер - Страница 7
6
ОглавлениеНас не интересуют очень бедные люди. О них нечего и думать, ими занимаются только статистики и поэты. Наш рассказ о благородном сословии или о тех, кто вынужден делать вид, что принадлежит к таковому. Молодой человек, Леонард Баст, находился на самом краю этого социального слоя. Сам он еще не рухнул в пропасть, но уже мог отчетливо ее разглядеть, а его знакомые частенько падали вниз и переставали представлять собою что бы то ни было. Он понимал, что беден, и готов был это признать, но скорее умер бы, чем согласился с превосходством богатых. Наверное, такая позиция молодого человека весьма похвальна.
Однако в том, что он все-таки уступал большинству богатых, нет ни малейшего сомнения. Он не был таким же учтивым, как среднестатистический богач, таким же образованным, таким же здоровым и таким же привлекательным. И разум его, и тело недоедали, ибо он был беден, а будучи человеком современным, он постоянно желал иметь лучшую пищу. Живи он несколько столетий назад, в ярко расцвеченных цивилизациях прошлого, он обладал бы определенным статусом и его доходы соответствовали бы положению. Но в теперешнем мире, где воспарил ангел демократии, покрыв различные классы тенью своих кожистых крыл и провозгласив: «Все люди равны – то есть равны все, у кого есть зонтики», – молодой человек был вынужден утверждать свое благородство, чтобы не свалиться в пропасть, где ничто уже не имеет значения и где не слышны лозунги демократии.
По дороге с Уикем-плейс молодой человек попытался первым делом доказать себе, что он ничуть не хуже девиц Шлегель. Испытывая смутное ощущение уязвленной гордости, он старался уязвить их в ответ. Скорее всего они не леди. Разве настоящие леди пригласили бы его на чай? Несомненно, это холодные и брюзгливые девицы. С каждым шагом в нем усиливалось чувство превосходства. Разве настоящая леди станет говорить об украденном зонтике? Быть может, они все-таки воровки, и, если бы он вошел в дом, сунули бы ему в лицо платок с хлороформом. Довольный собой, он дошел до здания парламента. Там его голодный желудок дал о себе знать, назвав дураком.
– Добрый вечер, мистер Баст.
– Добрый вечер, мистер Долтри.
– Приятного вечера.
– И вам того же.
Мистер Долтри, знакомый клерк, прошествовал далее, а Леонард остановился в раздумье, сесть ли ему на поезд и хоть немного проехать, заплатив один пенс, или идти пешком. Он решил идти пешком – не следует потакать своей слабости, к тому же он изрядно потратился на Куинс-Холл. И он перешел Вестминстерский мост, миновал больницу Святого Фомы, а потом двинулся по огромному тоннелю, проложенному под главной юго-западной линией в Воксхолле. В тоннеле он остановился и прислушался к грохоту поездов. Острая боль пронзила голову, и он ощутил точную форму своих глазниц. Не сбавляя скорости, он с трудом осилил еще одну милю и вышел в начало Камелия-роуд, где проживал в настоящее время.
Здесь он снова остановился и с осторожностью посмотрел по сторонам, точно кролик, готовый нырнуть в нору. С обеих сторон поднимались очень дешевые многоквартирные дома. Вниз по дороге возводились еще два здания, а за ними сносили старый дом, чтобы на его место втиснуть следующие два. Подобную картину можно было наблюдать по всему Лондону независимо от района – кирпичная кладка поднимается и рушится с неугомонностью воды в фонтане, по мере того как в город прибывают все новые и новые жители. Скоро Камелия-роуд, словно крепость, будет доминировать над окружающим пейзажем, хотя продлится это недолго. Совсем недолго. Уже есть планы возведения многоквартирных домов и на Магнолия-роуд. Но пройдет еще несколько лет и все дома на обеих улицах могут снова пойти под снос и новые здания невообразимого пока еще размера могут подняться на месте снесенных.
– Добрый вечер, мистер Баст.
– Добрый вечер, мистер Канингем.
– Это падение рождаемости в Манчестере – дело серьезное.
– Простите?
– Это падение рождаемости в Манчестере – дело серьезное, – повторил мистер Канингем, стуча пальцем по воскресной газете, в которой ему только что сообщили о столь бедственном положении.
– Ах да, – проговорил Леонард, который не собирался признаваться, что не купил воскресную газету. – Если ничего не изменится, к 1960 году население Англии перестанет расти.
– И не говорите!
– Дело, по-моему, весьма серьезное.
– Всего доброго, мистер Канингем.
– Всего доброго, мистер Баст.
Леонард вошел в блок «Б» своего дома и повернул не к лестнице, а вниз, в помещение, которое агенты по сдаче недвижимости называют цокольным этажом, а все остальные люди – подвалом. Открыв дверь, он с псевдодобродушием кокни крикнул: «Приве-е-ет!» Ответа не было. «Приве-е-ет!» – повторил он. Гостиная была пуста, хотя кто-то оставил включенным электричество. С выражением облегчения на лице Леонард уселся в кресло.
В гостиной, кроме кресла, было еще два стула, пианино, трехногий столик и угловой диванчик на двоих. Что касается стен, то одну занимало окно, а другую каминная полка, уставленная амурами. Напротив окна располагалась дверь, рядом с ней книжный шкаф, а над пианино висел, занимая немало места, один из шедевров Мод Гудмен. Это было не самое отталкивающее любовное гнездышко, особенно если задвинуть занавески, включить свет и не пользоваться газовой плитой, но при взгляде на него начинала негромко звучать нота, которую так часто распознаешь в современных жилищах, – нота временного пристанища. Обрести такой дом было так же легко, как и покинуть.
Скидывая ботинки, Леонард задел трехногий столик, и стоявшая на видном месте фотография в рамке соскользнула вбок, упала в камин и разбилась. Как-то невыразительно чертыхнувшись, он поднял фотографию. На ней была изображена молодая дама по имени Джеки. Снимок был сделан, когда молодые дамы по имени Джеки часто позировали с полуоткрытым ртом. Обе челюсти Джеки украшали длинные ряды ослепительно белых зубов, которые явно перетягивали ее голову на сторону, – столь огромными и многочисленными они были. Поверьте мне на слово: ее улыбка была просто ошеломляющая, – но проявлять чрезмерную разборчивость будем лишь вы да я, утверждая, что истинная радость таится у человека в глазах, а глаза Джеки никак не сочетались с ее улыбкой. Напротив, они были беспокойными и голодными.
Попытавшись вынуть из камина осколки, Леонард порезался и вновь помянул черта. На рамку капнула кровь, потом еще, и оставшаяся без стекла фотография оказалась испачканной. Теперь Леонард выругался с большим чувством и бросился на кухню, где сунул руки в воду. Кухня была такого же размера, что и гостиная, хотя она же была одновременно и спальней. Таков был его дом. Он снимал квартиру с мебелью: из всех предметов обстановки ему не принадлежал ни один за исключением фотографии в рамке, амуров и книг.
– Черт, черт, проклятье! – бормотал он, вставляя и другие подобные слова, слышанные от людей постарше. Потом поднес руку ко лбу и сказал: «Провались все к черту…», – но в этой фразе прозвучал уже совсем иной смысл. Взяв себя в руки, он выпил немного черного чая, сохранившегося, потому что его не заметили, на верхней полке, и проглотил несколько пыльных крошек кекса. Затем вернулся в гостиную, снова уселся в кресло и начал читать том Рёскина.
В семи милях к северу от Венеции…
Как совершенно начало его знаменитой главы! Как превосходна способность автора к назиданию и к поэзии! Богатый человек говорит с нами из своей гондолы.
В семи милях к северу от Венеции песчаные отмели, ближе к городу чуть поднимающиеся над отметкой самой низкой точки отлива, постепенно достигают более высокого уровня и, наконец, соединяются в поля соленых зыбунов, которые вырастают то здесь, то там в виде бесформенных кочек, пронизанные тонкими ручейками морской воды.
Леонард пытался создавать свой стиль, опираясь на Рёскина: для него это был величайший мастер английской прозы. Он упорно читал дальше, время от времени делая пометки.
Давайте немного остановимся на каждой из данных характеристик по порядку, и, во-первых (ибо о колоннах уже было сказано достаточно), на том, что весьма типично для этой церкви, – на ее освещенности.
Можно ли что-нибудь почерпнуть из этого великолепного предложения? Мог ли он использовать его для своих будничных нужд? Мог ли он ввести его с некоторыми изменениями в следующее письмо брату, чтецу из мирян англиканской церкви? Например:
Давай немного остановимся на каждой из данных характеристик по порядку, и, во-первых (ибо об отсутствии вентиляции уже было сказано достаточно), на том, что очень типично для этой квартиры – на ее сумеречности.
Что-то подсказывало ему, что такие изменения не годятся, и это что-то, если бы он догадался, был сам дух английской прозы. «Моя квартира темная и к тому же душная». Вот это подошло бы.
А голос в гондоле звучно и мелодично пел о Старании и Самопожертвовании, наполненный ощущением высшей цели, красоты, даже сочувствия и любви к человеку, однако каким-то образом избегая всего того, что было важным и неизбежным в жизни Леонарда. Потому что это был голос человека, который никогда не был голоден и грязен, а следовательно, и не понимал, что такое голод и грязь.
Леонард слушал его с благоговением. Он чувствовал, что приверженность голосу приносит ему пользу, что, если он не отступится от Рёскина, концертов в Куинс-Холле и некоторых картин Уоттса[12], настанет день, когда он вынырнет из серого омута и увидит мир. Он верил во внезапное преображение – идея, возможно, правильная и для незрелого сознания особенно привлекательная. Она образует основу популярнейшей религии: в сфере предпринимательства она доминирует на фондовой бирже, становясь той «чуточкой везения», которой объясняются все успехи и неудачи. «Была бы у меня хоть чуточка везения, все пошло бы как по маслу… У него роскошный дом в Стрэтеме[13] и «фиат» на двадцать лошадиных сил, но он, знаете ли, вообще везунчик… Простите, что жена опоздала, но ей вечно не везет – поезда уходят из-под носа». Леонард был выше таких людей: верил, что необходимо прилагать усилия и неуклонно подготавливать желаемые изменения, – но о культурном наследии, которому свойственно постепенно разрастаться, не имел ни малейшего представления: надеялся прийти к Культуре в одночасье, как возрожденцы надеются прийти к Христу. Эти сестрицы Шлегель пришли к ней, получили желаемое, овладели Культурой в полной мере – раз и навсегда. А у него между тем квартира темная и к тому же душная.
Через минуту на лестнице послышался шум. Леонард сунул визитную карточку Маргарет между страницами Рёскина и открыл дверь. Вошла женщина, о которой проще всего было бы сказать, что респектабельность ей не свойственна. Вид у нее был ошеломляющий. Казалось, она вся состоит из веревочек и шнурков – ленточек, цепочек, бус, которые звякали и запутывались, – да еще из небесно-голубых перьев боа, намотанного на шею, со свисающими неровными концами. На торчащей голой шее виднелись два ряда жемчужин, руки были обнажены по локоть, но сквозь дешевое кружево можно было разглядеть и плечи. Ее украшенная цветами шляпка напоминала покрытые фланелью корзинки для овощей, которые мы в детстве засевали горчицей и кресс-салатом, – семена кое-где прорастали, а кое-где нет. Шляпку женщина носила на затылке. Что касается волос, точнее сказать, отдельных прядей, то их описать непросто. Одна конфигурация располагалась сзади в виде толстой подушки, а другая, которой досталась менее сложная роль, обрамляла кудряшками лоб. Лицо – лицо не имеет значения. Оно было то же, что и на фотографии, но выглядело старше, а зубы не были столь многочисленными, как предположил фотограф, и уж точно не такими белыми. Да, Джеки миновала пору своего расцвета, каким бы ни был этот расцвет. Быстрее, чем большинство женщин, она приближалась к бесцветному периоду своей жизни, что подтверждал и ее взгляд.
– Хо-хо! – воодушевленно приветствовал это существо Леонард, помогая ему снять боа.
– Хо-хо! – ответила Джеки хриплым голосом.
– Уходила? – спросил он.
Вопрос мог бы показаться излишним, но таковым не был, потому что дама ответила:
– Нет, – а потом добавила: – Ох как я устала.
– Ты устала?
– А?
– Я устал, – сказал Леонард, вешая боа.
– О, Лен, я так устала.
– Я ходил на тот концерт классической музыки, о котором тебе говорил, – сказал он.
– Что-что?
– Я вернулся, как только он закончился.
– Кто-нибудь к нам заходил? – спросила Джеки.
– Я никого не видел. На улице я встретил мистера Канингема, и мы перекинулись парой фраз.
– Что? Ты про мистера Канингема?
– Да.
– А-а! Ты хочешь сказать, мистер Канингем?
– Да, мистер Канингем.
– Я зашла на чашечку чая к одной знакомой.
Наконец открыв миру свой секрет и даже намекнув на имя знакомой дамы, Джеки не стала более упражняться в столь трудном и утомительном искусстве разговора. Она никогда не отличалась умением вести беседу. Даже в те дни, когда был сделан снимок, она полагалась на свою улыбку и фигуру, чтобы привлечь внимание окружающих. Теперь же, когда ее образ располагался «на полочке, на полочке, ребята, я на полочке», едва ли ей удалось бы овладеть красноречием. Временами с ее губ еще срывались обрывки песенки (примером которых могут служить приведенные выше строчки), но слова, употребляемые с целью разговора, были редкостью.
Усевшись на колени к Леонарду, Джеки начала его ласкать. Теперь она была крупной женщиной тридцати трех лет, и Леонарду было тяжело ее держать, однако язык не поворачивался признаться.
– Это ты книжку читаешь? – спросила она.
И он ответил:
– Да, это книжка.
Он резко отвел книгу в сторону, чтобы избежать ее цепкой хватки, и на пол вывалилась визитная карточка Маргарет. Она упала надписью вниз, и Леонард пробормотал:
– Закладка.
– Лен…
– Что такое? – спросил он слегка утомленно, поскольку, когда Джеки сидела у него на коленях, у нее была только одна тема для разговора.
– Ты правда меня любишь?
– Джеки, ты прекрасно знаешь, что люблю. Как ты можешь об этом спрашивать?
– Ну, ты правда меня любишь, Лен, да?
– Конечно, люблю.
Пауза. Он уже знал, какая будет следующая фраза.
– Лен…
– Ну что еще?
– Лен, ты все сделаешь как положено?
– Я больше не могу это слышать! – воскликнул юноша, наконец выйдя из себя. – Я пообещал, что женюсь, когда стану совершеннолетним, – и хватит об этом. Я дал тебе слово. Как только мне исполнится двадцать один год – женюсь. И не о чем сейчас беспокоиться. У меня и так хватает поводов для беспокойства. Разве похоже, что я собираюсь тебя бросить или изменить своему слову, когда я уже потратил столько денег? Кроме того, я англичанин и всегда выполняю обещания. Будь умницей, Джеки. Конечно, я женюсь на тебе. Только перестань мне надоедать.
– Когда у тебя день рождения, Лен?
– Я тебе уже сто раз говорил: одиннадцатого ноября следующего года. А теперь слезь-ка с моих колен. Наверное, кому-то надо приготовить ужин.
Джеки отправилась в спальню и занялась своей шляпкой, то есть начала резко и коротко на нее дуть. Прибрав в гостиной, Леонард принялся готовить ужин. Он опустил пенс в прорезь газового счетчика, и вскоре квартиру наполнил металлический запах дыма. Ему никак не удавалось обрести душевное спокойствие, и все время, пока готовил, он беспрестанно жаловался с горечью в голосе:
– Очень плохо, когда человеку не верят. От этого только злишься. А я ведь перед всеми делаю вид, что ты моя жена – ну хорошо, хорошо, ты будешь моей женой, – и я купил тебе колечко и снял меблированную квартиру, а это стоит гораздо больше, чем я могу себе позволить, а ты все недовольна, и я скрываю правду, когда пишу домой. – Леонард заговорил тише. – Он бы положил этому конец. – Голосом, полным ужаса, который прозвучал, пожалуй, слишком, театрально, он повторил: – Мой брат положил бы этому конец. Я иду против всех, Джеки. Да, я такой. Меня не заботит мнение окружающих. Я не ищу легких путей, не ищу! И так было всегда. Я не какой-то слабак. Если женщина в беде, я ее не покину. Не в моих это правилах. Благодарим покорно. Но я хочу тебе сказать кое-что еще. Для меня очень важно самосовершенствование посредством Литературы и Искусства, которое расширяет мировоззрение. К примеру, когда ты вошла, я читал «Камни Венеции» Рёскина. Говорю это не с целью похвастаться, но чтобы показать тебе, каков я человек. Могу добавить, что мне очень понравился концерт классической музыки, который я сегодня посетил.
Ко всякому настроению Леонарда Джеки была равно безразлична. Когда ужин был готов – но не раньше, – она вышла из спальни со словами:
– Но ты же меня любишь, правда?
Они начали ужин с супового кубика, который Леонард только что растворил в горячей воде. За супом последовал язык – усеянное пятнышками мясо цилиндрической формы, чуть покрытое желе сверху, но зато с большим количеством желтого жира внизу, – и в завершении трапезы был съеден еще один растворенный в воде кубик (ананасового желе), который Леонард приготовил раньше. Джеки ела, в общем, с удовольствием, время от времени поглядывая на своего мужчину беспокойными глазами, которым ничто в ее внешности не соответствовало и в которых, однако, отражалась ее душа. Леонарду удалось убедить свой желудок, что ему досталась питательная еда.
После ужина они выкурили по сигарете и обменялись несколькими соображениями. Джеки заметила, что «портрет» был разбит, а Леонард нашел случай ввернуть, уже во второй раз, что после концерта в Куинс-Холле он сразу пошел домой. Вскоре она снова уселась к нему на колени. Как раз на уровне их голов за окном взад-вперед топали жители Камелия-роуд, а семья в квартире на первом этаже начала петь: «Внемли, душа! Грядет Господь».
– Это пение меня слишком угнетает, – сказал Леонард.
Джеки, решив на этот раз поддержать беседу, сообщила, что ей мелодия нравится.
– Нет, я сыграю тебе что-нибудь получше. Ну-ка, дорогая, поднимись на минутку.
Он подошел к пианино и пробренчал пьеску Грига. Леонард играл плохо и вульгарно, но представление прошло не без последствий, ибо Джеки сказала, что ей, пожалуй, пора в постель. Когда она удалилась, юноша мысленно обратился к другим предметам, задумавшись о том, что говорила о музыке эта странная мисс Шлегель – та, что так гримасничала во время разговора. Со временем в его мысли прокрались зависть и грусть. Там, в Куинс-Холле, была девушка по имени Хелен, утащившая его зонтик, молодая немка, которая мило ему улыбнулась, герр такой-то, тетушка такая-то и еще брат – все те, чьи руки держат в руках этот мир. Все они поднялись по той узкой, богато украшенной лестнице в доме на Уикем-плейс и расположились в какой-нибудь просторной комнате наверху, в которую ему никогда не войти, даже если бы он читал книги по десять часов в день. Все его постоянные старания тщетны. Некоторые рождаются, принадлежа образованному классу, а остальным лучше заняться тем, что проще. Уверенно смотреть на жизнь и видеть ее целиком – удел не таких, как он.
Из темноты за кухней послышался голос:
– Лен?
– Ты легла? – наморщив лоб, спросил он.
– Угу.
– Хорошо.
Вскоре она позвала его снова.
– Мне хочется дочитать главу.
– Что?
Леонард заткнул уши, чтобы ее не слышать.
– Что такое?
– Хорошо, Джеки, ничего такого. Я книгу читаю.
– Что?
– Что? – переспросил он, подражая ее усилившейся глухоте.
Вскоре она позвала его снова.
Рёскин к этому времени уже посетил Торчелло и велел своим гондольерам отвезти его в Мурано[14]. Скользя по шепчущим водам лагуны, он размышлял о том, что мощь Природы не может уменьшиться из-за глупости, а красота ее не может увянуть из-за нищеты таких людей, как Леонард.
12
Уоттс, Джордж Фредерик (1817–1904) – английский художник-символист и скульптор Викторианской эпохи.
13
Южный район Лондона.
14
Торчелло и Мурано – острова Венецианской лагуны.