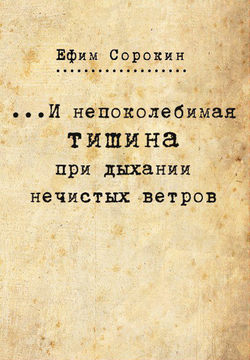Читать книгу …И непоколебимая тишина при дыхании нечистых ветров - Ефим Сорокин - Страница 2
1
Оглавление…что может быть лучше плохой погоды?
Дождь закончился – после него яснее не стало. За окнами библиотеки – чистый гарнизон: охра домов, жёлтые берёзы вдоль улицы, побелённые поребрики. Осенняя чистота различных оттенков жёлтого… Ещё середина августа, а я уже вернулся. Гарнизон кажется пустым, потому что из одноклассников мало кто приехал. У бабушек и дедушек проводят последние дни последних летних каникул в своей жизни. И Надя ещё не вернулась… Сижу в библиотеке гарнизонного Дома офицеров, конспектирую книгу «Государственность и анархия» Михаила Бакунина. Уютно, мягко поблескивают паркетные полы, мягко поблескивают мясистые листья фикуса. Бархатными шагами по зелёной ковровой дорожке проходит мимо библиотекарша, удивляется на меня. Ещё бы ей не удивляться!.. Школьник на каникулах Карла Маркса конспектирует!.. а я не Карла Маркса конспектирую, а Михаила Бакунина, которого Карл Маркс законспектировал. Кстати, довольно подробно. Из ненависти, наверное. Что-то должно быть здесь у Михаила Бакунина, какое-то зёрнышко, которое потом прорастёт и расцветёт в героях-звездолётчиках Ивана Ефремова, раз уж олигархи с планеты Ян-Ях назовут гармоничных людей далёкого будущего Земли анархистами. В кинофильмах про революцию анархистов высмеивают. Понятное дело, режиссёры и сценаристы перед властью выслуживаются. Так тогда думалось, суетно и кичливо… Крышки у столов с зелёным сукном. Столы на одного человека, чтобы никто не мешал изучать классиков марксизма-ленинизма. Конспектирую по всем правилам, как Галина Парамоновна учила. Поля красным карандашом отчеркнул, поля широкие, чтобы свои мысли записывать по поводу. Своих мыслей пока нет.
Есть, конечно, но не по поводу и… отнюдь не существенные. Зерно, которое дало бы росток и плод в людях будущего, тоже пока не находилось, но… вот эту фразу надо бы запомнить!.. Что за память?.. пока на бумажке не напишу, ничего не запоминается!.. Поискал в карманах клочок бумаги. На обороте старой квитанции за электроэнергию написал: «Мнимо народное государство, задуманное господином Марксом, управляется интеллигентным, а потому привилегированным меньшинством, которое якобы знает нужды народа лучше, нежели сам народ». В слове «интеллигентный», Марина, я сделал две ошибки, а в слове «привилегированный» – четыре. Цитату эту решил озвучить на уроке обществоведения. Вот уж Галина Парамоновна удивится!.. Ещё надо будет сделать вид, что знаешь намного больше, чем говоришь. Понятно, Галина Парамоновна найдёт слова, чтобы сократить моё… моё – что?.. Девушка вышла из хлебного магазина…
В то лето ты, Марина, вернулась в гарнизон раньше обычного. Когда переходила блестящую чистотой улицу, мне подумалось, что твой отец, дядя Володя, похож на Михаила Бакунина, только без бороды. Уже проступили золочёные небеса, и на глаз в мире стало теплее. Оранжево заполыхали рябиновые гроздья. Небеса славу Божию для меня тогда не ведали, ничего не возвещали, Творца в красоте мира не видел, но Солнце из-за облаков вышло – красиво! Какой блеск от него!.. а маленькая звезда по масштабам Вселенной… плюс-минус бесконечность!.. таких звёздочек, как наше солнце, пруд пруди, и все они разлетаются в разные стороны, подчиняясь закону бесцельного случая, который их и породил… Имел тогда такой образ мысли (чужой, кстати) и не догадывался, что мысли эти отличались пустотой… «Марина приехала…» Перечитал записанную на клочке бумаги фразу Михаила Бакунина о мнимо народном государстве, чтобы при случае блеснуть перед тобой и – к тебе, Катунина – 5, первый подъезд, первый этаж, прямо, квартира – 2. Родители наши дружили семьями, и я мог запросто заходить к вам. Тебя, смею предположить, посмешили мои прямостоящие волосы в густой шевелюре и присно назревающий на моём носу прыщ. Твои чёрные глаза и тонкие брови откликнулись довольно приветливо на моё появление.
Мы пошли на озеро.
* * *
Ты сидела на носу лодки, и нетёплое солнце светило тебе в лицо. Один из предпоследних дней северного лета клонился к вечеру. Солнечно, но никак не согреться. Я сидел напротив тебя, наискосок. Лодка чуть покачивалась на цепной привязи, цепь железно шевелилась на её дне. От солнечных лучей ты казалась чуть расплывчатой. Невысыхающие доски мостка, к которому мы были прицеплены, блестели холодным золотом. Наверху желтеющего косогора прочно стояли три крашенных охрой четырёхэтажных дома с подвалами-бомбоубежищами. Внизу косогора, за спиной у тебя, – домик священника, окружённый зарослями шиповника вместо изгороди, а вокруг него – прибрежный лесок в благородных тонах – винно-красных, рубиновых, шафрановых, и всё это богатство красок покрыто тончайшим золотым налётом. Деревья были прекрасны для зрения. Горело золотое пятно на столбе, подпирающем конёк над крыльцом. На гвозде висел сиреневый веник засушенных трав. Между окнами росли рябины. Через засыхающие грязно-малиновые листья явственно проступали оранжевые гроздья. Когда оборачивался, бил в глаза блеск озера. Белый дым клубился над деревенскими домами. За деревней – жёлто-красно-зелёная гряда леса, а над нами – поразительно голубое небо. Сперва мы вперебивку рассказывали друг другу каникулярные новости – чуть позже рядом с домом священника и разговор пошёл на соответствующую тему.
– …столетиями заграждали людям путь к знаниям! Столетиями лошадь к телеге прилаживали! Ты только подумай!.. в наше время, в конце двадцатого века, кому-то надо доказывать, что Бога нет! Ежу понятно, что без знаний человек несовершенен. Надо в книгу пальчик тыкать, а не молитвы читать!.. а то так и будешь на телеге!.. да!.. Наука перестраивает человека к лучшему, облагораживает его, уж точно изгоняет из сознания мрак незнания. Лётчик за штурвалом самолёта, моряк за штурвалом корабля… я уж про космонавтов не говорю!.. Ну, не похожи они на кучера!
Ты, Марина, соглашалась со мной ко вреду нашего спасения, а я довольный твоим согласием продолжал глухим голосом изрекать из своего ущербного сердца свои закруглённые мысли.
– …если хочешь быть совершенным человеком, займись наукой!.. знания у нас-де не добрые, а злые. Так будь добрым, и знания будут у тебя добрыми. Ты – не «паки и паки», а переделай этот мир!.. чтобы не было в нём зла, чтобы человеческих пороков не было!.. переделай!.. чтобы главенствовали в человеческих отношениях правда и… ну, любовь, что ли… – При слове «любовь» я немного смутился, а ты, Марина, улыбнулась (тем и поддержала меня). – Тут сердце рвётся сделать что-нибудь хорошее!.. не знаю, что именно, но хочется!.. Если бы Бог был, Он бы непременно наказал всех верующих за пренебрежение к наукам! – уверенно заявил я. – Только безумный человек не видит в знании пользы… Электричество!.. да говорить не хочется!.. Термоядерная реакция… не жалко жизни потратить!.. а то – страх Божий!.. Да не боимся мы никакого Бога!
Ты, Марина, мягко возразила:
– Я слышала, что страх Божий – это не страх перед Богом… он как-то в любовь преображается… – И заметив, наверное, что глаза мои от возмущения выходят из орбит, поспешно добавила: – У них…
– Любовь к чему?.. к Богу?.. человек должен человека любить, – добавил я и засмущался, а чтобы ты моего смущения не заметила, добавил: – Животных любить, флору. – Наверное, от моего задранного подбородка тебе, Марина, сделалось смешно. Из деликатности ты пыталась не засмеяться, но щёки твои надувались и надувались, и ты, не выдержав, прыснула. Я, понятно, немного обиделся на твою добродушную попытку скрыть свой смех, даже обнаружил в себе внутренний гнев и загорячился: – Любовь к Богу – это что-то сродни любви к коммунистической партии. Даже Галина Парамоновна не знает точно, что это такое. – В те времена сказанное мною было бесшабашной дерзостью. Меня самого мои слова восхитили. Было приятно, что ты заулыбалась шутке. Помнится, говорил ещё про греческих поэтов, которые мало чем отличались от верующих в Бога.
– …Платон всяким там богам молился, – делился я информацией, почерпнутой из журнала «Наука и религия». – Не верили в себя, не верили в человека. Гомер просил какую-то богиню, чтобы она помогла ему про Одиссея написать. Он бы и без богини написал!.. но тоже, получается, в себя не верил. Гордились даже, что им боги помогают. Найдут же люди, чем гордиться! – суесловил я по своему разумению. Не мог тогда помыслить выше того, что видимо. Все вокруг жили тогда только по плоти. Понятно, не все, но те, кто жил не по плоти, были мало заметны. Зловония от своих слов я, понятно, не чувствовал. – Единственное, в чём соглашусь с верующими… не хочется переходить в число неодушевлённых предметов, но даже у Ивана Ефремова… – Я намеревался уже перенести тебя в мир любимого писателя-фантаста, как заметил, что ты из-под козырька ладони смотришь мимо меня, и оглянулся.
Из солнечного сияния, отделившись от водных бликов, выплыла лодка. Сверкнули падающие с поднятых вёсел капли. Кряхтя, вылез на мостки дедушка. Старенький пиджак висел на его худых плечах точно на спинке стула. Пуговица на вороте рубашки застёгнута. Рубашка застирана до ветхости, до потери цвета и какого-то допотопного покроя. Почему-то представлялись на нём и подрясник, и скуфья, и серебряный крест на груди. Перед нами стоял священник, высокий, но весь какой-то переломанный, как Максим Горький, только с бородой. Улыбки на лице старца не было, но всё равно на нём – радость. Во всех движениях старца жила радость, будто он только что узнал что-то хорошее, даже цепь в его руках весело позвякивала, когда он лодку привязывал. Ещё я обратил внимание на безотчётное движение пальцев его левой руки, будто он перебирал зёрна невидимых чёток.
– С праздником!
Я усмехнулся, усмешкой давая понять, что мы его праздников не придерживаемся, а ты спросила:
– С каким? – и на старца посмотрела с таким интересом, что твой взгляд обидел меня.
– Шестое августа по-старому – Преображение Господне…
На меня, Марина, ты смотрела, как на равного, а на старца смотрела так, будто он был существом иного порядка, будто он прилетел с другой планеты и был представителем цивилизации, которая достигла более высоких ступеней развития, чем мы, земляне.
– Однажды, когда Бог скрывался под покровом человеческой плоти, Он взял с Собой трёх учеников и поднялся с ними на гору помолиться, – заговорил старец, присаживаясь на мостки, не замечая их влажности. Его ноги в резиновых сапогах коснулись горящей воды. – Сияние Его ещё было скрыто для людей. Он и ученики Его только ещё поднимались на гору. Совсем скоро Он откроется им, Какой Он и Каким останется в бесконечном будущем. В таком же сиянии воссядет Он одесную Бога-Отца…
Я снова усмехнулся натянуто, а ты, Марина, насупила в мою сторону свои живые брови, а старец продолжил, обращаясь к чистым глазам твоего сердца:
– Он преобразился… преобразился в сознании трёх избранных учеников, у которых в то время сердца были чище, чем у других. Из духовных слепцов Христос сделал их зрячими. Несказанный, неизреченный, нетварный Свет хлынул сквозь человеческое Тело Господа, озаряя чистые сердечные очи учеников, в которые Христос вложил Свою силу. Дивились, не понимали и дивились! Божество Его явило свои лучи в небывалом блеске…
Я, Марина, хотел прервать попа твёрдым словом, но слова (и твёрдые, и нетвёрдые) улетучились из головы, и приневоливающая сила не разрешала заговорить, и я оставался при своей внутренней горячности. Ещё успел поймать себя на том, что смотреть в глаза старцу не мог, будто был виноват перед ним, а твои глаза, Марина, устремились к нему, и лицо твоё устремилось к нему. Запомнил тебя фотографически.
– …ни люди, ни скот не могли видеть этого нечувственного Света. Для людей, живущих вне благодати, продолжался будничный день. Город неподалёку не увидел несказанного Света, а ученики видели, но не чувственной силой. Они видели Царствие Небесное и себя в нём, видели себя очами Духа Святаго. Не могли они пока знать, что предстоит им дорастать до Христа, но не как рождённым от Бога, а как сотворённым. Уразумели, что Свет, который показал им Господь, выше всего, и человек может с ним единиться. Не только избранные из апостолов, не только в те времена, но и во все времена люди будут обладать способностью духовного созерцания. Ещё здесь, на земле! А в будущем веке, после смерти, всех верных озарит Его сияние, и мы вкусим этого Света. И будем вкушать его, пока не дорастём до Христа как сотворённые. Вот замысел Бога о человеке! Вот какой праздник мы сегодня празднуем.
Признаюсь, слова старца смутно тронули и меня. Да и слова, что он произносил, будто не его были, сами по себе убеждали нас в собственной значимости. Под плеск мелкой озёрной волны старец говорил тихо, и приходилось прислушиваться.
– …в наше время люди уже превратились в животные организмы, для которых духовная жизнь непосильна. Те, кто пытается напомнить людям, что мы сотворены по образу и подобию Божьему, встречаются в лучшем случае с нежеланием слушать. Не надо забывать, что уже здесь наши души способны вмещать Дух Святый, Которым мы можем видеть Свет благодати, а в будущем веке он будет озарять нас, и не будет нужды ни в солнечном свете, ни в воздухе, ни в его благорастворении. – Последними словами старец оросил то, что попытался насадить в наших запущенных сердцах. По глупости своей я попытался возразить священнику, но он давно привык к противодействию непонимающих его и без труда посрамил меня. Это было не трудно, ибо мысли в моей голове водились только круглые и закруглённые. Я демонстративно стал поглядывать на часы, как бы намекая священнику, что ему пора закругляться. Часы у меня большие, плоские, круглые, по последней моде. Секундная стрелка дёргалась. Старец вздохнул, глядя на мои часы. Намёк мой он понял, а мне стало стыдно за свой и всё же чужой, не свойственный мне поступок. Старец вынул ноги из горящего озера.
– Не допускают вас к учению Духа, и вы не можете познавать Его, довольствуетесь одними человеческими мыслями.
Старец, Марина, говорил дольше, может быть, другими словами, но суть сказанного им, думаю, мне удалось припомнить и передать. Мы, Марина, впервые в своей жизни услышали в тот день слова о несказанном Свете. Цельноблистательный диск закатывался за лес на другом берегу озера. Ты, наверное, улыбнёшься, но расположение к тебе старца и твоё ответное расположение к нему тогда меня неприятно задело. По этому поводу мною владело огорчение.
От озера мы поднимались крутым косогором.
– Как хорошо он говорил о человеке!
– О человеке?.. что он знает о человеке?!. да он – фашист!
– Фашист? – ты остановилась и, посмотрев мне в глаза, сдвинула брови к переносице.
– Он при немцах служил! – сказал я, хотя точно не знал. Слышал от кого-то, что при немцах на оккупированной территории многие попы служили, вот и держал подозрительные мысли на старца. От слов своих хотелось отказаться, но духу не хватило. Мне было обидно, что старец как бы объединил себя и тебя, а меня оставил за чертой невидимого круга. Старец как бы отделил тебя от мира, в котором жил я, и приподнял над ним. Я чувствовал себя гадко, будто всех одноклассников взяли в армию, а меня забраковали на медицинской комиссии. Чесался на носу прыщ. Сверху накрыл гул. За нашими спинами, над озером, шёл на посадку ракетоносец. Мимовольно я кинул словесный камень в старца:
– Исусик!.. Исусик на тонких ножках!.. а сам фашистам прислуживал!..
* * *
Первые неприсутственные дни сентября посвятил грибной охоте. Ходил в лес в хорошем настроении, даже в очень хорошем настроении. Хотелось написать песню, но не приходили слова, а только жила внутри очень даже интересная мелодия, в которую и надо было вставить эти самые слова, которые не приходили на сердце. Вдохновляющая мою тогдашнюю жизнь мечта ещё не потеряла своей прелести. Ожидались слова о свободных людях будущего, о которых фантастической прозой писал Иван Ефремов и которых олигархи с планеты Ян-Ях называли анархистами. Упоённый духом этой мечты и пытался сложить стих, но – увы!.. Однако шибко не огорчался, что мечта не хотела принимать стихотворную форму. Пружинисто шагал к Вологодскому шоссе, сбивая сапогами старые большие сыроежки. За дорогой – у меня свои грибные места. Шёл и наслаждался осенним лесным миром, удовлетворённо помаргивая на неброскую красоту. Одно только огорчало: всё, что я видел, давным-давно было описано классиками литературы. И берёзка, роняющая жёлтый лист; и росинки, сверкающие в траве… видимые солнечные лучи в чащобе – ничего нового, чего бы уже не описали писатели и поэты, но всё равно приятно было смотреть на осень. Осинка опять же дрожала, листья её трепетали – и это описано!.. Вот и Вологодское шоссе. Перехожу не спеша, потому что шоссе почти всегда пустынно. Поднимаюсь на поросшую лесом сопку. За шоссе лес не такой болотистый, как до него. Запах прелой листвы тоже уже описан. Ну, хоть бы что-нибудь новое унюхать!.. Ну, ничего! Подъём крут, дышится тяжело… За Вологодским шоссе грибы посолиднее: и подосиновики попадаются (естественно, не под осинами), и подберёзовики (естественно, не под берёзами). Легкомысленный ум возвращается к мечте о гармоничном человеке будущего. Помаргивая, продолжаю любоваться осенним лесом… Ещё не понимаю бессмысленности человеческого счастья без упоминания о вечности. Мне только семнадцать… уже семнадцать по тогдашнему измерению… Когда-то здесь проводили масштабные учения танкисты с Лесной Речки и оставили после себя много окопов, в которых маскировали танки. Склоны поросли кустарником и деревцами, в которых жили грибы. Вот он! И листик на шляпке – уже сто раз описан этот листик на шляпке; в детских садах, на шкафчиках, рисуют этот тендем… Облазил искусственный овражек и пошёл к следующему. Зарядил дождь – пурпур и золото вокруг исчезли, их заменил блеск (и это уже описано). Острее запахло прелой листвой. Круги в болотцах от дождевых капель (и они уже описаны). Охочусь за грибами, а думаю об Иване Ефремове и Михаиле Бакунине. Лукавый без труда уловляет ум в суетное, исполненное лести. Ни одной собственной мысли!.. придут и свои!.. хотя могут и не придти!.. вот беда-то будет!.. бездарность!.. честолюбивое ничтожество!.. Гайдар в шестнадцать лет полком командовал!.. Палые листья в болотцах собираются в островки (наверное, и это кем-то описано). Узнаю деревья. Вон за той перекрученной сосной будет ещё один огромный окоп, в котором когда-то стоял замаскированный танк. Окоп этот необычный, в нём – землянка, а в землянке – ниша, а в ней – небольшая, сложенная из кирпичей печка. Тревожно застучал дятел. Кинорежиссёры детективных фильмов любят этот звук. После него случается что-нибудь неожиданное. Может, и не дятел породил этот звук, а прерывисто затрещал на ветру сухостой. Дождь усилился. Я решил укрыться в землянке. Тут гриб выскочил прямо ко мне под ноги. Хотел было нагнуться к нему, но уловил горьковатый запах в воздухе. Из проржавевшей трубы шёл дымок. Вход в землянку скрывался куском выцветшего брезента. Трава и палая листва у порожка истоптаны. Миг-другой был во власти нерешительности, но дождь усиливался. Не выгонят в дождь-то!.. Решительно направился к землянке. Поднял брезентовый полог, и умоневмещающая картина предстала перед глазами. Я был почти ослеплён. Передо мной – всё такое лёгкое, из света сотканное, того и гляди развеется. Люди из свечного света безмолвно переговаривались взглядами, наверное, спрашивая друг у друга, как со мной быть. Понятно, держали на меня подозрительные мысли. Два священника в блестящих (в свете свечей) облачениях, женщина у аналоя с книгами, три бабушки. Лица немного растерянные, на губах – полуулыбка. Под их взглядами почувствовал себя нескладным. «Грибы я тут собираю – зашёл дождь переждать», – хотелось мне сказать. Узнал, Марина, пожилого священника, который на Преображение проповедь нам читал у озера. Я сдвинул капюшон и перекрестился с намерением показать, что я… свой я, свой… не то чтобы я снисхожу до них… да у меня две бабушки (и по отцу, и по матери) в Бога верят, да!.. Так или приблизительно так думал я тогда. Косые недоверчивые взгляды исчезли. Я пытался улыбнуться, а улыбкой сказать: «Я тоже в Бога верю». Когда к бабане с деданей на каникулы приезжаю, обязательно причащусь, да… Поп, что помоложе, стал поправлять фитили в лампадах. Бревенчатый потолок исполнен большими каплями. Мне в голову мысли всякие полезли. Может, секта какая?!. Как та, про которую в прошлом году Галина Парамоновна фильм в кабинете физики показывала? И – страшок!.. Старец широкой блестящей закладкой заложил страницу в толстенной книге и дал возглас. Запели… Слова вроде бы русские, но малопонятные, старинные, блестят и сами свет излучают. Будто в каждом слове – источник света. Почему в землянке-то служат?.. Лампадка дрогнула от упавшей с потолка блестящей капли. Я перекрестился ещё раз (дескать, свой я, свой), хотя никто на меня не смотрел, и вышел. Сперва шёл медленно, думал, что за мной наблюдают, даже гриб срезал, который оставил, учуяв дымный запах. После гриба шаг заметно прибавил. От этих сектантов всего можно ожидать. Убьют и сунут вон под болотную кочку!.. и не найдут никогда!.. Побежал и заплутался. Плутал, плутал, матерился, хотел уже на дерево забраться, чтобы глянуть окрест. Выбрал сосёнку повыше, сапоги стянул и тут услышал железный перестук колёс совсем рядом… Шёл по железной дороге мимо ярко-красных пылающих осин…
Из леса – сразу к тебе. Ты дома. Корзину с грибами потерял, пока в лесу плутал. Сбивчиво объяснял тебе, что со мной произошло до того места, как пустился наутёк. Ощущение лесной паутины в ушах, в глазах, в носу…
– … я как бы пообещал никому ничего не рассказывать. Словами не говорил, а пообещал как бы – ну, всем своим видом!.. Я не могу не рассказать тебе, потому что это ещё не всё!.. Марина, выслушай внимательно и не улыбайся. Мне показалось, что я попал в какую-то временную петлю… – Я не сказал тебе: «Если бы мне приклеить бороду, то я стал бы похож на того священника, что помоложе…» А сказал: – Псаломщица на тебя была похожа, только постарше. Сразу об этом подумал, как её увидел. – К лицу моему будто прилипла паутина, и я то и дело пытался убрать её рукой.
– Женя, не выдумывай… – Ты не верила мне. Как же мне тебе?.. и я ещё – про какую-то временную петлю!.. хорошо про приклеенную бороду ничего не сказал!
– Добрые у них лица и глаза добрые… Не как у тех из фильма, что Галина Парамоновна в кабинете физики показывала… Давай сходим на то место?.. Даже если они всё приберут за собой, что-то всё равно останется!.. может, иконка какая-нибудь… может, ты боишься со мной идти?.. конечно, можно было бы и ребят с собой позвать, но… у Игоря мать в политотделе работает… Саню Гуленкова?.. Галина Парамоновна – парторг школы… у Коли отец замполит, а у Юрки – вообще начальник политотдела гарнизона… Я не к тому, что они нарочно родителям расскажут, а так… между делом проболтаются на кухне, а тут надо… Вдруг они никакие не сектанты? Могут пострадать от огласки, всё это отзовётся для них вредными последствиями, а с другой стороны… Почему они в землянке служат, когда в храмах служить разрешено?.. Ребята не расскажут, я им как самому себе доверяю, но… слетит с языка!.. а у тебя бабушка в Талице старостой храма служила… Нет, если тебе со мной страшно… Я не смалодушничаю при печальных обстоятельствах!
– Нет, Женя, мне с тобой не страшно будет. – Успокаивая меня, ты дотронулась кончиками пальцев до моей ладони, а вокруг всё зацвело: и осенний лес за окном, и белые цветы на тюлевой занавеске. Настольная лампа, полусферой отражателя похожая на инопланетную летающую тарелку, казалось, вот-вот взлетит от радости. – Я пойду с тобой, только объясни – зачем?
– Как зачем? – я немного растерялся. – Ну… – словами не мог выразить, почему хочу вернуться на то место, где катакомбно служили Литургию. Может быть, подспудно чувствовал, что сами-то живём вне Божьей благодати, но таким образом стал думать много позже, а тогда вертелось в голове что-то вроде: могут оказаться и шпионами. Гайдаровская тема ещё жила в сердце. Враг умён и опасен… их надо обезвредить… Хорошо ещё хватило ума сказать тебе: – Если я туда не вернусь, мне через год казаться будет, что я всё это придумал.
Ты пожалела меня и сказала:
– Конечно, сходим… только как Надя на это посмотрит? – бровь твоя вопросительно изогнулась.
– Ей тоже нельзя говорить об этом – подружкам разболтает, – отвечал я, довольный твоим согласием, ликующий и благодарный. С танцплощадки, что за Домом офицеров, доносился стук, треск и грохот: малышня, играя в футбол, лупила мячом по рейкам ограды.
Из стопки пахнущих типографской краской книг на твоём столе я выудил учебник обществоведения, полистал и стал делать вид, что читаю:
– «Мнимо народное государство, задуманное господином Марксом, управляется интеллигентным, а потому привилегированным меньшинством, которое якобы знает интересы народа лучше, нежели сам народ…»
– Что?.. там так написано?..
– Да.
– Не может быть!.. выдумываешь…
– Вот. – Я хлопнул ладонью по странице учебника.
– Где?
– Вот.
– Да где? – Ты взяла у меня учебник. – Где? Я не могу найти…
– Да кто же такое в учебнике напечатает? Это Михаил Бакунин «Государственность и анархия»! – со знанием дела сказал я. Слова мои отнюдь не были исполнены скромности. Ты улыбнулась. Я имел попечение рассмешить тебя и был собой вполне доволен. Ты, наверное, подумала, что я знаю намного больше того, что произнёс. Малышня на танцплощадке звонко радовалась забитому голу.
* * *
Что-то увиденное за окном кабинета истории так расстроило Галину Парамоновну, что она прекратила объяснение урока. Опустила очки «без оправы» на кончик носа и поверх стёкол смотрела на то, что её неприятно заинтересовало. Разговаривать на уроке у Галины Парамоновны и в голову никому не приходило. Все ждали. Время шло, а Галина Парамоновна от окна не отходила. Все ученики первого ряда вытянули шеи и повернули головы в направлении взгляда Галины Парамоновны. И со среднего ряда привстали, чтобы посмотреть, на что смотрит учительница. И с третьего ряда встали, чтобы глянуть. Ничего необычного за стенами школы не происходило. Пронизанный тонким шафрановым цветом гарнизон казался безлюдным, даже площадь перед Домом офицеров была пуста. Оставалось непонятным, куда Галина Парамоновна смотрит и почему лицо её печалится. Учительница будто не замечала, что все поднялись со своих мест. Казалось, даже Карл Маркс с масляного портрета пытается посмотреть туда, куда смотрит Галина Парамоновна. Фридрих Энгельс был нарисован так, что смотрел в противоположную от окна сторону, но казалось, что и ему очень хочется повернуть голову и посмотреть по направлению взгляда Галины Парамоновны.
Учительница представила нам пример для вразумления.
– Одни выходят из школы с большим багажом знаний, поступают в столичные вузы, а другие… отсидел по два года в каждом классе… – И все увидели в болотистом бесприютном лесочке перед школой прыгающего с кочки на кочку Кольку Мячина. Не то чтобы Галина Парамоновна без милости была строга – жалела его, но и не без взыскательности. – На той неделе ему – в армию. В учебной части его спросят: «Мячин, где ты учился?» Сейчас техника такая сложная на вооружении, десяти классов мало.
Окна школы задрожали от идущего на посадку ракетоносца.
* * *
Прежде чем приступить к описанию нашего похода за Вологодское шоссе, ещё одно воспоминание. На сей раз о том фильме, который нам показывали в кабинете физики. Поначалу это был праздник! Вместо физики два урока будут фильм показывать! Экран белый на классной доске приладили, опустили затемнение на окнах. Аппарат застрекотал – экран пошёл чёрными пятнами, кляксами, крестами. Из динамиков шли тягучие звуки, и по ним стало понятно, что с самого начала фильма будет назревать преступление. «Тучи над Борском». На этом праздник закончился. Фильм тяжёлый. Девушка-старшеклассница попадает в секту. В самом начале фильма – немного про школьную любовь. Директор школы нечутко отнёсся… Отец – большой человек на крупном заводе. С дочерью разговаривает, не выпуская телефонной трубки, в которую даёт указания, по вечерам дома что-то пишет. На столе у него – белый бюстик Ленина. «Папа, Бог есть?» – «Не встречал…» – тон ответа такой, что вспоминается полковник Скалозуб из «Горя от ума»: «Мы вместе не служили»… Верующие в фильме раздражают. Понятно, отсталая часть населения, пребывают в религиозном дурмане… бабушки в платочках встречаются… и мужчины есть… есть и молодые… один… тупой какой-то, но добренький… через него девушку заманивают в секту… Персонажи, достойные отвращения! Но в основном молодые – нормальные люди, в Бога не верят. Двадцатый век на дворе! Запомнилась фраза из фильма: «Пушкину радио колдовством бы показалось!» Молодые в школе антирелигиозный вечер организовали. Классно!.. Сценку показали: попы прибыль от продажи свеч подсчитывают. На иконе Божьей Матери глаза просверлили и к дырочкам подвели трубки, а их водой наполнили. В нужный момент дунули, и из глаз Богородицы – кровавые слёзы хлынули!.. Правду-матку!.. Молодцы!.. но!.. Сектанты девушку распяли, а перед этим она комсомольский билет на стол положила, и отец её попал от расстройства в больницу. Фильм хорошо заканчивается. Спасли девушку, не дали распять, можно сказать, с креста сняли.
До конца урока оставалось несколько минут. Пока лаборантка собирала аппарат, мы сгрудились вокруг Галины Парамоновны.
– …случай, ребята, не типичный, но такое недавно было в Архангельской области…
Нам всем страшновато. Нет, в секту нас не!.. но!.. но!.. Убирается затемнение с окон, дышать чуточку легче. Хочется организовать антирелигиозный вечер, а в уме уже целая история придумывается. Девушку из нашего класса (тут ещё отнюдь не ясно, кого именно) заманивают в секту, а мы (ну, я, Игорюха, Саня, Коля, Витька, Юрка – все, всем классом) накрыли сборище сектантов! Понятно, опасаясь за свои жизни… Галину Парамоновну слушаем и раздражаемся на сектантов… и вообще на верующих… Никак эту религиозную заразу из них не выбьешь. У меня у самого две бабани в церковь ходят – попам прибыль от свечей обеспечивают.
* * *
Никак не доведу тебя, Марина, до Вологодского шоссе, но надеюсь, что все мои вставки пригодятся, несмотря на внешнюю несвязность повествования.
Не знаю, как сейчас, но танцы в тогдашней школе – это нечто безобразное. Учителя с некоторой смешливостью посматривали на наше кривляние под магнитофонную музыку, пропущенную через усилитель. Вроде бы и танцевальные кружки в младших классах посещали, вальсу нас обучали. Мне всегда было немного неловко и немного стыдно за себя, когда принародно дёргался под музыку, но вокруг меня все дёргались, и никто не признавался, что им не нравится. Я же не дефективный какой!.. всем нравится, а мне не нравится!.. что же я, несовременный, что ли?.. Все дёргались, как марионетки. И я делал вид, что мне нравится! И выделывал!.. вот чё!.. вот чё!.. молодец!.. Мани, мани, мани!.. что-то там рич мэн… брюки – клёш от бедра… Мы, Марина, точно издевались над собой… Столы и стулья в актовом зале сдвинуты в угол… танцы под магнитофон… потом вокально-инструментальный ансамбль организовали…
Однажды (мы учились в девятом классе) кому-то пришла в голову идея пригласить к нам в школу на танцы старшеклассников с Лесной Речки, из соседнего гарнизона. Подёргались часа полтора, а ближе к концу (не помню уже, кто с кем повздорил) появились первые потаковники и стали подначивать припугнуть гостей, проводить так, чтобы надолго запомнили. Никто тогда и не спрашивал, чьи взаимные недоумения породили конфликт. Все уклонились к худшему. Да и как не уклониться? Да нас раза в три-четыре больше! Напугаем до!.. Дадим им всем!..
Гости уходили пешком, благо до соседнего гарнизона – три километра по бетонке, но лесом. Наша страстная толпа – за ними. У нас одни парни, а они ещё и с девчонками. Кто-то из наших чиркал чем-то железным по бетонке, кто-то, скверня язык, оглашал воздух срамными выкриками. Вышли из гарнизона и подошли к КПП. Матрос с красной повязкой на рукаве с непонятным восторгом наблюдал за нашим шествием и, похоже, раздумывал, присоединиться ли самому или позвонить начальству. Я уже не понимал, зачем надо было подныривать под шлагбаум. Попугали – пора расходиться, но почему-то никто расходиться не собирался, и я поднырнул под шлагбаум. Почти все одноклассники мои рядом… вот Игорюха… вот Витька… Тут раздался угрожающий крик, и взметнулись в воздух большущие слеги, и толпа хлынула на меня. Изнутри каждой клеточки просочился страх, развернул и, командуя ногами, погнал обратно на КПП. Там увесистые слеги не пробьют голову, не раздробят ключицу. В мыслях тогда не было, что Господь страх навёл. Не моё изволение стало управлять телом. Я ещё бежал, а совесть готовила мне уже обвинение. У КПП сообразил, что побежали не все. Игорюхи рядом не было… товарища бросил!.. побежал туда, откуда драпанул, а там Игорюхе девчонки с Лесной Речки кровь вытирают…
В моей поддержке Игорь уже не нуждался.
В гарнизон возвращался один с мутным осадком на душе. Как соску мусолил свой грех, злословил сам себя. А у Дома офицеров у афиш встретил потаковников. Вид они имели чрезвычайно насмешливый и гордоватый, будто в том, что они подбили нас на такое дело, была какая-то доблесть. Один ржёт, изображая, как мы драпанули, а другие посмеиваются, будто они и ни при чём вовсе… а я… товарища оставил… Портреты героев-североморцев обычно подбадривали, а теперь оставались немы… Игорь, кстати, ни разу не укорил меня ни большим языком, ни маленьким, не уязвил намёком, но унывающего выслушать было некому. Родителям рассказать?.. как-то уже не!.. Наде?.. не хотелось себя перед ней обесславливать!.. Кто снизойдёт до того, кто товарища бросил?.. Кровушка во мне плакала, вот как, Марина, тошновато было. Отмотать бы чуток назад… Пусть бы до смерти забили – легче бы было!
Через полгода рассказал обо всем тебе. Говорил, переживая каждое слово. Был уверен, что дальше тебя мои слова не пойдут. Да не в этом дело! Я как бы предощущал, что ты мне поможешь. Чем именно, понятия не имел, но поможешь… Пришёл к тебе под каким-то предлогом (а может, и без предлога, а как обычно – не мог решить какой-нибудь заковыристый пример по математике) и свёл разговор на свою боль, рассказал о том, как смалодушничал при печальных обстоятельствах. Бровь твоя дрогнула, а тёплая ладонь участливо накрыла мою, холодную. Пальцы твои успели сказать: «Всё будет хорошо». И мне стало не так одиноко, как в последние полгода. Забота моя начала рассеиваться, а в мире стало теплее.
– Это хорошо, что ты переживаешь, а я уж начала думать, что тебе всё равно. – Моя бабушка говорит, что иногда полезно помучить себя за грехи. – И снова дотронулась пальцами до моих пальцев.
– Будто меня изнутри избили – ноет всё… Ты смотрела на меня в надежде, что подобное в моей жизни больше не повторится.
– Ты потом рад будешь, что такое случилось ещё в школе, – сказала ты в ободрение. – Лучше бы оно не случалось, но раз уж оно имело место быть, лучше пораньше… С тобой такого не повторится!.. Ты только на рожон не лезь!.. по всякому поводу…
– Конечно, не повторится!
Вряд ли ты, Марина, запомнила мой благодарный взгляд, но ты радовалась вместе со мной моей радостью.
После нашего разговора я перестал чувствовать себя выкинутым из среды людей и узнал, что человека можно лечить словом. Мы сидели у вас на кухне. В окно стучал косой дождь. Было уютно от его мерного биения по оконному отливу. Верилось, что не будет у меня изменения на худшее. Мы пообедали, и ты мыла посуду. Тут я услышал фразу, которая поразила меня и запомнилась на всю жизнь:
– Мне нравится мыть посуду…
* * *
Вот теперь, Марина, пойдём за Вологодское шоссе. Последнее сентябрьское воскресенье (или первое октябрьское)… Земля местами была чёрная, местами белая. Пахло снегом. Когда подходили к землянке, белое почти везде растаяло, остались только островки в тени больших деревьев. Я ещё подумал, что надо записать про белые островки снега, чтобы не забыть. Кажется, никто из писателей не описывал ничего подобного.
– Посмотри, Женя, на снежные треугольники в тени деревьев… я у кого-то читала… хм, как красиво!.. сама, может быть, и внимания не обратила…
– Да, – согласился я, скрывая своё разочарование, но тут же подумал: «Можно описать инопланетный осадок или оранжевого, или бирюзового, или сиреневого цвета, который по тамошним утрам не растопляет двойное солнце в тени тамошних деревьев». Это для научно-фантастической повести.
Когда мы поднимались на прижелезнодорожную сопку, я, Марина, подал тебе руку, и ты охотно приняла мою помощь, но тут же – мысль: «Куда ты ведёшь её?.. Старец приозёрный при немцах служил!.. не води её туда!.. может, там банда какая из недобитых фашистов и их сынков! – Будто удушливым туманом окутался назойливыми мыслями. – Может, там сектанты наподобие тех, что в художественном фильме, который нам в кабинете физики показывали? Люди с пещерным мышлением! Конечно, с пещерным!..» У меня нож в кармане, самодельный. Отец отобрал у матроса, потому как матросам не положено иметь при себе ножи. Красивый нож с наборной из разноцветного стекла тяжёлой ручкой. Лезвие покоится в толстых кожаных ножнах. Не вынимая оружие из кармана, обнажил лезвие. В обиду давать тебя, Марина, не собирался. Но зло тревожить не переставало. Совсем дурь в голову полезла: «Им чистая душа нужна!.. Просчитали, что возле землянки у меня грибные места… откуда они здесь, между двумя гарнизонами?.. куда контрразведки смотрят?..» На сердце выпал мутный осадок, а в голове – отупение, но одна мысль оставалась ясной: «Марину в обиду не дам… она меня словом вылечила… от одного воспоминания сухостой зеленеть начинает!»
В землянке мы долго искали свидетельство того, что здесь служили Литургию. Я усердствовал, но моя настойчивость не была вознаграждена. Ни-че-го!.. ни свечки, ни огарочка!.. Ты, Марина, вышла из землянки, а я, продолжая осматривать её внутренность, выходил задом-наперёд. Взглядом прощупал каждый сантиметр укреплённого брёвнышками входа. Во мху, кроме опавших листьев, ничего не было.
– Ты мне не веришь? – спросил я, не глядя на тебя. – Ну, должны же они хоть что-нибудь забыть! – добавил я унывающим и потерявшим надежду голосом.
– Верю, – сказала ты и таким тоном, будто тебе и верить не надо, будто ты своими глазами всё видела. Я обернулся и глянул туда, куда смотрела ты. От камня, который миллионы лет назад притащил сюда ледник, отделились… как бы живые камни. Не знаю, как ты, Марина, а я растерялся, будто рядом со мной творилось нечто непонятное, несообразное с действительностью. Камни превратились в людей. Двое мужчин, один пожилой (озёрный старец) – другой помоложе (воображение сразу облачило их в подрясники) и женщина, которую я видел у аналоя с книгами. Одеты, как грибники, только с большущими заплечными мешками. Одеты опрятно, но чувствовалось, что они из благополучия ниспали в бедность, к которой ещё не привыкли.
– … если гипотетически предположить невозможное… Ни одного «красного», ни одного «белого» в Гражданскую войну не убили, – говорил тот, что помоложе, соблюдая в словах осторожность. Нечто обидное показалось мне в его взгляде, будто он спрашивал самого себя: «Неужели бесы избрали для мести этих несмышлёнышей?» – Не было голодух двадцатых-тридцатых годов, не уничтожали трудовое православное крестьянство… (при этих словах мне вспомнилась «Поднятая целина» Шолохова: «… жжёный плут (фамилию забыл), ставший после раскулачивания Христа ради юродивым…)… – … а Красная Армия, взяв Берлин, не потеряла ни одного бойца, а вслед за Гагариным на Луну полетели бы Титов с Терешковой и Николаевым, а потом Леонов с кем-нибудь полетел на Марс… всё равно не было времени хуже для…
Они отошли на такое расстояние, что слышно их стало плохо. Долетели только слова старца:
– … война… понятно, наказание Божие, но люди душу свою за други своя…
Мы с тобой, Марина, дошли до железнодорожного моста через речку Илес и сели на бревно, греться на скудном солнышке у стены безглавого английского ДОТа времён Гражданской войны.
– Не было для него времени хуже… если бы Леонов на Марс слетал!.. – усмехнулся я на слова священника. – Тут… ядерное оружие!.. космические корабли!.. луноходы!.. Моя бабаня почти так же, как он, говорит!.. Опустили, говорит, всё!.. а что опустили? Ну, делали в Питере субмарины и крейсера, а вся Россия деревянной сохой!.. Что опускать-то?!. Трактора, комбайны сейчас!.. Ладно бабаня, у неё два класса образования, а этот-то… слова культурные знает!.. «гипотетически…» – Ощущение лесной паутины в глазах, в носу, в ушах. И тут что-то внутри меня случилось, внезапно открылась какая-то бездна, и начал говорить то, о чём раньше говорить стеснялся: – Даже если предположить, что больше не будет ни одной войны (что маловероятно), мы всё равно умрём… и те, кто с багажом знаний (те, кто водородные бомбы придумывает), и Кольки Мячины, которые по два года в каждом классе сидят… Даже герои Ивана Ефремова умирают в далёком будущем. Но все как бы договорились о смерти (по сути о самом главном!) не говорить. Понятно, если всё время о смерти думать, не захочется в институт поступать. Десять лет школы, пять лет института, поработал тридцать лет, – и без особого сожаления глину охранять на кладбище? Нам уже по семнадцать. В человеческой жизни раз пять по семнадцать лет будет. Вот ещё четыре раза по так, – и что, долго мы жили? Пролетели дни незаметно, и другие дни также незаметно пролетят. В институт можно ещё и не поступить – придётся зарабатывать на жизнь разными скучными способами… – Наверное, Марина, я тогда уже чувствовал, что не способен ни к Богу подняться, ни земную жизнь наладить, но мне никто и не обещал, что у меня всё будет хорошо. – Моя жизнь может сложиться печально, как у Раскольникова, а то и как у Мармеладова… Если допустить, что эти катакомбники откажутся от своего полулегального положения и, придя к власти, начнут своему обучать, вряд ли Колька Мячин выбьется в отличники. Конечно, катакомбники и алгебру оставят в школьной программе, без математики никак. Родину всё равно защищать надо, без алгебры современное оружие не спроектируешь. Пока ракета с ядерными боеголовками дома живёт, она очень даже вписывается в христианское учение. Каким бы наглым враг ни был, он не хочет, чтобы она к нему прилетела, а прилетит – какое уж там христианство? – осторожно высказывал я тебе свои соображения, пока не запутался в придуманных закоулках. Самому мне мои слова казались злыми, хотя я только говорил о невидимых потоках зла и всё убирал и убирал несуществующую паутину с лица, наверное, подспудно убрать хотел от себя повреждённость духа, но не получалось. – Человек создан для чего-то другого!.. – Но не мог объяснить тебе, для чего. Не было во мне ни символов, ни слов. Для меня самого было отнюдь не ясным, для чего создан человек. Сказал только: – Колька Мячин!.. а я?.. алгебру знаю чуть получше Кольки, а про Духа Святаго вообще ничего не знаю!.. Что-то не так, Марина, что-то по очень крупному не так… дело не в алгебре…
Мы ещё даже не просили ни о чём, а Господь уже слышал нас.
* * *
У нас, Марина, был радиоприёмник «Восток» шестьдесят или даже пятьдесят какого-то года выпуска. Стоял у окна в нашей с братом комнате. Громоздкий, в тяжёлом деревянном футляре. Продавался вместе с тумбочкой, в которой были отделения для пластинок (отец хранил там вырезанные из газет статьи на международные темы). Сверху в приёмник был вмонтирован проигрыватель под виниловые пластинки. Фанерная передняя панель, за которой прятались динамики, обтянута золотой материей, внизу – чёрная стеклянная фальшь-панель с названиями городов мира. Частенько по вечерам в тёмной комнате (освещалась только изумрудным глазком радиоприёмника) крутил удобную (с мой кулачок) ручку настройки. Путешествие по волнам эфира доставляло редкое и несказанное удовольствие. Слушая передачи или музыку, поглядывал через окно в темноту озера, над которым время от времени, помигивая габаритными огнями, пролетали ракетоносцы.
Мы учились в четвёртом классе. В тот вечер должны были транслировать репортаж с матча на Кубок СССР по хоккею с шайбой… из Пензы… должны были транслировать матч «Дизелист» – «Динамо» (Москва). «Дизелист» в Высшей лиге никогда не играл и играть не будет, потому что стоит только в Пензе появится талантливому игроку, его тут же забирают в Москву. Но в розыгрыше кубка страны принимают участие команды низших дивизионов, и любая (в двух-то играх!) может победить не только «Динамо», но даже «Спартак» или ЦСКА. И вот должны были транслировать матч из Пензы. Очень не хотелось, чтобы в тот вечер там пошёл снег. Дело в том (стыдно сказать), что в Пензе нет крытого катка, и будет очень неудобно, если шайба начнёт застревать в снегу. Конечно, «Дизелист» проиграет и дальше одной восьмой финала не поднимется, – а вдруг? Бывает же чудо!.. За окном – белым-бело, батареи тёплые. Рубашка на мне тёплая, штаны с начёсом, толстопятые шерстяные носки на ногах. К радиоприёмнику подсел пораньше, чтобы ни дай Бог… На соседней волне шла какая-то радиопостановка… механический пёс… пожарники какие-то книги жгут… Я заинтересовался, прислушался и остался на волне, прильнув благопокорным ухом к динамику. Стул подо мной ни разу не скрипнул, пока голос диктора не объявил: «Вы слушали радиоспектакль по повести американского писателя Рэя Брэдбери «451* по Фаренгейту». Душещипательной радиопостановкой я был поражён! Не то!.. я будто из тела вышел, когда слушал… я… я… я преданно ловил каждую интонацию актёрского голоса. Мир Рэя Брэдбери вошёл в меня, завладел всем моим существом. Не только мой разум, но и жилы и кости мои пропитались этой чудной повестью. «Бежин луг» Тургенева, «Ванька Жуков» Чехова – классные рассказы, а «451* по Фаренгейту»… Ы!.. Дело не в том, что автор не русский человек… другое!.. между ними была разность, определить которую я не мог, сравнение не давалось мне… Фаренгейт какой-то загадочный!.. Все термометры по Цельсию разлинованы!.. Кто такой Фаренгейт, ни отец, ни мать не знали, даже Саня Гуленков не знал, кто такой Фаренгейт. Том Большой Советской Энциклопедии на букву «Ф» ещё не выпустили. Послушать бы ещё раз эту радиопостановку, но!.. когда ещё будут повторять?..
В библиотеке Дома офицеров не оказалось книг Рэя Брэдбери. Надежда, видимая уже как сбывшаяся, рухнула. Библиотекарша пришла в смущение от навернувшихся у меня слёз. Она предлагала другие книги. Она не подозревала, что в обилии предлагала суету. На какое-то время библиотека утратила для меня свою привлекательность (до того дня, как на полках появилась книга «451* по Фаренгейту»). Мне даже подумалось, что книги Рэя Брэдбери изъяли и сожгли. Хотелось написать кому-то в Москву и попросить, чтобы повесть «451* по Фаренгейту» включили в школьную программу по литературе… Вращая ручку настройки радиоприёмника, надеялся, что будет повторная трансляция радиоспектакля, но – увы! – крикливая суета жизни неслась изо всех вещательных точек, даже на иностранных языках, которых я не понимал, но… я снова вспоминал повесть Брэдбери, и она снова выталкивала меня из будничной сутолоки, и я снова, как тогда считал, поднимался на некую высоту. Уютная квартира заполнялась героями повести. В дверях толпились бывшие мои сослуживцы по сжиганию книг (мои уже, а не Мэнтога). Они пришли, чтобы сжечь мои книги, они пришли за мной. По приозёрному лесочку, отыскивая меня, уже рыскал механический пёс, и отравленная игла время от времени появлялась из его пасти. Поднимались с аэродрома и пролетали над озером брюхатые ракетами самолёты, а моя воображаемая жена, не отрываясь, смотрела глупые телевизионные передачи. С чем можно сравнить моё тогдашнее состояние? Вспомни северное сияние. О чём мы думали, когда любовались им? Да ни о чём!.. просто тихо наслаждаешься зрелищем, просто заворожен красотой явления! Смотришь на его разноцветные переливы, смотришь на их дыхание, и жизнь в эти минуты кажется исполненной смысла. Ты тот же мальчишка-четвероклассник, но будто вошёл в твоё сознание кто-то большой и добрый, и ты сейчас с ним. Он отпустит тебя совсем скоро, и тебе его будет чуточку не хватать. Потому тебе и хочется смотреть на северное сияние как можно дольше, хочется, чтобы оно не исчезало, чтобы не отступало от тебя нечто великое, чтобы ты сам с ним становился как бы немного побольше. Ты соприкоснулся с чем-то непохожим на всё остальное, и не хочется лишаться этого касания… Нечто подобное я испытывал после прослушивания радиопостановки по повести Брэдбери. Я даже ожидал перемен к лучшему. И ещё! Рэй Брэдбери – мой современник (по утрам и вечерам чистит зубы, ходит в магазин за хлебом) и, так же, как и я (я был уверен в этом), недолюбливает США с их президентами, капиталистами и гангстерами. Но это не главное, это как бы в скобках. Повесть вводила (не осознавалось ясно) в пытливые изыскание внутри себя самого. Хотелось стать лучше, и я делал добросовестные усилия в этом направлении. Казалось, что склонное к худшему расточалось во мне.
Чуть позже в моей жизни появились книги Ивана Ефремова, и в старших классах, Марина, я переселился на Ян-Ях. Ни фига не про Китай Иван Ефремов писал, а про нас… про всю нашу Землю. Ян-Ях – это наша Земля, на которой (по Ивану Ефремову) накопилось много «человеческой дряни, ибо выживали преимущественно приспособленцы, палачи и стукачи (за малым исключением)». В старших классах я не исключал возможности, что Иван Ефремов – это описанный им же самим Вир Норин, который остался на планете Ян-Ях, чтобы донести до жителей информацию о существовании цивилизаций Великого Кольца, которую олигархи от народа скрывали. Вир Норин остался на Земле и, взяв себе имя Иван Ефремов, донёс до нас то, что хотел донести.
Я бродил по окрестностям гарнизона и мысленно писал фантастическую повесть. Она просилась на бумагу. Возвращался домой, рука уже тянулась к шариковой ручке, но… дальше этого не шло. Это была повесть из жизни на Ян-Ях (как бы продолжение «Часа Быка» Ивана Ефремова, из тех времён, когда Серые Ангелы (по тогдашнему парению моего ума я был близок к ним) уничтожили власть олигархов. У меня была подруга… Вот тут и беда!.. Надя как-то не представлялась на Ян-Ях. Все литературные героини были перепробованы: и тургеневские барышни, и… даже Грушеньку из «Братьев Карамазовых» пытался переселить на Ян-Ях, но не уживались они там – в моей истории должна была быть девушка, похожая на тебя.
Мы курировали амфолопсихов (поначалу это были только отвратительные персонажи из фильма «Тучи над Борском»). Программы, которые мы писали, убирали их из среды нормальных людей, втягивали в себя и держали цепко. Мы считали себя чуть ли не благодетелями, ведь мы дарили несчастным то, чего они никогда бы не смогли достигнуть, продолжая жить реальной жизнью. В наших программах им жить было интереснее, в наших программах амфолопсихи соблюдали все заповеди, молились чистой молитвой и, предугадывая конечную цель, шли к ней. Они видели Царствие Небесное, оно раскрывалось перед ними, и они думали, что смотрят на себя и вокруг себя очами Бога. Вот чем я занимался на Ян-Ях, но потом, Марина, встретил тебя.
* * *
«…у лестницы чёрного камня, которая двумя полукружиями поднималась к массивным чёрно-золотым дверям (декорации Ивана Ефремова). Медленно по вертикали вставало большое ядовито-розовое осеннее солнце. Сухие листья на изголуба-сером асфальте, казалось, горели и не сгорали. По тротуару навстречу мне шла женщина в сиреневом плаще. Она не наступала на горящие, но не сгорающие листья, точно боялась осквернить подошвами маленькое чудо. Лицо женщины, казалось, светилось изнутри (что изъявляло светлость её души) и выражало радостное удивление, а тёмные глаза пытливо смотрели на горящие и несгорающие листья, точно видели в них прообраз чего-то более высокого. Глаза её боялись, что красота с городского асфальта вот-вот ускользнёт. Тонкая бровь удивлённо изогнута. Если бы я был амфолопсихом, то непременно решил бы, что душа этой женщины утонченна, легка и чиста, как прохладный осенний воздух. Ещё мелькнуло в сознании: «Возможно, совсем скоро придётся писать программу и для неё». Солнце планеты Ян-Ях поднялось по вертикали выше, и листья на асфальте потухли. Женщина смотрела на меня, её чёрные глаза призывали меня что-то вспомнить, узнать её… и я, Марина, узнал тебя. Большой палец твоей левой руки совершал едва заметное движение, будто перебирал зёрна чёток.
– …я не первый раз иду этой дорогой… хотела с тобой встретиться… Я долго не могла, Женя, поверить, что ты работаешь здесь!.. Раньше писатели радовали людей своими повестями и рассказами, заставляли задуматься над смыслом жизни, а теперь писатели пишут программы и принуждают православных жить в виртуальных культурно-религиозных резервациях. Многие боятся людей из вашего союза, но я тебя не боюсь, Женя, и тебе нечего меня бояться.
– Почему я тебя должен бояться?
– Парадный подъезд – самое безопасное место, где нам можно встречаться. Если что, скажешь змееносцам, что работаешь с очередным амфолопсихом».
После нескольких встреч ты уговорила меня покориться праведности и уйти от людей, для которых совершенно закрыт и непонятен мир духовный. Совесть уже давно готовила обвинение против меня, и я согласился с твоим предложением. Мы ушли в катакомбы к православным… Недостаток внешних впечатлений нашей тогдашней гарнизонной жизни содействовал богатству внутренних переживаний, а внешнюю форму я им придумывал без труда. Приключений на Ян-Ях было предостаточно. Дюма-отец и Дюма-сын отдыхали! Может быть, мне позавидовал бы и сам Иван Ефремов, если бы я смог на бумаге формализовать свои мысленные приключения… Змееносцы (тайная служба правителей Ян-Ях) преследовали нас, ибо узнали, что мы молитвенно прорываемся к духовному Свету. На нас устраивали облаву за облавой, но мы всякий раз уходили от них. Внешне наша жизнь была преисполнена бедствий и неудач, но по внутреннему ощущению жить нам было легко. В нас укреплялся навык к катакомбной жизни, и мы имели духовное веселие.
* * *
«Замок на дачной калитке, похоже, сковырнули монтировкой. В домик ворвались змееносцы – спортивного образца организмы (по слову Ивана Ефремова). Замелькали нашивки с символом сжатого кулака. Я попытался вырваться, но меня повалили и прижали к полу. Перед глазами – ступни в чёрных полуботинках. Слышал вокруг себя не только топот человеческих ног, но и топот копыт татей невидимых. В свете лампад мелькнула спица с заострённым концом. Я имел в себе трепет страха, но не было ощущения, что лишаюсь помощи Божьей, хотя никто не думал отводить от моего глаза конец блестящей спицы. Скоблёное рыло надо мной осклабилось.
– Добро пожаловать в Божественный мрак! – было произнесено тоном лицемерной добродетели. Пропускаю злейшее из сказанного, ибо говоривший поиздевался словами прежде, чем задрать мне веко. Резкая боль в глазу, и голова стала неметь. Ослепили и другой глаз. Палач победно хмыкнул. Удерживающие меня руки ослабли, мучающее и давящее отступило. Топот ног, вздохнула и заплакала калитка. Подумал о тебе: «Только бы ты не вернулась, пока они ещё здесь». И застонал. Не от боли – от навалившейся неопределённости. Стон не принёс облегчения. Глаза жгло».
* * *
«Ты вышла из автобуса, бросила взгляд на сиреневый закат, вошла в темноту лесополосы. Сорока с высокого дерева видела, как посреди тишины женщина в сиреневом плаще поднялась на железнодорожную насыпь. Сорока застрекотала, предупреждая об опасности. Серебряный конус рельсов, пронизав темноту лесополос, тревожно упирался в ещё сиреневое внизу небо, на которое давила тёмная синь облаков. Казалось, земля там, у горизонта, обрывается в пустоту… Что-то неладно!.. что-то!.. Нечестивые уже приложили стрелу к тетиве. Дачным посёлком шла быстро, почти бежала, дорога спускалась под гору. Бледная луна поспешала за тобой… Сперва ты услышала шум как бы от многолюдного народа – тело твоё оцепенело. Возле дачи, на которой скрывались, стояли две чёрные машины. Из калитки размытые сумерками один за другим выходили спортивного образца организмы. Преданное твоё сердце подсказало: произошло нечто поразительно-жестокое. На выходящих лежала печать греха. Грех не неведения лежал на них, а грех злой и порочной воли. Коренастые фигуры шли так, будто с трудом отлипали от своих лунных теней. Все улыбались, выражая веселье. Спортивные образцы неторопливо уселись в машины, поочерёдно захлопнулись дверцы. Внедорожники сорвались с места. Тяжёлые гости уехали, но не исчезло их размытое нечистое присутствие. Ты проскользнула вдоль светлой стены дачного домика, взлетела на крыльцо. Дверь отворила робко. Увидела меня на полу в телесном страдании, присела рядом. Оглядев меня, немного успокоилась, ибо решила, что я не потерпел лютого истязания. Помогла мне подняться и усадила на диван.
– Они ослепили меня.
Ты горько заплакала. Целый Иордан слёз! Ты плакала, обнимая мою голову.
– Их послали те, кто не верит в несказанный Свет, – заговорила ты сквозь слёзы, – не верит и не хочет верить, но знает о нём всё, что может знать о нём человек, не видевший его сам… Отцы учат, что мы, православные, должны побеждать, не истребляя своих противников, – побеждать пока не получается. В этом мире это почти невозможно.
– Чувствуют свою безнаказанность…
– Но и здесь Господь может нас сделать непобедимыми для всякой брани. – Эти твои слова отмечены были долгим молчанием. Безотрадное настоящее и неопределённое будущее, казалось, перестало волновать нас.
Медленно поднимались дачным посёлком. Ты вела меня за руку. Был уже тот час ночи, когда на дороге отсутствует движение. В ночной тишине – только молчание. На остановке в телефонной будке ты долго объясняла диспетчеру скорой помощи, что случилось и куда надо приехать.
– …да-да, от железнодорожного переезда четвёртая остановка!.. пока нет никаких названий…
Скорую помощь прождали долго.
– …я буду держаться за тебя и помогать тебе…
– Единственное, чего я боюсь, это оказаться внутри программы, – сказал я.
– Нет!.. нет, нет, нет, – заверяла ты. – Нет!
– И эти твои слова могут быть заложены в программу.
– Нет же! – плача, уверяла ты. – Нет! – И продолжала меня успокаивать: – Мы будем служить Литургию. Ты знаешь её наизусть. – Ты торопилась языком: – Будничные службы на седмице попроще… я буду помогать тебе на клиросе как псаломщица, как и помогала… буду печь просфоры, как и пекла, только оттиски на них буду стараться делать более чёткими, чтобы ты мог увидеть их пальцами.
Я кивал на твои слова.
– И всё у нас будет так же, как и было… ещё лучше!.. быть может, и тебя Господь сподобит увидеть несказанный Свет.
Жить придётся не «тамо», а здесь (!) Не «тамо» жить душе, где она светом Божьим удерживается, а в чувственном мраке. Не в том мраке, которым полон несказанный Свет, который выше солнечного сияния, а во мраке чувственного мира.
– Но и не во мраке, который уготован дьяволу и ангелом его… а Свет Христов озаряет наши души и сейчас, только озаряет таинственно, и мы его не видим. – Слова твои орошали мой внутренний зной. – Господь даровал нам самое дорогое, что может даровать человеку – возможность служить Божественную Литургию!.. и мы должны исполнить то, что Господь задумал о нас. Не унывай! Тьма обратится в Свет…»
* * *
«Больничная палата…
– Почему ты не моешь посуду? – в другой раз спросил я.
– Чуть позже, – в другой раз ответила ты. – Лучше скажи, о чём ты думаешь?.. да ещё так напряжённо?..
– Странная мысль… Я подумал, если мне неопровержимо докажут, что я в программе для амфолопсихов, а слепота моя отнюдь не настоящая, а порождена программой, – обрадуюсь я этому обстоятельству?
– Я не понимаю, к чему ты клонишь?
– В программе можно оставить подсказку, с помощью которой несчастный усомнится в том, что находится в реальном мире.
– Ты говорил, что цензоры не допускают ничего подобного.
– Понятно, кнопку с надписью: «выход из программы» никто не повесит, но программисты не лыком шиты! Попробуй, скажем, обнаружить «вирус Гуленкова»!.. и вычистить его!..
– Гуленкова уволили, потому что узнали, что он из старообрядцев?
– То, что он из старообрядцев, знали до того, как принять его на работу, а ушли его потому, что он поверил в Бога, поверил православно. Поздно они спохватились! Никто не может гарантировать, что все программы от «вируса Гуленкова» вычищены. Он работал не только с амфолопсихом, но и с его окружением. «Вирус Гуленкова» – это нечто такое, о чём сам амфолопсих забыл, но при определённых обстоятельствах, заложенных в программу, может вспомнить.
– Какая-нибудь личная тайна?
– Вовсе нет… Это может быть оставленная много лет назад привычка… да что угодно!.. нечто несущественное, вспомнив о котором, грустно улыбаются… Что за окном?
– Закат полыхает… В палате всё – серо-чёрное и лиловое… Ты никогда не говорил про «вирус Гуленкова».
– Это для них он – «вирус», а для нас это подсказка, последний шанс вырваться из рабства программы… Почему ты не моешь посуду?
– Успеется… Если бы ты знал, батюшка, как не люблю я мыть посуду!.. Почему ты смеёшься?
– Я не смеюсь – я плачу.
– Почему ты плачешь?
– Настоящая Марина любит мыть посуду… Это единственный человек в моей жизни, который признавался, что любит мыть посуду!.. Мы – в программе!..»
* * *
С Гуленковым мы встретились в Санкт-Петербурге. Ты, Марина, конечно, его помнишь. Он такой же, как был, только с бородой, а борода с проседью. Внешне Саша приветливый, но, как и все мы, немного окутан затруднениями. Вспоминали детство, школу, одноклассников. Много чего вспомнили!.. и золотой блеск на высохших чернилах, и грязные промокашки. Вспомнили, как ездили в Архангельск заправлять использованные стержни для первых шариковых ручек (киоск стоял возле памятника оленеводу). Вспоминали подъезд, в котором с родителями жил Саня, – знаковое для нас место. Из него был выход на крышу пятиэтажки по Катунина-5, где располагался секретный космодром, с которого во все концы плюс-минус-бесконечности стартовали «летающие тарелки». Конечно же, вспоминали Галину Парамоновну. Она уже немощная, болят ноги, из дома не выходит, но в ясном уме, и всех нас помнит. Саша со свойственной для него заботой ухаживает за матерью вместе с сестрой. Справляюсь, говорит, сносно – иногда хорошо. Саша приглашал на дом батюшку, и Галина Парамоновна в почтенном возрасте приняла святое крещение. Я её теперь поминаю и на проскомидии.
Мы стояли на мосту к Заячьему острову. Доски моста отливали сиреневым. С сиреневым поддоном были высокие перистые облака в гаснущем небе. Сиреневым бликовала спокойная Нева. Она была неописуема великолепна! Воздух – прохладен и чист.
Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу