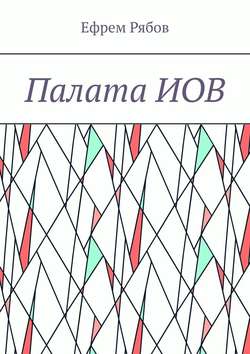Читать книгу Палата ИОВ - Ефрем Рябов - Страница 2
ОглавлениеПалата ИОВ
Действие происходит в конце 70-х годов в клинической больнице одного из южных многонациональных городов.
ГЛАВА I.
«И сказал Господь сатане: вот он в руке твоей, только душу его сбереги.»
Книга Иова. гл.2,7.
Череда случаев сыграла с Боксером в рок, и он попал в эту палату. Неслучайная опухоль беспокоила уже давно, но скорее в эстетическом плане, чем в физическом. Хотя и говорят, что шнобель у человека растет всю жизнь, этим придавая косметологии фатальность, но о своем носе Боксер думал постоянно, пока габариты его не стали навязчивой идеей.
«Да, травматизм в боксе необычайно велик. И в нокаут на ринге ребята попадают часто. И нет-нет записывают в инвалиды цветущих матеров спорта. Но как ни странно большинство травм боксеры получют не на соревнованиях.
Травмы бывают нечаянные, из разряда досадных, когда в непредвиденных совершенно обстоятельствах вдруг ощущаешь тревожащую боль. Это бывает на тренировках, когда сорвешь кожу на костяшках кулака, или потянешь мышцу на ноге, или хрустнет шейный позвонок. Есть еще травмы закономерные, это когда вследствие перегрузки организма чувствуешь, что перчатки уподобляются пудовым гирям, а вместо легкого порханья на ринге – шарканье боксерок по брезенту. Опасно в таком состоянии выходить на ринг. Легкий и точный удар соперника приведет тебя к краю пропасти. Ляжешь на дно, где тихо, спокойнее, чем есть на самом деле, страшно захочется спать и уйти от этих злых людей в мир фантазий и сновидений.
Чего они хотят эти свистящие и орущие лица с бешеными глазами, зачем этот яркий свет мешает спать, почему будильник вместо убаюкивающего тик-так резко отсчитывает цифры секунд? Будильник, ты что сбесился? Земля перевернулась! Зачем он, мой старый привычный будильник «Слава», почти безотказный, теперь машет рукой? С каких это пор у будильников появились руки? Кто это нацепил на «Славу» черную бабочку и кричит: «Слава, считай!» Надо, надо вспомнить: пил ли я вчера? Нет, я не пью уже месяц, в рот спиртного не беру. Да у меня же нет дома черной бабочки! Какой дурак носит теперь такие галстуки? Пора вставать. Как мешает этот яркий свет спать! Надо подниматья! Ну, как учил тренер: постепенно придти в себя и двигаться весело и непринужденно. Чего они хотят, эти люди? Почему сработал будильник не звонком, а ударом молотка в сковородку? Гонг? У меня нет дома гонга. Кто это в синем углу? Тренер? Почему у него такое кислое лицо? И двигаться, двигаться, весело и непринужденно, порхать по рингу. Вместо порханья – скрип боксерок по брезенту, я заметил это еще утром во время тренировки. И двигатья, двигаться, и наносить удары, быстрые, точные, легкие, и набирать очки, первый раунд, второй раунд, третий раунд. Работать сериями. Раз – два, три. Два прямых, третий боковой. Ушел, уклонился, раз – два. Хорошо! Отошел, опять серия. Двигаться, двигаться. Но кто это считает мои удары так медленно и таким неприятным голосом? Почему «семь, восемь»? Почему руки у меня не поднимаются выше пояса? Вроде одевал легкие перчатки, а руки как ватные, с навешанными пудовыми гирями. Встряхнуть головой. Где я? Это первый вопрос просыпающегося не дома. Но я на ринге. На ринге я дома. Я дома в синем углу. Родной тренер с кислым лицом и щеточками усов заботливее матери. Мужчины, воспитанные в мире жестокости, могут быть ужасно заботливыми. Своей предупредительностью они могут закомплексовать тебя до робости. Будут возиться с тобой, опекать, заботиться. Значит, это был нокаут.
Травмы бывают неприятные, это когда чем больше прошло времени после боя, тем больше у тебя заплывает глаз почему-то. Нет, ты точно помнишь, что в глаз ударов не пропускал. Да, хорош синячок, нечего сказать. Фуфел на постном масле. Как пацан с фонарем. Фингал фиолетовый. Даже деловые мокрощелки будут пальцем показывать: «Ой, как светло стало! Ты не знаешь, Мэри, кто это зажег фонари днем?» ТЬфу! Домой приду, надо будет бодягой порастереть, как следует. Да-а, пару дней придется походить в солнцезащитных очках.
Еще бывают травмы, украшающие мужчину. Раз, после боя, Боксер глянул в зеркало и ахнул. Из рассеченной брови не вытекло и капли крови. Женщины скрывают свои недостатки косметикой, мужчины – травмами. Рубец явно украшал. Правое ухо, правда, было заметно больше левого. Но посинений и покраснений не наблюдалось. Нижняя губа несколько толще верхней, но это внутренний прикус. Во втором раунде выплюнул капу и тут же получил по зубам. Но победа в активе, полдела сделано, победа – лушчий врач.
Это все травмы профессиональные. По этой категории бокс занимает место в уравновешенной середине, опережая, может быть, шахматы и городки, но и там дела обстоят не блестяще, особенно если выяснять отношения с помощью хода конем по голове, или, к примеру, ударить фартового соперника городошной битой в незащищенные места. Самое смешное, что это тоже будут профессиональные травмы.»
Так думал Боксер, развалясь на своей койке у окна в палате И. О. В. Жребий пал, гонг будет опять звенеть: молодой, цветущий мужчина, средневес и мастер спорта попал в палату инвалидов Отечественной войны. И.О.В. – просто комплекс звуков, пустой, чем чаще произносится, как ДСО* (добровольное спортивное общество в советские времена, прим. авт.), ЦС* (центральный совет, так назывались соревнования на первенство добровольного спортивного общества в те далекие времена, прим. авт.). Курам на смех. Четыре человека, из них трое моложе 25 лет, последнему Володе – 40, он сварщик шестого разряда, к великим и отечественным войнам тоже отношение имел весьма отдаленное. В армии и то служил в стройбате. Первый – Пацан – лежит около двери, ему уже сделали операцию. У него врожденное. «Заячья» губа. По больницам он – ветеран. Знает всех врачей по именам и кто чего стоит с гиппократовской точки зрения, ведает, когда преважнецкий ритуал – обход, во время которого решаются вопросы жизни и смерти, сечет, когда другие процедуры-дуры, какие анализы и как сдавать, что выгодно и что – нет. За полчаса предупреждает о раздаче лекарств и какую «откалячку» можно придумать, чтобы медсестра не впихнула в рот хлористый кальций, как выклянчить у нее поливитамины, которые она «ныкает» в карман, а на глупый вопрос отвечает, что их нет в природе. Демонстрируя обширные знания по фармакологии, Пацан сходу определяет свойства таблеток и ненужные выбрасывает в форточку. Если медсестра настаивает на том, чтобы Пацан выпил при ней кучу всякой дряни, он никогда не сопротивляется, а закидывает всю эту горсть себе в рот, прекрасно имитируя глотательные движения, а после ухода медсестры отправляет химфармпродукцию «путем зерна», благо отделение хирургической стоматологии находится на четвертом этаже. Пацан знает с поражающей точностью, что будет на обед, и что надо брать, причем у окна раздачи он всегда оказывается первым, а когда можно и не ходить в столовую, удовлетворившись «подножным кормом», непереводящимся в его тумбочке. Как самый молодой пациент отделения он регулярно используется раздатчицами столовой в качестве носильщика ведер с бурдой, которые они получают в централизованной кухне «неотложки». В разрез с логикой своего характера Пацан не увиливает от этой гнусной обязанности, видя в ней возможность смены обстановки и получения первым информации о меню.
Операция у него прошла успешно. Не удивительно, что он теперь частенько в приподнятом настроении и считает дни до выписки. Пацан – это живой материал. Среди больных говорят, что на нем можно запросто написать диссертацию. Кто-то даже предложил название: «Морфология языка осла». Его оперировала кандидатесса наук. Женщина. Она же будет, вероятно, делать операцию и Боксеру. Боксер всегда относился с недоверием к профессиональным качествам женщин. Не доверял. Отражались особенности его вида спорта. Лучше средний мужчина-врач, чем хорошая женщина-врач. Но эту женщину хвалят. Хвалят ветераны – общественное мнение корпуса, ей симпатизруют Пацан и Казах, следующий член палаты И. О. В.
Казах из породы неудачников. Но он – неисправимый оптимист. Все у него шло слишком гладко в жизни. До подозрительности счастливый расклад судьбы. Как три «лба» в сваре* (свара – карточная игра зоновского типа. прим. авт.), три туза – по-нашему. Он родился в благополучной казахской семье, а это значит, что у него было девять братишек и сестренок, папа – партийный карьерист и мама – домохозяйка. До 17 лет он учился в школе ни шатко, ни валко, получил Бог весть какие знания и приличный аттестат и поехал поступать из своего захолустья в центр на юрфак. В университет на юридический факультет, как водится. Самый престижный. Кто законы знает, тот может их не исполнять. Казах благополучно сдал документы в приемную комиссию и поехал назад окрыленный, домой, за оставшийся месяц готовиться. Не к экзаменам, естественно. Родители и родственники поздравили его с будущим поступлением, как с удавшейся аферой, подарили ему мотоцикл и шумно обмыли покупку. Скоростной, сверкающий, импортный. Успели женить на заранее подготовленной невесте. Казах к аттестату зрелости уже был лишен предрассудков, знал в своей жизни нескольких женщин, но свою будущую жену увидел в день свадьбы. Пролетел медовый месяц в праздных ласках и роскоши. И поехал Казах сдавать вступительные экзамены. Сел, разумеется, на подаренный мотоцикл, простился с благоприобретенной женой и поехал.
Славный степной ветер не остудил его темперамента. И заиграла в его жилах кровь предков – джигитов, степных кочевников, не дававших поводий коню. Так и Казах не умел тормозить свою «Яву». Лихо несся он по бесконечной дороге, и нашел ее конец в районной больнице. Шесть дней находился Казах в бессознательном состоянии. Районные эскулапы сказали, что это предел человеческих возможностей. Похоронила его жена. Собрала манатки и уехала в центр. Оплакала мать и родственники. Но Казах выжил, с трудом его перевезли в центр и подлатали, как могли.
И не помнит Казах ничего. Помнит черную ленту дороги и славный степной ветер в лицо, помнит громадный рейсовый автобус, некстати вынырнувший из-за виража, потом ничего не помнит. Помнит гордую посадку шофера на высоченной сиденье, и удар, просто глухой удар, а потом ничего не помнит. Зыбкая темь. Ощутимая пустота. Чернота. Ватная, липкая чернота. Глухой удар, и больше ничего не было; ни звона разбитых стекол, ни зловещего скрипа тормозов, нет, ничего не было.
Потом была пустота. Или провал. Но нет, он точно помнит, что провала не было, был полет, – это помнит, его сверкающе-красныйй конь, взбесившись, встал на дыбы. Конь, зверея, встает на дыбы, чуя дыхание смерти. Но свистящего провала и смертной грани Казах не помнит, нет, этого не было. Полет свой из пращи помнит, бесконечный чарующий полет в неизвестность. Нет, он не приземлялся в исходе, просто что-то неладное случилось с землей. Почему же тогда провал? Да, помнит осязательно ласкающую шершавость теплого асфальта. Если пустить бесконечную черную ленту на большие обороты, она хорошо шлифует кости и железо. Кость не болит во время шлифовки, вот мясо дергается и чавкает, запуская воздух, а потом загибается во влажные лохмотья и лоскуты. Но это не больно. Зато кость шлифуется по плоскости отлично, быстро и гладко.
Но странно: что было потом, Казах ничего не помнит. Абсолютно ничего. Это страшное слово «абсолютно». Когда его ненароком произносишь, оно тебе назло, материализуясь, начинает разрушаться на куски. Сначала этот обломок мнится, никудышно-неправдышный. Но потом он реализуется в ударах сердца, монотонной настойчивость капельницы и рутинных кинокадрах окружения. И эта боль еще, если бы не эта боль. То ноет, то свербит, то дергает. К чему эта боль? Эта боль – враг. Нужно убить эту боль. Еще одно страшное слово: умертвить. И она умирает, исчезая не вдруг, а постепенно, но всегда неожиданно, с облегчением. Говорят, что на самом деле она никогда не пропадает, а просто видоизменяется. Чудно! Переходит в другое измерение. И Казах явно и ясно ощущает границу между живым собой и мертвой половиной. Она проходит по правой стороне лица за носом. Нос – еще живой Казах, а за ним – граница, а за чертой – мертвый Казах. Опять страшно. Но потом этот ужас перестает пугать. И приходит другая, видоизмененная боль. Появляется скорбная мать, и бесследно исчезает молодая жена. А он о ней думал. Он ее ждал. Сучка рано его похоронила. Она любила живого Казаха, если только любила, и не хочет любить живого и мертвого Казаха.
И Казах впервые в жизни познал Неудачу, цежа зловещую цепочку ее будней, когда каждое звено цепочки обостряет ощущение границы между живым и мертвым Казахом. А к тому времени Казах уже решил убить свою мертвую половину. Вернуть молодую жену, хотевшую любить только живого Казаха, сесть на сверкающего скоростного коня, оседлать степь и удачу, удачу, удачу.
Как недавно он был на коне, только шесть дней провала и реанимаций, всего лишь три месяца штопки и латания и однообразных госпиталей всех рангов.
Прошло так мало времени, а желанный юрфак уже в далеком прошлом, вечным сном спит перламутровый стремительный конь на обочине черной ленты, и новый удар – у молодой жены в городе появился новый муж, и как будто в издевку над ним – студент юрфака. Убить никому ненужную боль.
Но кто возьмется укокошить мертвого Казаха, а значит уничтожить эту острую грань и превратить ходячее кладбище в молодого жизнеспособного Казаха?
Кто не видел корявой однобокой улыбки страдания, тот не поймет этой обрыдлой боли.
Своей уверенной непобедимостью эта боль разъедает мозг, напрягает оставшиеся нервы, озлобляет их против мертвого тройничного нерва.
Обыденное присутствие сатанинской боли пестует жажду мести. Всем необходимо воздать по заслугам: отомстить молодой, неверной жене и ее мужу, будущему юристу, рассчитаться сполна с гордым шофером на высоченном сиденье междугороднего «Икаруса».
И Казах после долгих поисков нашел женщину, способную убить его мертвую половину, оживить его бесчувственный тройничный нерв.
Профессор осмотрела его и твердо сказала: «Буду делать!» Это был профессиональнаый азарт. Так Казах попал в эту клиническую больницу, а точнее – в палату И. О. В. Если Пацан – это живая кандидатская диссертация, то Казах уже тянет на докторскую, потому Профессор и решительно взялась за него. Ее нисколько не волнуют рассуждения о живом и мертвом раздвоении, она просто прибрала к рукам любопытный экспонат.
Казах достаточно повидал светил медицинской науки, обивая пороги ранжированных клиник. Маститые профессора собирали вокруг него консилиумы, авторитетно изрекая всевозможные диагнозы и методы лечения. Но на практике они скисали, тяготея к спокойному администраторству, или оказывались умозрительными учеными.
Профессор же не теоретик. Если бы она не делала искусных операций и не имела беспрекословного авторитета у низов, ее прозвали бы Профессоршей. Как утверждают лингвисты: профессорша – это жена профессора. А эта женщина сама делает операции. И если ее уважают коллеги, значит, она сильна. Да и как она может быть женой профессора, по ней не скажешь, что у нее имеется муж, возможны дети. У нее ледяные глаза, прокалывающие пораженную ткань сквозь круглые линзы очков в металлической оправе. У нее точные руки – продолжение скальпеля, а не наоборот. Голос, не терпящий возражений, и мозг, не понимающий примитива, вроде секса. Как можно любить чье-то пещеристое тело, вдохновляться детородными органами? Она не приемлет пошлой обыденности. Ее стихия – это ткани и нервы, члены и аппараты.
Еженедельный профессорский обход – это самое страшное событие в отделении. Это – Божий суд.
ГЛАВА II.
«А теперь дошло до тебя, и ты изнемог;
коснулось тебя, и ты упал духом.»
Книга Иова. Гл.4,5.
Казах усиленно готовился к операции. Сама Профессор, вероятно, меньше волновалась. Да и что говорить о ней, она – профессионал. Как думал Казах – холодная, рассудочная.
А у Казаха премьера. Дебютирует талантливый комический актер. Непосредственный и фактурный.
Операции делают в отделении в определенный день. Это – Четверг. К Четвергу готовят больных. Стараются сдать анализы до Четверга. Рассчитывают на Четверг, от Четверга ведут отсчет: сколько дней еще до операции, сколько дней прошло после операции, сколько дней осталось до выписки.
Казах оперировался уже третий Четверг. Судьба хотела видеть Казаха в палате И.О.В как можно дольше.
Над ним беззлобно потешалось все отделение. Есть среди населения палат тертые калачи – ветераны. Герои суровой больничной прозы. Они вроде бы любят по-детски веселиться, улыбаться и смеяться. Но, с другой стороны, смотреть на них не смешно. Многие из них с рождения живут в больнице, борясь с уродствами. Но есть и такие, что попали сюда, как Казах, – по велению судьбы. Пройдешь – не пройдешь испытание на прочность.
Они формируют общественное мнение отделения. Их приговор высоко котируется.
С одним из них подружился Боксер. Он из соседней палаты, где лежать челюстные. С переломами челюстей. Челюскинцы. Тоска. Нужно лежать с шинами 16 дней. И весь срок поглощать только жидкую пищу.
Нового приятеля Боксера звали Сашей. Он – Десантник, спортсмен. Сошлись на почве общих знакомых. Десантник тоже был знаком с Васей Директором, известной личностью. В Шанхае* (криминальный район города одноэтажной самозастройки. прим. авт.) почти все знали Васю Директора.
Десантник попал в компанию к челюстным путем Казаха. Впрочем сюда все попадают до неприличия однообразно. Прыгнув 68 раз с парашютом, Десантник ни разу не сломал ни руку, ни ногу, даже не покорябал носа. Но на гражданке, как он говорит, ему – так уж вышло – не подфартило. Демобилизовался, вернулся на родной завод, встретился со старыми друзьями, невеста не изменила ему, верно ждала два года – редкий случай. Дождалась. Приехал Десантник. Привез себя, живого и невредимого.
Спешно готовились к свадьбе. И тут Десантник отличился, бучу отчебучил, бухнул с ребятами на заводами, обмыли с ребятами, как водится, получку; показалось, как всегда, мало. Покинув завод, прошли через базарчик, где заглянули в пивнушку, добавили к уже выпитому, нашли новых знакомых и собутыльников, было весело. Последнюю дозу допивали за углом магазина. Говорили честные мужские слова. Пили рьяно, до капли. Смачно крякали и отирали губы. Казалось – крепкая братская кампания. Прощались поздно вечером, бесконечно пожимая друг другу руки. Едва Десантник отошел, как почувствовал сзади удар бутылкой по голове. Обернулся – получил плюху в лицо. И не видел, кто напал, в сгустившейся темноте. Не мелькали агрессивные тени, не суетился в толкотне никто, рисуясь активностью, не было истеричных выкриков: «Дайте мне замочить!» Просто автоматически вылетали руки из мрака и били примочками в лицо, в живот. Пьяный Десантник не успевал вовремя уклоняться от ударов и достойно отвечать, но пару раз – он это точно помнил – случайно влеплял в чьи-то рожи, пока не упал отфутболенный до бесчувствия.
И случилось-то это метрах в ста от дома. Кто-то из соседских детей прибежал и сказал его матери: «Ваш Саша избитый лежит».
Когда Десантника принесли домой и отмыли от ошметков грязи, кожаной куртки на нем уже не было.
Каждый второй пострадавший попадает в неотложку ночью. Скольких из них привозят в пьяном виде, не знает никто, статистика не ведется. «Больным, поступившим в клинику в нетрезвом состоянии, больничный лист не выдается», Это цитата из правил медучреждения. У Десантника стоит такая отметка в истории болезни, и ему теперь дадут не больничный лист, а справку. И это известие Десантник выдержал стоически, как очередной удар в полосе невезения. Мало того, что избили, челюсть сломали, куртку украли, так еще и неоплачиваемую справку дадут.
Десантник упорно надеялся на изменение обстоятельств, на появление жизненного просвета, на то, что он преодолеет эту несчастную полосу, вырвется из капкана. И вроде бы все у него уже шло нормально. Ему поставили шины сразу же, ночью. Поместили к челюстным, и он начал тягостный отсчет дней. На жестокое правило он нисколько не обиделся, сказал, что ему и этой паршивой справки хватит. Горячился.
Навестили ребята с завода, сообщили, что украденную куртку уже нашли и принесли домой. Мимо ушей пропустил это известие. Все равно решил на другой завод перейти. Как он теперь будет людям в глаза смотреть? Без году неделя на предприятии, а уже напился и подрался. «Алкаш», – так и запишем в трудовой книжке. Нечего надеяться на снисхождение товарищеского суда.
Но одна мысль свербила в черепной коробке, не давала покоя, изводила Десантника. «Как бы рассчитаться с негодяями?» День и ночь он оплачивал долги, мысленно мстил, изобретая ситуации. И поведал Бокосеру о своих обидчиках. Он клялся их найти. И не сомневался в своей силе. Говорил, что отыскать их будет труднее, чем отомстить.
Невеста его приходила регулярно, отпаивала соками и бульонами, как сына. И Десантник даже обижался на нее за чрезмерную заботливость, чувствуя плохо скрываемые, ехидные ухмылки челюстных. Нервничал, дергался, думая, что из-за теплой опеки невесты его начнут принимать за маменькиного сыночка. Циничный зэк с угловой койки даже обмолвился, что, если бы о нем кто-нибудь так заботился, он бы, не задумываясь, женился.
О своей поломанной челюсти Десантник мало беспокоился, считая, что на нем, как на собаке, все молниесно заживает: «Да, что там 16 дней. Быстро пролетят. Зарастет-затянется».
И вдруг этот чертов профессорский обход в Понедельник. Десантника отправили на рентген, и он недоумевал, как Профессор умудряется ставить диагнозы: то ли интуиция, то ли нечистая сила. У Десантника начиналось загноение мест перелома, но он больше досадовал на злополучный профессорский обход, чем на надоевший недуг.
А последовавший за рентгеном приговор был суров: рвать пять зубов. В страшном сне привидится – не проснешься. Никаких наркозов, никаких уколов. Даже времени на аутотренинг не дали. Зубы рвут в любой день. Десантнику рвали все пять сразу.
В принципе это не супер-мужчина. Без мощных бицепсов, среднего роста. Заурядный мужик, на которого симпатичная женщина даже бы и не взглянула. Разве что ухмыльнулась бы, заметив небесно-голубые, по-детски невинные, блюдца-глаза. Он отличался такой же детской доверчивостью. Его и самцом-то не назовешь. В нем мало грубого, самодовольного начала. Слишком мало от зверя. В палате челюстных Десантника уважали за непревзойденную стойкость, но в силу своей наивности он служил объектом постоянных насмешек. Общественное мнение, выявив его качество «не обижать мухи», эксплуатировало эту черту его характера в корыстных целях. Нужен же повод для развлечения.
Обычно начинал заводит Десантника Таксист. Таксист – мужчина пожилой, еще из фронтовых шоферов, взрослых детей имеет. Но никакой солидности. Таксист – сторонник мужицких соленых шуток, подколок, беззлобных издевательств.
– Ты гля на свою рожу, Сань. Чо эт у тебя левую сторону раздуло?
Доверчивый Десантник лез в тумбочку за зеркалом и спрашивал:
– Где?
Все челюстные по очереди с серьезными минами заглядывали ему в лицо и уверяли, что действительно раздуло не то левую, не то правую сторону.
Обескураженный Десантник шел за советом к Боксеру в соседнюю палату И. О. В. Тот никогда не обманет. Только сверившись с мнением Боксера, он успокаивался и умиротворенный ложился на свою кровать, читал «Технику – молодежи».
Но Таксист был дока. Выждав паузу, он опять начинал свои подколки. Затрагивал больную тему любовных отношений Десантника, высмеивая его пассивную роль. Затем вспоминал какую-нибудь похабную поговорку и направлял ее острие против Десантника: «Лучше выпить пива литр, чем сосать соленый клитор. Правда, Сань?» Челюстным это нравилось – скучно. У них палата дружная, коллектив спаянный, даром что рта не раскрывают, болтают без умолку. Их оживленный разговор – это гусинный шип сквозь шины, сковавшие челюсти. Ночные медсестры не любят эту перенаселенную палату: слишком долго они гомонят после отбоя. Таксист начинает травить анекдоты, которых он знает бессчисленной множество, а остальные продолжают по кругу, давясь от смеха.
Или Таксист начинает поддевать Десантника за его форму одежды. В больнице, как в армии, она у всех должна быть одинаковой. Все челюстные, и Боксер в том числе, ходят в синих куртках и широких, как Черное море, семейных штанах. Семейных, потому что туда можно вместить больного вместе со всей его семьей. Под синими крутками белые исподние рубахи без пуговиц. Еще полагается теплый халат для выхода на улицу. Но халатов на всех не хватает. Как всегда – нужная вещь в дефиците. Таксист всегда ходит в халате, как уважаемый: весовой мужик. А вот Десантнику халата не хватило, поспел к шапочному разбору, потому и ходит от в твидовой куртке и спортивных штанах. Индивидуал. За эту его обсобленность от коллектива Таксист часто подкалывает Десантника, пока тот измученный не отворачивается к стенке, раздосадованно качнувшись на кроватной сетке.
Спать можно после обхода и до обеда, если делать нечего, после обеда спать вообще полагается по распорядку, при желании можно валяться и до ужина, но вот после ужина спать уже нельзя. Опытные люди не советуют: вредно для здоровья. Можно, конечно, сходить в Вторую хирургию телевизов посмотреть. Это недалеко, в следующем корпусе. В хирургической стоматологии телевизора нет, наверное, по бедности, или с учетом хулиганского контингента. По вторникам и пятницам в клубе крутят кино. Это тоже рядом. Вот тогда-то и пригождается халат. Зимой не очень-то побегаешь в клуб без теплого халата. Да и в кинозале можно закоченеть. Десантник пошел однажды с Боксером в клуб на французскую кинокомедию, уселись удачно около теплой батареи, но на середине фильма в дверях закричали: «Десантник, на выход!» «Невестна приперлась», – зашипел Десантник. Боксер ухмыльнулся: «С бульонами и соками». Место Десантника сразу же занял Таксист. Как только разглядел в темноте теплое местечко?
Казах в кино не ходит: не может до конца фильма высидеть. Его любимое занятие – забивать козла. Эту всенародно любимую игру обычно устраивают в столовой после ужина. За колченогим столом собирается избранная публика, локти кладутся на липкую клеенку и начинается выяснение основного философского вопроса: у кого домино. Вспоминают, кто куда передавал его, перекладывал, ныкал, кто играл последний. Дело доходит до крика. ОДно слово – разбираловка. Тогда Казах, из последних сил скрывающий свою однобокую улыбку, элегантным жестом вынимает домино из кармана своего теплого халата. Эффект поразительный. Немая сцена перерастает в булканье публики, которое тонет в передвижках, пересадках и размятии членов.
Азартный Казах приводит Боксера забивать в редких случаях, только когда не хватает партнеров. В доминошном «козле» Казах – ас. Он умудряется всех держать, подает партнеру условные сигналы, что запрещено, при этом искусно пользуется мимическими средствами всего лишь половины лица, и первый победно заканчивает. У него единственный достойный соперник из всего отделения – Таксист, да и тот после третьего подряд поражения кипит, шипит, выкуривает пачку сигарет и плохо спит потом ночью.
Как-то от скуки Боксер и Казах взяли «забивать» Десантника. Но это был последний случай в его жизни, когда он брал домино в руки. Даже видавший виды Казах перестал улыбаться. Простодушный Десантник открывал ходы соперникам и закрывал соответственно партнерам. Будто грелся в грезах у невестиного бочка. Таксист, бывший в соперниках, от свалившегося с небес фарта возбудился до крайности. В кои-то веки счастье привалило. В блуждющих глазах Десантника он легко прочитывал все замышлявшиеся комбинации. Изысканное общество, собравшееся полюбопытствовать на богатырский хохот, с позором изгнало Десантника из столовой. Проигравший Казах даже закурил в расстроенных чувствах, выпуская сизый дым правой половиной рта.
После этого конфуза Десантник домино в руки не брал. Он перешел на шашки с Боксером. Скучая по своей Марине, Десантник все же старался поскорее выпроводить ее из палаты, потому что, завидя ее, челюстные неожиданно вспоминали про забытые дела и подозрительно организованно улетучивались из палаты. Таксист напяливал халат, раза четыре многозначительно «кхэкал» и докладывал Десантнику, что сдавал утром кровь на сахар, а результата еще не знает, или что его беспокоит политическая ситуация в Гондурасе, и надо бы посмотреть новости по телевизору. После этих двусмысленных маневров Десантник не мог долго сюсюкать с невестой. Когда она наконец уходила, он брался читать «Технику – молодежи», но мысли его рассеивались, и он не мог сосредоточиться. Тогда он брал шашки и шел в палату И. О. В. к Боксеру. Боксер всегда выигрывал, и Десантнику становилось неинтересно.
Одаренный в спортивном отношении Боксер неплохо играл также и в шахматы. Тут даже хитроумный Казах ничего не мог поделать. Ему не помогали отчаянные попытки украсть с доски фигуру, возвраты ходов и прочие ухищрения из арсенала опытного мухлевщика. Но все отделение хранило в памяти тот единственный случай, когда Казаху все же удалось выиграть у Боксера в шахматы. Боксер, атакуя, давил по всему фронту, в воздухе пахло матом. Казах нервничал, отчаянно защищался, а Боксер обдумывал три варианта выигрыша, но следующим ходом зевнул, поставил своего ферзя под вилку и «подарил» его Казаху. Победные комбинации улетучились, и Боксер со злости сдался, чего раньше никогда не делал, потому что темпераментный Казах тоже мог в последующем зевнуть фигуру, и положение еще могло выравняться. Гордый Казах красочно оповестил все отделение о своей великой победе.
ГЛАВА III.
«Но человек рождается на страдание,
как искры, чтоб устремляться вверх.»
Книга Иова. Гл.5, 7.
С приближение операционного дня Казах ужесточил интенсивность подготовки к этому ответственному событию. Решался для него жизненно важный вопрос, и он не хотел, чтобы исход зависел только от Профессора. Казах так долго искал ее, так униженно упрашивал сделать операцию, что теперь, в предчувствии решительного рывка, не мог не добавить к ее уверенности собственной энергии.
Ночью Казах не давал спать мучавшемуся от боли Сварному, чего тот ему не прощал и не допускал никакого сближения. С Боксером и Пацаном совсем другое дело: они не страдали от внутренних травм и бессоницы и могли заснуть, едва коснувшись головой подушки. Только они могли вытерпеть очередную серию ночных анекдотов Казаха о похождениях Великого Сыптырмергена. По негласной договоренности оба внимательно слушали его, изредка прерывая рассказчика лишь для того, чтобы уточнить второстепенные детали, к подвигам касательства не имевшие. Но когда наступал момент «соли» анекдота и надо было грохнуть взрывом смеха по поводу остроумия героя или заржать застольной ржачкой насытившихся жеребцов, молчание в палате И. О. В., организованное Боксером и Пацаном, становилось не то что мертвым, – гнетущим.
Озадаченный тишиной Казах терял ориентацию в психологическом пространстве. Он думал: анекдот, всегда имевший успех в родном ауле, что называется, «не дошел» до благодарных слушателей, – и ждал наводящих вопросов, чтобы растолковать болванам изюминку. Но затянувшуюся паузу никто не прерывал, а то, что «инвалиды» Отечественной войны корчились, давя в себе смех, анекдотист в темноте не видел. Напряженный анализ приводил Казаха к мысли, что Боксер и Пацан уснули на самом интересном месте, но и в этом он не был полностью уверен, памятуя их наводящие вопросы. Оскорбленный таким бесчувственный отношением Казах замыкался в себе. И тогда, уловив его реакцию, два заговорщика взрывали ночь здоровым, не больничным вовсе смехом.
Обиженный Казах вновь поднимал голову с подушки, доверчиво присоединялся к веселью, издавая довольные утробные звуки, и не сомневался, что это его остроумный анекдот наконец-таки дошел до слушателей. Больше всего он смеялся над тугодумием своих товарищей.
Происходило это примерно так.
Казах: Вчера ишак по стене забрался.
…Молчание.
Казах: Ишак вчера по стене забрался.
…Молчание.
Казах: По стене ишак вчера забрался.
Затянувшееся молчание. Обидчиво тренькнули пружины казаховой кровати: опять они не поняли великий анекдот Сыптырмергена. Тогда-то и происходил знаменитый взрыв хохота: Ва-ха-ха-ха. Казах отзывался в ответ своей правой стороной: Гы-гы-гы. Брызгал слюной сквозь уродливые губы Пацан. Боксер раскачивал, содрогаясь от смеха, койку так, что позвякивали стаканы на тумбочке. Недовольно скрипела только постель Сварного: «Людям спать мешаете. Совесть имейте.» Он поворачивался на другой бок. Все знали, что ночью у него обострялись гловные боли после удара тупым предметом по затылку. И ничто не помогало ему: ни болеутоляющие лекарства, ни дешевое красное вино – «бормотуха». А в коридоре уже слышались возмущенные шаги ночной медсестры: «Опять вы, первая палата, всему отделению спать не даете!»
Первая палата болтливых челюстных уже наполовину уснула. Одним из первых засыпал Десантник, утомленный подколками Таксиста. Таксист входил в ту половину челюстных, которая еще бодрствовала, он круче всех реагировал на незаслуженное замечание: «У нас спят уже все. Это не наша палата». Приглушенным ворчаньем он добавлял нецензурное пожелание в адрес «инвалидов». Дежурные медсестры привыкли, что окрики в основном требуются челюстным, вот и сейчас дежурившей Коротышке и в голову не могло прийти, что это резвится палата И. О. В., которую обычно не видно-не слышно.
Коротышка пользуется у больных авторитетом. Физически обиженная Богом, она божественно делает внутривенные и внутримышечные уколы, как пушинку сдувает с ладони. И почувствовать ничего не успеешь. За это волшебное умение ее ценят. И характер у нее довольно покладистый, никогда не настучит завотделением на того же Сварного за пьянство, например: «Нарушение режима! Нарушение режима!»
Со стонами и скрипами больница погружалась в забытье. Первым в палате И. О. В. заснул тревожным сном Сварной. Скоро жестокие головные боли поднимут его. Он поворчит спросонья, начнет ритуально разминать сигарету, еще сидя в постели, и отправится в туалет курить.
Пацану в последнее время снятся радостные сны, в которых никогда не фигурирует осточертевшая больница, а сам себе он представляется абсолютно нормальным и симпатичным, без проклятой заячьей губы.
И привиделся ему родной шестой «В» класс в старой школе из тех, где любят хвастать укоренившимися традициями, парадными пионерскими линейками и показательными ленинскими комнатами, но где вас сразу же обволакивает аура прогнившего лицемерия и в памяти остаются только сумрачные коридоры и вонючие туалеты.
Была большая перемена, и Пацан играл с ребятами в футбол на одни ворота, которые заменяла классная дверь. Команда Пацана проигрывала с сухим счетом 6:0, и Пацан очень нервничал. В команде соперников играл его сосед по парте Будка, друг-враг, он все время водился с Пацаном, а обводя толкал и пихал еще его вдобавок. Но Пацан настырно лез снова и снова отбирать у Будки мяч, пока не обхитрил того и не забил гол, размочив счет.
Потом мяч от ноги Пацана вертляво отлетел в дальний угол класса к стендам, и угловой пошла подавать единственная игравшая девочка по фамилии Ласточка. Пацан тоже пошле к месту подачи. Ласточка разбежится, ударит по мячу в надежде навесить его на ворота, а Пацан шустро подставляет ногу, и мяч опять уходит на угловой. Тогда не выдержали нервы у партнера Пацана по кличке Ходжа. Он подбежал к Ласточке и, горячась, заорал: «Ты играть будешь, или ты выпендриваться будешь?» И Ласточка решила не подавать угловой верхом, а ударить пыром, чтобы Пацан не успел подставить ногу под удар. Она не знала, что ответить пылкому Ходже, и молчала. Но тут влез Пацан с неожиданным замечанием: «Стриптиз она будет показывать!» И поднял свой красный свитер до уровня груди. Получилось театрально.
Эту наглость Ласточка не могла оставить без ответа, тем более что ее команда вела в счете, и она заключила: «Пацан – дурак, дурак, а современный».
В следующем игровом эпизоде, когда Пацан прорывался с мячом к воротам, то есть к двери, Ласточка напала на него сбоку, и в отборе мяча начала проводить силовой прием, давя на плечо Пацана своей упругой подростковой грудью. Пацан почувствовал, как плечо его передает электрические импульсы всем частям тела, и оно немеет, а мозг затуманивается. Пацан замер, а Ласточка ловко выбив мяч у него из-под ног, сама устремилась к воротам.
«Растяпа!» – выкрикнул темпераментный Ходжа и бросился наперез девчонке. Он сумел отобрать у нее мяч и теперь рвался к воротам, но путь ему уже преграждал Будка, и Ходже нужно было обвести еще и Будку, чтобы остаться одному перед воротами и спокойно заколотить банку. Ходжа периферическим зрением увидел, что сзади его страхует Пацан и, чтобы не завязнуть в обводке, он пяточкой откатил ему мяч под удар. Пацан замахнулся для сильного удара по воротам, вмазал что есть силы, мяч полетел в верхний угол ворот, в великолепную «девяточку». Но в этот момент дверь класса распахнулась, и мяч попал прямо в лицо Жабе. Жабой звали классную руководительницу шестого «В», где учился Пацан.
Футболисты в бешеной горячке не слышали звонка с большой перемены на урок русского языка, который вела Жаба. Классный журнла выпал из рук Жабы, очки сползли на нос, лицо сморщилось и покраснело, а потом ее очертания вообще стали расплываться, и Пацан подумал, что это в результате его сильнешего удара. Он приоткрыл зажмуренные глаза, но вместо мерзкого лица Жабы увидел очаровательную улыбку Нашей Женщины, которая гладила его по плечу и изучала последствия своего операционного вмешательства.
Наша Женщина была палатным врачом у И. О. В. и пользовалась их огромной любовью за доьроту и сострадание. Наша Женщина ворковала: «Ну, как у нас дела? Уже совсем хорошо. Скоро на выписку.» Она обратила внимание на то, что ни Казах, ни Боксер, ни Сварной так и не открыли отяжелевших век, и решила дать им еще несколько минут поспать, но, выходя из палаты, предупредила: «Сегодня профессорский обход. Не заубдьте!»
Казах продолжал сопеть. Ему снились цветные сны. Вернее – цветные сны видел только правый глаз и правое полушарие мозга, а левый глаз наблюдал лишь радужные круги. Калейдоскопическую карусель. Видит Казах сон, интересный и захватывающий, и вдруг посмотрит левым глазом, и поплывут, размножаясь, круги. И начнет беспокоиться разум Казаха от того, что спугнули сон правого глаза, интересный и захватывающий; разум Казаха начнет терзать волю, и воля, мобилизовавшись в едином усилии, переключит сенсорный переключатель на интересный и захватывающий сон.
Боксеру снился прозаический сон, как он рассказывает бесстрашному Десантнику о своем посещении врачебного кабинета: «Пришел Ки-Майкин, личность, так сказать, в мятом колпаке от санкюлотов. Властными жестами расшвырялся и сделал чересчур значительные глаза. Я ему не поверил. Есть два способа в лечении отсыхающих членов: отрезать руку и выращивать новую на чистом месте, или трансплантировать ее на спину. Это два основных способа, все остальное – варианты и вариации. Например: рука-глаз или щупальце с глазом на конце. Ки-Майкин захмурился, как жмурятся творческие импотенты. Затем он взял перо и написал глупость в истории болезни и всемирной истории. В глубине души он понимал, что обманывает сам себя. Но ему нужен был быльзам – доверчивые, вопрошающие глаза пациента с огоньком надежды на лезвии зрачка. Если больной смазывал бальзамом повиновения лживую язву в глубинке Ки-Майкина, то он начинал верить в свое предначертание, в чертовщину гипноза. Но если вдруг пострадавший оставался подлецки хладнокровным, то для него – для больного – не было спасения: Ки-Майкин мог погрузить перо в его бок, спутав бок с иторией болезни.
И даже в последнем случае Ки-Майкин сделал бы все ради спасения глупого человечества, идиотского по своей природе, не могущего не самоуничтожиться. Смешав стрихнин с микстурой, Ки-Майкин давал гадкому сопротивленцу этот настой под названием «Амброзия Сократа» и наблюдал досконально все дальнейшие физиологические патологии. Сначала больной, проглотив емкотуру чаши, морщился минутною гримасою раздраженных вкусовых ресиверов, затем лицо его вновь принимало самодовольное успокоенное выражение. Все это Ки-Майкин педантично заносил в историю болезни, – влпоть до конвульсий.»
Но Десантник не слушал эти пассажи Боксера, ему самому снились планетарные сны, донимали его только бредни Таксиста, усевшегося на спинку кровати и шептавшего Десантнику прямо в ухо: «Личности, Санек, бывают неприкосновенные и сомнительные, – это говорю тебе я, Таксист. – Неприкосновенные личности – это дельцы с мандатом от бога Кома, у него нет рук, и глаза непарные, расположены в непредвиденных местах. Сомнительные личности – это мартовские коты, гориллы чилийской хунты, акулы империализма и прочая свинская сволочь.»
Десантник застонал, выпростал из-под головы затекшую руку, сел на кровати, готовясь к прыжку, но члены тела не поддавались велениям разума, отяжелевшие веки снова сомкнулись, голова моталась из стороны в сторону на безвольной шее. Расслабленным движением он смазал пальцами испарину на лбу и опять повалился на смятую подушку. Таксист продолжал издеваться, терзая ухо Десантника своим мерзким шепотом: «Нефердибеб заключил джентльменское соглашение с Евнухтаусом. Почему Нефердибеб поверил ему, прожженному пройдохе, пройдошному прожженцу, продавшему в былые времена ребро двоюродной бабушки какому-то хлюсту с планеты Семафирм. Почему не приостановили его – Нефердибеба – схематические домыслы о гниющей лживинке Евнухтауса, петущастика завирального, биющего себя в пьяную грудь пяткой».
Этой чертовщины не мог выдержать даже воспаленный мозг Десантника, он сел, на этот раз с твердым намерением проснуться. Десантник поморщился от неприятной горечи во рту и промолвил:
– Этого не может быть. Ерунда.
– Может, Санек, может, – отозвался согнувшийся над своей тумбочкой Таксист. – Все может быть, Санек.
Таксист распихивал по карманам спички, сигареты, свернутые газеты для естественных надобностей, стакан для полоскания рта; шею он повязал вафельным полотенцем, – и был, таким образом, готов к нелегкому труду челюстного за выживание и обороне своих интересов от нахальных посягательств нянечек, санитарок, медсестер, врачей и больных-паразитов.
– Пойдем, Санек, умываться, – миролюбиво предложил снаряженный Таксист.
– Нет, нельзя на ночь читать фантастику, – заключил Десантник, обращаясь к самому себе.
Стряхивая сонное оцепенение, оживала больница. Задремавшая Коротышка очнулась над журналом учета больных. Ее дежурство кончилось, остались только утренние уколы и мелкие процедуры. Коротышка вздрогнула от внезапного хлопка двери, встала и пошла к трюмо поправлять свою высокую накрахмаленную шапочку. Броуновское движение больных учащалось, двери уже громыхали автоматными очередями. В курилке у лифта можно было вешать топор. Раздавался надсадный кашель заядлых курильщиков, тянувшихся со сна за первой. Компания курильщиков центровалась, как обычно, вокруг Таксиста, интерпретировавшего любые сны и знавшего причины всех болей и способы их устранения. У туалета выстроилась очередь. Вовсю журчала вода в умывальниках. Раздатчица спустилась вниз с гремящими ведрами. Пошел умываться Боксер перед славной молочной кашей. Начал мерить коридор шагами измученный за ночь Сварной. Пацана в это время могли видеть одновременно в нескольких местах, он обладал способностью раздваиваться. Везде успевая, он сумел разведать, что на завтрак предстоит пшеная каша, а последующий профессорский обход неминуем как восход солнца. Предваряя профессорский обход, палаты оббежала Коротышка, необычайно суетившаяся и переживавшая, что не гармонировало с ледяным спокойствием, которым она отличалась во время «горячих» уколов хлористого кальция.
Наконец, и в палату И. О. В. ввалилась толпа в белых халатах, перекрасив собой серые стены и мысли. Профессор в роли предводителя налетевшей стаи присела на ближайшую к двери кровать Пацана, придавив его взглядом к подушке. Казах, Боксер и Сварной скромно сидели на своих койках и проигрывали комбинации на пальцах. Больных представляла куратор палаты Наша Женщина. Красивые голубые глаза ее сверкнули холодным блеском, длинные аккуратные пальцы профессионально чистых рук запорхали по страницам истории болезни Пацана, она вычитывала актуальные места, пересыпая свою речь непонятными терминами. Для удобства Наша Женщина решила опереться основанием таза о спинку кровати Боксера, как раз там, где мирно почивале его кулак. Боксер ощутил засасыающую мякоть женского тела и разомлел от несвоевременных ощущений профессорского обхода: сексуальная атака застала его врасплох. Только Казах заметил расслабленную позу Нашей Женщины и вклинившуюся в стерильные округлости руку Боксера. Казах криво улыбнулся, заподозрив в действиях Боксера преднамеренность. Боксер метнул пару красноречивых молний в сторону Казаха, чтобы отвлечь его внимание, но Казах на них не среагировал, а решил, что и ему не хватает точек опор в этой жизни, и присоседился к руке Боксера, выдавая своей ущербной мимикой причастность к тайне. Казах как-то обмолвился, что Наша Женщина – самая красивая дама, каких он только видел за свою жизнь, но, по его мнению, немного худая. «Сколько тела от женщины нужно еще этом дураку», – подумал Боксер. Сварной о ней ничего не думал, ему было все равно, хоть колода в юбке березовая, хоть дама треф.
Наша Женщина закончила рассказ об удачной операции «заячьей губы» у Пацана, обращаясь в основном к Профессору, а не к толпе коллег, аспирантов и практикантов. Профессор внимательно изучила объект, дала высокую оценку, прокомментировала для практикантов методику операции и последствия и рекомендовала Пацана на выписку. Следующим по ходу белохалатой касты был Сварной. По поводу его внутренней гематомы завязалась ожесточенная перепалка. Сварно, натерпевшийся за дня госпитализации, требовал оперативного вмешательства, но Профессор резала его без ножа отказом ввиду тяжелой внутренней травмы. Сварной пытался ставить вопрос ребром: или операция, или выписка. Жестокий приговор Профессора обжалованию не подлежал: анестезии не перенесет. А потому – лежать, ждать, ждать, лежать.
Переместились к Боксеру, Профессор даже не взглянула на него, схватила историю болезни, изучила рентгеноснимок, просматривая его на свет, указала внимавшей массовке на места переломов и уникальный костный мозоль. Затем беседа перестала быть понятной для Боксера, Профессор долго совещалась с Нашей Женщиной, перебрасываясь незнакомыми терминами, при этом они передавали снимок друг другу. У Боксера вспотели ладони.
Профессор в очередной раз перехватила снимок и резким голосом обратилась к толпе аспирантов и практикантов, чтобы они обратили внимание на редкий случай. Пощупала нос предстоящей долбежки, глаза Боксера не попали в поле ее зрения, она отошла.
– Готовьте к операции под местным обезболиванием.
– Тут сложная операция будет, я предлагаю делать общий наркоз, – твердо возразила Наша Женщина.
– Ничего, потерпит, – поморщилась Профессор. – Жалеете вы их, что ли?
Белая масса рассматривала Боксера как тигра в клетке. Все норовили пощупать хрящ, переносицу и перегородку. Притомившийся Боксер сделал злые глаза. Любознательные несколько отхлынули назад.
Перешли к обследованию Казаха. Здесь уже был сложный случай, и Профессор поддалась азарту, она в деталях объясняла Казаху ход и задачи предстоящей операции, хотя, конечно, ему это было безразлично, потому что он все равно ничего не понимал: «какие-то нервы, куда-то их тянуть, перетягивать». Он не осознавал разумом, что такое тройничный нерв, только физически, через боль. Практиканты со вниманием вслушивались в оригинальные тонкости операции, но, казалось, они тоже мало что понимали в разжеванных объяснениях Профессора.
– В Четверг на операцию.
Казах аж радостно подпрыгнул на кровати. Сбывалась его вековая мечта. Профессор важно проследовала к двери, но внезапно вернулась. Еще не перестала радоваться за Казаха Наша Женщина, которой предстояло ассистировать на операции.
Профессор указала на маленький, пошлый, внимания не стоивший прыщик, выскочивший на щеке Казаха. Никто и не обратил внимания на этот прыщик, Наша Женщина не относилась к этому мелкому явлению настолько строго и называла подобные прыщики «хотенчиками». Это ушедшая жена Казаха проявиалсь гнойным стерженьком на самом видном месте. Казах еще не был знаком с этой привередливой особенностью Профессора, она могла снять с операционного стола больного, если вдруг заметит какой-нибудь гнойничок или невинную царапинку. И вот сейчас по одной интонации возгласа: «А это что такое?», – все поняли, что шансы Казаха на долгожданную операцию упали до нуля. Бросилась умолять отменить немилосердное решение Наша Женщина. Но это все бесполезные варианты для успокоения слабонервных. Наша Женщина вернулась непритворно раздосадованной, после отторжения Пацана ее любимым пациентом становился Казах, на него она была готова направить свою лучистую энергию:
– Невезучий. Протри одеколоном. Надо же, как не вовремя. – Она присела на кровать Казаха и обняла его за плечи. Глаза Казаха наполнились слезами. Все рушилось. Все кувырком. Все под откос. Если бы знать причину невезения…
Сварной и Боксер мысленно жалели его. Только не умевший скрывать своих чувств Пацан хохотал. Казаха преследовал какой-то рок, и Пацану казалось смешным, что Казах не может усилием воли выйти из этой полосы неудач.
Когда Наша Женщина вышла из палаты, Казах собрал все наличествующие маленькие зеркальца, выстроил их в ряд на своей тумбочке, оглядел отразившуюся физиономию в разнообразных ракурсах и выдавил злосчастный прыщик, прижег ранку на щеке одеколоном и побежал за Профессором, надеясь хоть на какой-то шанс. Подождав ее на выходе из очередной палаты, он эмоционально, но однообразно приставал к Профессору с предложением: «Посмотрите, у меня уже все нормально». После нескольких отчаянных попыток, когда Профессор дошла уже до палат, где лежат гнойные, он вывел ее из себя, она топнула ногой и раскричалась на Казаха, опустошая коридор металлическими нотами истерики. В палате И. О. В. притихли. Прецедентов еще не было, ну, а вдруг выпишет к черту на рога. Наша Женщина привела возбужденного Казаха в палату, подталкивая и увещевая. Она гипнотически успокаивала Казаха, нежно трепала его по мертвой щеке. Наша Женщина обладала талантом только одним своим присутствием наполнять палату атмосферой спокойствия и ласки. Пыл Казаха немного охладел.
Когда «инвалиды» вновь остались одни, Казах взял свое вафельное полотенце и, затянув его удавкой на шее, стал душить себя. Лицо его налилось кровью и побагровело, глаза выпучились. Сварной и Боксер с пониманием наблюдали за леденящей процедурой. Пацан, насмеявшись, первым стал беспокоиться за жизнь Казаха и бросился спасать его, умоляя прекратить испытание. Казах расслабил удавку и произнес:
– Нерв играет. – После чего повалился на койку, углубившись во внутренние переживания. Нерв играл у Казаха в этот день несколько раз. Дальше пошло реже. Больничное время бежит быстрее обычного.
Жизнь Казаха вошла в привычную коллею, но злило его и не давало покоя ему то, что операции всегда отменялись в последний миг, чуть ли не перед самым наркозом. Он усматривал в этом некую нарочитость. Казах употребил бы слово «рок» по отношению к себе, но в его лексиконе этого слова не было.
Следующий операционный день Казах пропустил не по своей вине. Произошла «накладка». Дежурные медсестры, передавая друг другу список больных на операцию, забыли внести в него главного героя. Имя Казаха должно было стоять в этом списке первым, но по неведомым причинам оно выпало из реестра живых и мертвых. Бедный Казах не ужинал и не завтракал, переживая эпохальный период. За полчаса до подъема дежурная медсестра будит оперируемых и ставит им клизмы. Эта унизительная процедура поджидала и Казаха, однако его в листе готовившихся к операции не было.
Казах пытался прорваться на операцию неоклизменным, но при жизни Профессора таких случаев еще не было. Кремень-человек. «Мало ли что ты не завтракал?» Профессор ничего не имела против личности Казаха, наоборот даже – он импонировал ей, как интересный материал. Она, агрессивно сверкнув выпуклыми стеклами своих круглых очков моды прошлого века, начала разгон медперсонала. Попало всем, кто попался под горячую руку. Шмыгнули в углы практиканты, пулей проносились по бесконечному коридору медсестры, врачи усиленно шуршали страницами журналов назначений и историй болезней, выпрямилась у входных дверей легендарная уборщица Маруся. До палат долетали обрывки визгливых фраз, одна из них застряла в рассеянном сознании Боксера: «Бардак – это наш стиль работы». Он вышел подивиться на привычный образ жизни медучреждения свежим взглядом чужака, но споткнулся пораженный потускневшим видом дежурной медсестры Коротышки. Она похудела и осунулась на глазах, стала совсем незаметной под своим высоким накрахмаленным колпаком, в обычные дни делавшим ее чуть выше.
ГЛАВА IV
«И есть несчастному надежда,
и неправда затворяет уста свои».
Книга Иова. Гл.5,16.
Казах с нетерпением ждал следующего операционного – уже решающего – дня. Ночи напролет он истово молился всем известным и неизвестным богам, грозился, что если сонм всевышних не пересилит тяготевший над ним рок, то он станет адептом атеизма. Переживал так интенсивно, что уже безбожно скрипела под ним сетка кровати, а погрустневшие боги лили крокодиловы слезы за окнами корпуса хирургической стоматологии.
Ранним утром противно моросящий дождь перешел в мелкий ядовитый снег, пребольно уколовший подрумяненные щеки вышедшей из подъезда хрущевки Нашей Женщины. Она подняла седой воротник из чернобурки и, прибавив шаг, сосредоточилась на предстоящей операции. Ее ждало ассистирование Профессору на уникальной операции Казаха.
А сам герой еще спал в это время, периодически постанывая, одолеваемый кошмаррными снами, порожденными нехорошими предчувствиями. Казах летел по бескрайней степи на своем сверкающем перламутровом мотоцикле-коне в сторону полыхавшего у самого края горизонта зарева. Кровавые отблики зарева по мере приближения мотоциклиста превращались в мазки дразнящих скорописью языков пламени.
Летящий всадник уже различал черные фигурки людишек, мельтешащих на раскаленном фоне шатра. Вдруг одна дерзкая марионетка выделилась из хоровода и метнула в низком полуприседе железный лом под ноги могучему кентавру. Казах газанул по инерции, но «Ява» уже против его воли вздыбилась в немыслимом антраша, и непобедимый батыр вылетел из седла. Он унизительно шлепнулся плашмя, распластавшись на зеленом лоне травы, но как истинно степной человек, соединившись с истоком, только черпанул мощи земли, оживая после удара. Он приподнялся на карачки и сразу различил Нашу Женщину, совершенно обнаженную, с расстрепанными волосами цвета выжженного солнцем ковыля, на ее лице устрашающе метались отблески зарева, а бешеные зрачки пребольно покалывали Казаха рыжими пиками.
Богатырь задрожал, пораженный необыкновенной, невиданной наготой Нашей Женщины. Он привык к коричневой скупости поджарого тела своей бывшей жены, а здесь ошарашивающе блистала бесстыжая молочная спелость ядреной кобылицы, у которой каждая греховная выпуклость сочной налитостью. Узкие глаза Казаха совсем заволокло влажной пеленой истомы от ярких красок открывшихся тайн, лишенных полутонов и оттенков. Казах трусливо сжался, когда Наша Женщина склонилась над ним обессилевшим после каскадерского вылета из седла; он испугался расширенных зрачков ведьмы, взасос впившихся в его лицо. Не насытившись Наша Женщина толкнула его в грудь, будто труп, отпрянула от праха, безумно захохотав, и когда она откидывалась назад, достойные прелести ее зрелого предосеннего тела соблазнительно сотрясались.
– Это – Мертвый Казах, а мне нужен Живой Казах.
От ее хохота заходила ходуном степь. Натешившись, Наша Женщина смачно сплюнула в сердцевину пожарища. И зашипела на раскаленных головешках слюна презрения. В костре маялись стреноженным стадом практиканты, аспиранты, медсестры, поджариваясь в потрескивавшем пламени. Кожа их сворачивалась в жаре, обугливалось мясо, оголяя кости. На коленях елозила по черному песку и горько рыдала безвинная, добрая, всеми любимая повариха, многодетная мать. Наша Женщина подбрасывала вязанки саксаула в огонь и, пока пламя бесилось, пожирая топливо и жертвы, она била прутьями связанную Профессора. Казах не выдержал жуткого зрелища и истошно закричал:
– Не бейте, не бейте ее. Лучше бейте меня, убейте меня.
– Вставай, Казах, опять клизму проспишь.
Демонстрируя пример левитации, взлетел над кроватью мигом проснувшийся окошмаренный Казах. Пацан разбудил его до подъема, искренне сочувствуя роковым неудачам, преследовавшим Казаха. Да что Пацан? Вся палата И. О. В., все отделение, весь корпус переживал за него, выравнивая своим теплом энергетический дисбаланс, окутавший Казаха.
Взъерошенный Казах, криво усмехаясь половиной лица, боролся с взыгравшим нервом, и, одержав победу, побежал будить дежурную медсестру. Та спросила, недоумевая спросонья:
– Чего тебе?
– Мне клизму ставьте.
Заворчала Коротышка, освобождаясь от цепких объятий Морфея, пытаясь собрать в рассыпавшуюся цепь логических оков всеобъемлющее время и маленькую себя, разбитую и невыспавшуюся.
Еще не появилась на работе пунктуальная Профессор, а взбудораженный Казах уже был в «боевой форме» – по терминологии Боксера. Казах всех четко и безапелляционно предупредил, что если сегодня ему не сделают долгожданную операцию, то он покончит жизнь самоубийством.
Профессор окончательно настроилась тактически, предельно сконцентрировалась, подсознательно прося божественного благословения, но как формальная атеистка внешне чуралась изреченных формул, лишь махнула рукой, – можно начинать. «Черт с этим Казахом, надо же его спасать.»
Казах в эйфорическом состоянии, близком к наркотическому кайфу, не анализировал окружающей суеты синих халатов, готовившейся капельницы, боли от жгутов, сковавших его руки и ноги, нервного лязга инструментов, напоминавших слесарные. Боксер сказал бы о нем, что Казах поспешно умер до смерти, утопая в анашистском дурмане. Улетая, он все еще не верил в осуществимость операции, заарканенный замкнутым кругом времени.
Но время уже пошло, отмеряемое каплями физраствора, отрывистыми командами Профессора, позвякиванием хромированных побрякушек и манометром искусственного дыхания. Казах вышел из поминутного расписания пассивной терапии, попав в хирургический календарь множества направлений. Параллельное время овладело трупом, цыкая в сторону поникших ангелов: «Он безволен».
«А я волен мучаться бесконечно», – перебил депрессивный Сварной, меривший собственное время шагами по коридору. Встречные, деловито скользя по нему оценивающими взглядами, старались долго не задерживаться на его лице. Посмотришь – магнитом притянет -завязнешь – и начинает ныть сердце и болет другие органы.
«Ну, ты чо, чувак, – в блатном стиле встрял Боксер, – мы за тебя тут переживаем, болеем, если надо, подкинем тебе вольки. Я тут как раз Шопенгауэра взял почитать „Мир как воля и представление“. Очухаешься, я тебе все аналитически растолкую, даже твой степной менталитет одолеет параллельное время».
«Ерунда, Казах, – успокаивающе поддакнул Пацан, вошедший в оптимистический период, – все можно обмануть, ведь нас тоже водят. Вот меня, например, оболгали с рождения „заячьей губой“. Но и увильнуть от всего можно, вот я же чухнул. Наверное, и от параллельного времени можно отбояриться».
ГЛАВА V.
«К страждущему должно быть сожаление
от друга его, если только он не оставил страха
к Вседержителю».
Книга Иова. Гл.6,14.
Боксер отвлекся, услышав подозрительно знакомые голоса, изъяснявшиеся на повышенных тонах, спрятал Шопенгауэра под подушку и выскочил из палаты. Верные друзья Боксера – Директор Вася и Шмаровой Леша, – не вовремя пришедшие его проведать, напоролись на активное противостояние самого страшного и самого сильного человека в больнице – уборщицы Маруси.
Легендарная Маруся – воплощение судебной, исполнительной и законодательной властей в одном лице. Она сама сочиняет диктаторские законы, сама следит за их неукоснительным исполнением и сама же немилосердно карает провинившихся. Только второй строкой в негласной чиновной иерархии отделения хирургической стоматологии идет Профессор, вслед за Марусей. Конечно же, первой при встрече здоровается Маруся, но – как? – с достоинством коронованной особы. Профессор же – как небожительница – не удостаивает житейские проблемы марусь своим вниманием. На этой негласной конвенции и строятся мифы взаимоотношений внутри больницы.
Дерзкий прорыв Директора и Леши в неурочное время, в грязной обуви, без белых халатов в святая святых, на Марусину территорию, донельзя обескуражил больничного прокурора. В зобу у Маруси сперло дыхание, лицо ее пошло красными пятнами, как у склеротика со стажем; она вся колыхалась от гнева, и обычно обладавшая боцманским красноречием, сейчас давилась бурлящими пузырями смешавшихся ругательств. Да и в общем-то бранных аналогов этой наглости нельзя было подобрать.
Пацан предсказал, что мстительная Маруся перенесет свою злость на Боксера, узнав, к кому посетители, – что взять с Директора и Леши? – а тот всегда под рукой – отыграется, повод найдется. Бедный козел отпущения! Несть сожаления! Маруся его покарает. Ей подвластен даже рок. Миф о владении рычагами рока Маруся тщательно поддерживает на уровне слухов. Вечерами в курилке у лифта среди дымящих гнойных, челюстных и послеоперационных в скафандрах из бинтов она рассказывает бесконечные истории о своих экстрасенсорных и диагностических способностях: привезут на скорой очередного пострадавшего, Маруся только глянет на окровавленного бедологу – жертву разбойного нападения или автомобильной аварии – и сразу изрекает: «Не жилец». И больной помирает. А то вдруг взбеленится, возьмет и вякнет всем наперекор: «Будет жить!» С того света самый безнадежный больной выкарабкивается. Привезли – раз было дело – одного алкашика-недотепу. Был он в свое время молодым и здоровым мужиком. Но под русского работягу пьяная коса – как целится – спился напрочь. После очередной безмерной попойки с такими же, как он, забулдыгами возвращался он домой на подножке автобуса, вцепившись в поручень дрожащими руками. На перекрестке, поворачивая налево, автобус встряхнул гроздья пролетариев, подпрыгивая на трамвайных путях, и алкашка, не удержавшись, вылетел навозным кулем из автобусного нутра, да прямо и на рельсы. В это время уже загорелсяя зеленый свет для трамвая, и пока алкашка кувыркался, гася костями инерцию падения из автобуса, подоспел трамвай, вволю поутюживший его решеткой и отплюнувший в сторону как пережеванную жвачку. Повезло алкашке, что не переехал его трамвай, а отбросил.