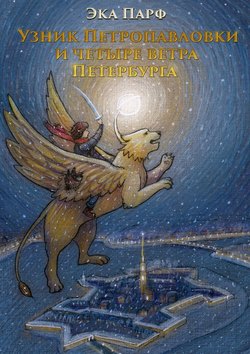Читать книгу Узник Петропавловки и четыре ветра Петербурга - Эка Парф - Страница 2
Ветви одного дерева
ОглавлениеИстория города – это разваливающийся старый особняк, в котором полным-полно комнат, чуланов, спускных желобов для грязного белья, чердачных помещений и всяких других укромных местечек… не говоря уже об одном, а то и двух потайных ходах.
Стивен Кинг, «Оно».
Коридор стих. Будто не было этих мучительных шести часов, когда стены старого дворца грозились разойтись в трещинах. Настолько невыносимы для мужского слуха были крики роженицы.
Двери комнаты для прислуги отворились, из них, хромая на одну ногу, вышла Марь Степановна – старая повитуха. Ходили слухи, будто в свое время она приняла Павла I. Марь Степановна вытерла руки о фартук и громко выдохнула.
– Ваша очередь, – кинула она камердинеру и исчезла в дверном проеме.
Георгий вошел в комнату для прислуги. На кровати лежала Лёна – так её здесь называли – девушка убаюкивала на руках новорожденного малыша. Того самого, которому она дала жизнь и более никогда не увидит. А он, в свою очередь, никогда не узнает ни кто его мать, ни, тем более, кто его отец.
Георгий Васильевич отодвинул занавески. Он бросил взгляд на улицу и произнёс:
– Бедный мальчик. Не успел родиться, как тут же осиротел.
– Он не сирота.
– Тогда уж и не бедный, – заметил Георгий Васильевич.
Этой же ночью младенца вынесли из дворца. Той самой парадной резиденции императорской фамилии, что до сих пор имеет место в городском ансамбле Петербурга.
Камердинер вышел из комнаты прислуги со свёртком в руках. Медленно открыв дверь в зал, Георгий высунул голову и огляделся по сторонам. Незаконнорождённые в стенах императорского дворца – дело житейское. И все же за всю историю этого самого дворца никто из августейших особ так и не поблагодарил прислугу за расширение царского династического древа.
Последняя закрывшаяся за спиной камердинера дверь жалобно заскрипела. Георгий обернулся на неприятный звук.
«Этим утром это надо будет исправить» – решил про себя он и уже сделал шаг, чтобы идти дальше, но обернулся.
На него смотрел фасад Зимнего дворца. Здания, в стенах которого на свет появилась не одна монаршая особа. Георгий взглянул на завёрнутого в шкурку оленя младенца. Каким бы очаровательным ребёнком тот ни был, но в этот дом он более не вхож. И вовсе не потому что пока ходить не в состоянии. Дверь, что только что со скрипом закрылась за ними, навеки вечные преградила этому ребёнку все пути как в комнату прислуги, где мать родила его, так и в имперские покои, где отдыхает его августейший отец.
Камердинер прижал свёрток к груди и двинул прочь от имперского дома – прямиком туда, где малышу будут рады – должны быть рады. В место, где он вырастет и даже не догадается о своём истинном происхождении. Впрочем, даже если и так, – кто ему поверит? Разве что историки спустя века разберут царский род по полочкам. Но это ведь невозможно. Кто их, простых людей, допустит до прикосновения к царской крови?
Из свёртка показалась пухленькая голенькая ручка. Маленькие пальчики, сжимаясь в кулак, схватили воздух. То ли в обещании вернуться, то ли, чтобы унести с собой частичку своей истории. Той самой, в которой его предки сделали Русь Российской Империей, превратив пожираемое Смутой государство в могущественную державу. Частичку той самой истории, о которой ему так никто и не расскажет.
Прочь из дворца, от Двора, подальше от питерской мороси – не просто климатического условия, но культурного явления – прямиком в пригород Петербурга. Туда, где вместо гранитных набережных деревянные заборчики, а с ролью царского дворца справится и скромный каменный домишко с цельной крышей, стенами и горящими каминами.
Только мороси, этой извечной петербургской напасти, там, за пределами столицы, уже точно не будет.
– Да зачем оно нужно? Там ведь так опасно сейчас! – всплеснула руками Нина Ивановна.
– Мам, это традиция, – отвечала Ирина Фёдоровна.
– Какая еще традиция! Ей сто лет в обед! Отправили бы мальчика лучше в пионерский лагерь. В наше время… – деловито начала бабушка.
– Мам, в ваше время только пионерские лагеря и были. И что ты устраиваешь? Он уже вернулся. Даже поздоровался, – Ирина Фёдоровна открыла посудомоечную машинку.
– По-русски хоть? – встрепенулась бабушка.
– Мам.
– Загубили душеньку русскую, – всхлипнула Нина Ивановна.
– Мамá! – донеслось сверху.
Нина Ивановна перекрестилась, дочь сделала вид, будто не заметила.
– Мы здесь, Николя! – отозвалась женщина. – Что случилось?
На кухне вырос худощавый юноша с копной темно-каштановых волос на голове и иссиня-чёрного смартфоном в руках.
– Я искал… – он указал на лежащие на столе ножницы. – Их.
– Ножницы, Николя. Это ножницы, – спокойно ответила Ирина Фёдоровна.
Нина Ивановна вновь перекрестилась.
– Как ты хоть? Скучал? – Взмолила бабушка.
Ирина Фёдоровна опередила сына с ответом:
– Отвык уже, наверно, от нашей мороси-то?
– В Париже… salement1, – вяло ответил юноша. – Но и тут уныние сплошное.
Бабушка вновь перекрестилась.
– Поди вещи разбери, через час запускаю машинку, – сказала мама и вложила ножницы в руки сыну.
Николя ушел, крутя перед собой ножницы, будто пытаясь запомнить русское название вместо привычных ему cisaille2.
Ирина Фёдоровна наклонилась к старухе и прошептала:
– Прекрати. Слышишь? Прекрати, говорю тебе!
– Но как же… русскую речь забыть! – положив руки на грудь, взмолила бабушка.
– Мам, он год проучился в Париже. Он по-русски только с нами по скайпу болтал. Весь тот год он даже думал по-французски. Чего ты хочешь от мальчика? Втянется ещё.
– Да ты мне ответь лучше, зачем вы вообще его туда отправили!
– Сама прекрасно знаешь, – буркнула дочь, включая чайник.
– Но не понимаю! Не понима-а-а-ю! – всхлипнула бабушка.
Ирина Фёдоровна повернулась лицом к лицу к пожилой женщине, заглянула ей в глаза и ответила:
– Каждый потомок Оленевых год проводит в Париже. Так уж повелось, что после 1917 года, мама, Оленевы перебрались во Францию.
– Да это сто лет назад было! Чего им неймётся?
– Я ещё раз говорю: традиция такая! – вспыхнула женщина.
Ирина Фёдоровна отошла к окну и уставилась в осенний Петербург. Окна их квартиры выходили прямиком в парк. Осень в этом году выдалась яркой, цветастой. Город обрядился в пёстрое красочное платье, отложив (только на время, конечно) воспетую ещё Достоевским рясу из серого угрюмого неба и холодных гранитных набережных.
«Совсем не по-питерски» – усмехнулась про себя Ирина Фёдоровна.
– Это ведь она всё это придумала? – опомнилась Нина Ивановна.
– Да.
Нина Ивановна недовольно хмыкнула.
– Сколько можно слушаться эту старую кошёлку?
– Имей уважение. От России у неё не лучшие воспоминания.
– Да какие воспоминания! Она в этой ихней Франции родилась!
– А в семье продолжали говорить по-русски, – с нажимом произнесла Ирина Фёдоровна. – Всё равно она княжна, мам. Имей уважение.
– Да при царе горохе княжной она была! А с внуком-то что! С внуком-то!
Ирина Фёдоровна отвернулась от окна и села за стол. Она посмотрела Нине Ивановне прямо в глаза и ответила:
– Им сильно досталось в семнадцатом. Княжна здесь так ни разу и не была. Сама знаешь, почему.
Нина Ивановна открыла было рот, чтобы возразить, но дочь её опередила.
– Она ему такая же бабушка, как ты. Ты водила его по Эрмитажам здесь, а она учила его французскому языку там. Всё честно.
– Тоже мне…
– Вот поэтому они так и не вернулись, – вздохнула Ирина Фёдоровна.
– Вы ему ещё ничего не говорили?
– Ещё нет.
Николя высвободил чемодан из защитной плёнки, достал оттуда зарядное устройство для мобильного телефона, отложил его в сторону, чтобы тут же забыть, куда именно.
Меж осенних свитеров и всесезонных джинс затесалось что-то блестящее. Нечто такое, что не имеет место быть в мужском багаже. Нечто такое, чего Николя в свой чемодан не клал.
В руках мальчика будто сам собой оказался кулон. С неровными краями, каменный, он продолжался длинной тяжёлой цепочкой. Николя перевернул кулон лицевой стороной.
– Пусто, – вслух удивился мальчик.
– Что это у тебя?
Николя поднял голову. Над ним, с кухонным полотенцем на плече, нависала Ирина Фёдоровна. Мальчик пожал плечами и протянул находку матери.
– Это не моё. Может, он бабушки?
– Да, – зачарованно проговорила Ирина Фёдоровна. – Случайно прихватил, наверное. – Она провела пальцами по медальону и вскрикнула.
Медальон выпал из её рук и рухнул вниз, на пол.
Ирина Фёдоровна прижала раненный палец к губам.
– Просто царапина.
– Края острые, – вскочил Николя. – Давай промоем!
Ирина Фёдоровна отмахнулась и вышла.
Николя поднял с пола медальон и ещё раз рассмотрел его края. Теперь они ему казались не такими уж и острыми. Он зажал безликий кусок камня в кулак, затем выпрямил ладонь.
Этот холодный кусок неживой природы будто упрямится, не желая показывать свой настоящий характер. На мальчика смотрела гладкая, без единой буквы, хотя бы царапины, каменная поверхность. Николя прокрутил в руках нерадивую безделушку и оставил её на столе. Он спустился вниз, в гостиную, куда с минуты на минуту должны были нагрянуть родственники с материнской стороны.
Как и Нина Ивановна, год назад они силились не отпускать Коленьку в чужеродную Францию. Их страшили новостные сводки о бегущих в Европу сирийских беженцах, захватах заложников и, наконец, явные экономические проблемы на территории всего Европейского Союза. Когда Великобритания объявила о своём выходе из ЕС, на Ирину Фёдоровну посыпался шквал звонков со всей её стороны с мольбами о скором возвращении Коленьки домой, в Петербург. Сам Коля, который откликался теперь на Николя, вместо посещения кинопремьер – то есть мест с большим скоплением людей – отныне предпочитал скачивать новинки из интернета, как только те там в хорошем качестве появлялись.
Тиканье часов в гостиной приближало приход доброй половины Колиной семьи. И пусть вечером он мечтал лишь об одном – рухнуть на кровать и пролежать на ней до самого утра. Подоспевшие к назначенному времени бабушки, тётки, деды и вся прочая родня Ирины Фёдоровны, не выпускала бедного мальчика из рук до самого обеда. Его зацеловывали, душили в объятиях, дарили совсем уж детские сладости, расспрашивали «об этом Париже», порой пожилые и не очень мужчины и женщины говорили одновременно. Не перебивали, не втискивались в разговор как бы ненароком, но говорили одновременно.
Николя вопрошающе посмотрел на мать, а та, отмахиваясь, бросила:
– Ну иди уже.
Настал тот заветный миг, о коем мальчик мечтал с момента приземления. Без всякого участия со стороны многочисленной родни Николя упал в объятия свежевыстиранного белья «с ароматом альпийской свежести».
«Альпы далеко не самое плохое место, чтобы скрыться от оравы скучающих родственников» – решил Николя, и провалился в сон.
Проснулся он так же неожиданно, как и заснул. Присев на кровати, юноша протер кулаками веки и огляделся. Его окружала кромешная тьма. За время его отсутствия мама привыкла держать его комнату с закрытыми шторами. Сам он, оказавшись в своей комнате впервые за долгое время, вовсе не обратил на это внимания. В комнату не попадал даже лунный свет. Тем не менее ничто не помешало мальчику вчера отведать копчёную форель, что вручили ему многочисленные родственники. Иссушенный организм требовал воды. В стакане, ведре, из-под крана – не столь важно.
Николя осторожно поставил ноги на пол. Холодное дерево обожгло ступни. Минуту спустя он уже стоял на своих двоих. Юноша всмотрелся в черноту перед собой. Казалось, до этой густой непроглядной тьмы можно дотронуться. Николя встал и, пошатываясь спросонья, сделал неуверенный шаг вперед. Ступни ног тем временем медленно превращались в ледышки.
Кое-как, по памяти, доковыляв до двери, Николя коснулся кончиками пальцев дверной ручки, как до его слуха донёсся невнятный шёпот. Мигом проснувшись, он прислушался. Невнятный шум повторился. Николя обернулся. Позади него, во всём пугающем величии, воцарилась тьма. Рука юноши машинально потянулась к включателю. Длинные пальцы нажали на включатель и комната озарилась светом.
– Эй, – прошептал он.
В ответ ничего.
«А что я ожидал услышать» – решил Николя.
Он уже вернулся к выходу, как шёпот повторился. Николя оцепенел, буквально вмёрз в пол. Шёпот становился громче, распространился по всей комнате, он обволакивал собой Николя, будто желая проникнуть в самый его разум, оглушить его, затмить собой все его органы чувств.
Его охватила паника. Руки не слушались, ноги вросли в пол. Бороться было бесполезно. Осталось только слушать. Николя закрыл глаза и весь обратился в слух:
…ведь твоё жилищ-щ-щ-е.
На моих костях.
…дом твой давит кладбищ-щ-щ-е —
Наш отпетый прах.3
Четверостишье повторялось вновь и вновь, всё отчётливее Николя слышал слова, всё глубже впивались они в его память. Чем отчётливее он осознавал, что с ним происходит, тем меньше верил в реальность происходящего. Шёпот становился всё громче. Николя не слышал собственных мыслей. Он потерялся в оглушающей пустоте, окружившей, поглотившей его, худощавого пятнадцатилетнего юношу. Казалось, поглотившей его навечно.
Николя очнулся на полу, у двери. Спина ныла, дала о себе знать пульсирующая болью шишка на голове. Он рассеянно огляделся по сторонам, затем вскочил на ноги и подбежал к окну. Резким движением он одёрнул шторы.
За окном стояла непроглядная ночь.
Из-за двери послышались шаги. Николя остолбенел. Мысль о том, что голоса могут вернуться, вынудила его сделать шаг вперед. Потом другой. Он повернул дверную ручку и вышел в коридор. Внизу, на кухне, горел свет. Мальчик тихо спустился вниз. По пути ему попалась длинная металлическая ложечка для обуви. Недолго думая, мальчик взял её с тумбы и двинул дальше. Приняв оборонительную стойку, Николя медленно прошёл к стеклянным дверям. До Николя дошли знакомые «щелчки» набора сообщения на телефоне и похрапывание старой кофемашины. Некто чувствовал себя как дома. Он не только успел заварить себе кофе, но и общался с подельниками через смс!
Сердце Николя сжалось. Желудок предательски булькнул, рискуя в тот или иной момент обнаружить их обоих.
Испугавшись ночного кошмара, Николя не думал отступать теперь. Теперь, когда все части тела его слушаются, а в руках у него настоящее оружие – лопатка для обуви!
Мальчик легонько нажал на дверную ручку и дверь отворилась. В щели дверного проёма стоял некто сто крат сильнее и могущественнее любого – даже самого потаённого – кошмара всех подростков.
– Мам? – тупо уставился он на Ирину Фёдоровну Николя.
Та вздрогнула от неожиданности и прошептала:
– Почему не спишь?
– Я думал, сюда кто-то забрался! – выдохнул мальчик.
– А, – будто очнулась Ирина Фёдоровна. – Я еду встречать папу. Думала, ты ещё спать будешь. Ты чего встал-то? Иди ложись. Ночь на дворе.
Вопреки ожиданиям матери, Николя замотал головой. Это был тот самый момент, когда подросток предпочитает семейную поездку хоть куда, к бабушке ли или сразу на Юпитер. Только бы не оставаться одному в большой тёмной квартире. Традиционно лучшим лекарством от просмотренного ужастика для Коли были сон с включённым светом и мультфильмами. Но это был не тот случай
– Так ведь ночь на дворе, – оторопел мальчик.
– Он приземляется в 5 утра, – вздохнула Ирина Фёдоровна. – А ты вообще спал?
В памяти мальчика всплыл прошлый вечер. Мама начала что-то рассказывать про папу, но ей не суждено было переговорить бабушку. Она что-то с придыханием рассказывала о мандаринах, которых им в Советском Союзе было вполне достаточно – и никаких тайских фруктов им не надо было. В этот миг мальчик окончательно потерял нить разговора с родственниками и принялся выковыривать из оливье зелёный горошек.
– Мне даже кошмары снились, – заверил он.
– Тогда поторапливайся. Нам скоро выезжать.
Николя бросил взгляд на проспект Энгельса, что недалеко от их дома превращался в Сердобольскую улицу. По обыкновению забитый автомобильной пробкой проспект пустовал, изредка по нему проезжала одинокая машинка. То ли её водитель спешил во вторую смену в один из ресторанов 24 часа, то ли торопился пересечь финскую границу, пока её не оккупировали голодные до финской форели петербуржцы.
– Пристегнись.
– Ну ма-а-ам, – запротестовал сын.
– Я сказала, пристегнись.
Нехотя, он послушался.
– Да ну мне ж не четырнадцать! – взмолил мальчик.
– Действительно. Тебе пятнадцать! – ликовала Ирина Фёдоровна.
Машина тронулась. Полоски света от фар скользили по нечищеным питерским дорогам. За год жизни в Европе любой отвыкнет от местной мороси, тяжелее этого только свыкнуться с традиционно грязными дорогами.
– Моим замшевым сапогам здесь больше не место, – кивнула Ирина Фёдоровна на дорогу впереди.
– А мы точно туда едем? – очнулся Николя, глядя в окно на пассажирском сидении. – Мы в какой аэропорт?
– Николя, – назидательно проговорила мама, – у нас один аэропорт – это Пулково.
– Но… – начал был было мальчик.
– Да, я знаю. Всего один аэропорт.
– Но всего один! Раньше я над этим не задумывался.
Губы Ирины Фёдоровны изогнулись в лёгкой улыбке.
– Свою страну начинаешь лучше понимать только после того, как увидишь другую. Я до 90-х годов и представить себе не могла другой жизни кроме той, какой жили мы тут. Я ведь и на факультет приборостроения в ИТМО пошла под влиянием того времени. Думала, вот она – профессия. Знала бы больше, пошла бы хоть на графического дизайнера, ей-богу.
– Ты жалеешь об этом?
– Нет. Но дискретная математика – это не совсем то, ради чего мне бы хотелось открывать глаза по утрам!
Они засмеялись.
Машина свернула с главной дороги и они оказались на узенькой улочке. Парковочные места пустовали, тем самым освобождая для взора самые настоящие дворцы, среди которых так или иначе затесался в полном смысле этого слова целый замок.
Солнце тем временем поднималось все выше, все отчётливее прорисовывались силуэты жилых домов, муниципальных учреждений и бывших резиденций царственных особ Северной столицы.
Как и большинство петербуржцев, Николя, который родился и прожил в граде Петра Великого большую часть своей недолгой жизни, величие родного города он воспринимал с чувством должного. За все 15 лет пребывания в Санкт – Петербурге он ни разу не сфотографировался рядом с Медным всадником, на Дворцовой площади он появлялся исключительно в составе школьной экскурсии, а Эрмитаж навевал на мальчика такую скуку, что он вовсе не замечал ни картин Да Винчи, ни купол Большой церкви, где венчался последний Российский Император. Единственный экспонат, о котором в его голове уцелели хоть какие-то сведения, была египетская мумия. Спроси его, кто поставил Петру I Медный Всадник – он бы и этого не вспомнил.
– А что это такое? – он указал на большое величественное здание.
Мальчик видел его далеко не в первый раз. Оно появилось здесь, на Садовой, 2, задолго до появления на свет отца, деда и прадеда Николя. Точнее, в самом начале XIX века. Принадлежал он тогда Павлу I – нелюбимому сыну Екатерины II. День его смерти стал для придворных и простых жителей Российской Империи настоящим праздником.
– Это…, – задумалась Ирина Фёдоровна. – Кажется, это Михайловский замок, – еле слышно ответила она. – Да, а там, – она указала пальцем на стоявший перед его фасадом памятник, – памятник Петру Великому. Я надеюсь, ты ещё не забыл, кто он такой?
– Ай, – отмахнулся Николя и уставился в окно.
– Да знаю я, ты не хотел возвращаться. Подрастёшь – сможешь уехать туда насовсем. Просто не сейчас.
– А когда? – раздражённо спросил сын.
– Я же сказала: когда подрастёшь, – спокойно отвечала Ирина Фёдоровна.
Машина свернула и они проехали перед замком. В окне во всём великолепии появился Пётр I. Этой ночью его фигуру освещала подсветка, что происходит далеко не всегда. В какой-то момент она отключилась и объёмная фигура всадника на постаменте обернулась тёмным силуэтом.
«Светает» – подумал Николя.
Город, со всеми его дворцами, музеями, парками, даже Смольный – всё погрузилось во тьму. Мальчик хотел было отвернуться, как внимание его привлёк не абы кто, а сам Пётр.
То ли бронзовая, то ли медная, фигура всадника, одобренная в своё время самим Петром I, шевельнулась. Не поверивший глазам своим, Николя протёр уголки глаз и прильнул к оконному стеклу.
– Мам, – прошептал он.
– М?
Ни то бронзовое, ни то медное изваяние дёрнуло рукой.
– Ты это видишь?
– Вижу что? – она обернулась к сыну. – Да вижу. Сотню раз уже видела.
Николя обернулся к матери с горящими глазами.
– Он шевельнулся! – выпалил мальчик.
– Три часа ночи.
– Говорю тебе, он шевельнулся!
– Три. Часа. Ночи. – напомнила Ирина Фёдоровна.
– Да я сам видел!
– Весь в отца. Такой же приколист, – кивнула женщина.
– Но… Ай! – Николя отвернулся от матери и проводил то ли медное, то ли бронзовое изваяние взглядом.
– Не думала, что скажу тебе это снова, но, очень тебя прошу, – спи!
Он смотрел в окно до тех пор, пока памятник не скрылся из виду. Николя схватился за голову. Тот ночной кошмар так и не выветрился из его головы. Час назад он был уверен – это был просто плохой сон. Никого в его комнате не было и не могло быть. Ему просто приснился кошмар – со всеми бывает. Теперь, увидев как памятник Петру I почти сошёл со своего коня, дабы прогуляться по залам близлежайшего замка, Николя начал верить, будто ночное происшествие – не кошмар вовсе.
– Тогда что? – вслух спросил сам себя он.
– Ты что-то сказал?
– Нет, – рассеянно ответил юноша.
Николя откинулся на спинку кожаного автомобильного сиденья и моментально уснул.
Три двери автомобиля одновременно захлопнулись. Николя пересел на заднее сиденье. Ирина Фёдоровна уселась на пассажирском сидении, водительское место занял Георгий Александрович.
– Может, всё-таки я поведу? Ты поспишь?
– Хорошая шутка. Пока ты за рулём, поспать мне точно не удастся.
Георгий Александрович отрегулировал сиденье, зеркала, руль и они уехали с парковки аэропорта.
Крупный и высокий отец семейства совсем переиначил обстановку в салоне. Слева от Николя теперь вовсе не осталось места. Всё пространство занял папа. Это был очень крупный мужчина. Его появление сложно было бы не заметить. Родись Георгий Александрович на несколько столетий раньше, его бы обязательно прозвали богатырём. Николя повезло унаследовать конституцию со стороны Ирины Фёдоровной – спортивной и невысокой. Что до её супруга, то уже этим утром жена посадит его на очередную диету.
Настроив всё под себя, он в водительском кресле уехал чуть ли не целиком в салон.
За окнами постепенно светало.
– Знаешь, что этот товарищ учудил? Он мне начал заливать про живых статуй, – успела доложить Ирина Фёдоровна до того, как её одолел страшной силы зевок. – Как ты когда-то.
Зелёные глаза Георгия Александровича бесстрастно уставились на пустую дорогу до Санкт-Петербурга. За плечами у него двенадцать часов перелёта, сутки в зале ожидания задержанного рейса и целая неделя не самых продуктивных переговоров с «их тайскими коллегами».
– Ха, – задумчиво отозвался Георгий Александрович. – И что на этот раз?
– Как что. Он мне сказал, что памятник двигается.
Оленев-старший задержал взгляд на отражении Николя в зеркале. Тот сидел на заднем сиденьи, скрючившись. Голова его упала набок.
– Коля?
Тишина.
– Какой памятник двигался? – всерьёз спросил он сына.
– У Михайловского, – сонно отозвалась Ирина Фёдоровна.
Георгий Александрович задумчиво кивнул и ответил как ни в чём не бывало:
– Ну, ничего. Давно ты у нас не был! Забыл небось всё!
Молчание.
Ирина Фёдоровна обернулась назад и покачала головой:
– Спит.
– Совсем спит?
– Кто его обрадует?
– Ясно, – кинул Георгий Александрович. – Мне этим заняться?
– Ну да, – отвечала жена.
– Я тоже что-то такое видел в его возрасте, – замялся отец. – Легенда есть. Будто памятник этот и правда двигается.
– В три часа ночи?
– Ну да. Он же памятник. Ему вообще некуда торопиться. Захочет – сойдёт с камня своего в три часа ночи, не захочет – там и останется.
– Жора, ты о чём? – спросила Ирина Фёдоровна с сомнением в голосе.
– Да ничего! – отмахнулся он. – Привидится же такое.
– М?
– Спи говорю! – шикнул он в ответ.
– Не хочу.
Георгий Александрович тревожно забарабанил пальцами по рулю.
– Ты не замечала за ним ничего странного?
– Странного? – переспросила Ирина Фёдоровна.
– Ну да… чего-то странного.
Ирина Фёдоровна открыла было рот, как салон залился жёлтым светом. Позади раздался автомобильный сигнал. Женщина подскочила на своём переднем сидении. Георгий Александрович резко взял в сторону. В салоне на заднем сидении рухнул на пол Николя.
Мимо них пронеслась машина.
Георгий Александрович просигналил хулиганам и готов был выругаться, как рука Ирины Фёдоровны оказалась на его плече. Он только громко выдохнул и дальнейший путь они провели в тишине.
Николя открыл глаза: салон автомобиля залил жёлтый свет фар. Мальчик беспомощно уставился в отражение зеркала заднего вида. Он всё больше верил, что приснившийся ему кошмар – не кошмар вовсе. Не сон вовсе. Что-то или кто-то было в ту ночь в его комнате. В комнате на последнем этаже охраняемого дома на севере Петербурга.
В памяти мальчика плотно засело четверостишье. Вместо того, чтобы выветриться из его головы как дурной сон, коему отведён срок в пару секунд после пробуждения, тот крепко засел в его памяти.
…ведь твоё жилищ-щ-щ-е.
На моих костях.…
дом твой давит кладбищ-щ-щ-е
— Наш отпетый прах
Николя мог повторить этот стишок из сна даже сейчас, и, как ему казалось, будет помнить ещё очень долго. В то время как одну из самых жутких ночей он помнил подетально, свои детские сны о горах мороженого или полётах на ковре-самолёте по Петербургу он уже никогда не вспомнит.
1
Salement – грязно (франц.)
2
Cisaille – ножницы (франц.)
3
Отрывок из стихотворения Я. П. Полонского «Миазм» (1868). В стихотворении описывается жизнь и смерть одного из первых строителей Петербурга – мужиков, пригнанных на строительство нового города на болотах из Ярославской и Вологодской губерний. Герой стихотворения умер в ходе постройки города и его призрак является в дом петербурженки, что стоит на том месте, где распрощался с жизнью рабочий.