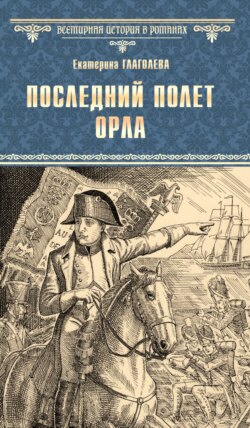Читать книгу Последний полет орла - Екатерина Глаголева - Страница 5
Глава третья. Бежать нельзя остаться
Оглавление– Кор-роль!
Депутаты из обеих палат и зрители на трибунах встали и обнажили головы. Медленными шагами необъятный Людовик XVIII приблизился к трону и поднялся по ступеням; Месье[4] и герцог Орлеанский заняли места по правую руку от него, герцог Беррийский и принц Конде – по левую. Вдруг наступила тишина, в которой ясно слышались глухие удары. Шатобриан не сразу понял, что это стучит его собственное сердце. «Эхо поступи Наполеона», – подумалось ему. Надо будет записать в дневник.
– Господа! – заговорил король неожиданно звучным голосом без признаков одышки. – В момент кризиса, когда враг общества проник в часть моего королевства и угрожает свободе всего остального, я явился среди вас, чтобы скрепить узы, которые, соединяя вас со мною, укрепляют государство. Обращаясь к вам, я объявляю всей Франции мои чувства и намерения.
За долгие годы изгнания Луи Станислас сумел сохранить то, что вывез из Франции: величавость и забытый всеми версальский выговор. Слушая его, Шатобриан уносился на тридцать лет в прошлое, в свое отрочество; вместо подпертых галстуком круглых щек, оттягивающих вниз уголки губ, и двойного подбородка перед его мысленным взором вставало суровое лицо отца, отторгающая фальшь парика, холодный взгляд…
– Я вновь увидел свое отечество; я примирился с иноземными державами, которые, не сомневайтесь, останутся верны соглашениям, вернувшим нам мир, – продолжал король. – Я трудился для счастья моего народа и каждый день получал трогательные свидетельства его любви. Смогу ли я в шестьдесят лет лучшим образом завершить свой жизненный путь, чем умереть, защищая его?
– Да здравствует король!
Одинокий возглас тотчас подхватили троекратно; стены огромного зала дрожали от дружного крика. Людовик улыбнулся и повел в воздухе ладонью, показывая, что хочет говорить дальше.
– Я не страшусь за себя, но я страшусь за Францию.
Внезапная тень погрузила зал в полумрак; все взгляды тотчас устремились к окнам – в них смотрела мрачная сизая туча.
– Человек, явившийся сюда, чтобы разжечь факел гражданской войны, – невозмутимо продолжал король, – навлечет на нас и бич иноземного нашествия. Он хочет вновь надеть на нашу родину железное ярмо; он хочет уничтожить Хартию, дарованную мною, – главную мою заслугу перед потомством, Хартию, дорогую сердцу всех французов, в верности которой я вновь клянусь сейчас здесь; сплотимся же вокруг нее.
Громкие восторженные выкрики слились в неясный гул; у Шатобриана заложило уши.
– Священное знамя отечества поднято и призывает нас! – восклицал Людовик. – Потомки Генриха IV поведут вас по пути чести! Отечественная война докажет своим исходом любовь народа к королю и к основным законам государства!
Сумрак так же внезапно рассеялся: тучу отогнало ветром. Вокруг освещенного солнцем трона бесновалась толпа, вопя: «Умрем за короля! Да здравствует король!» Шатобриан почувствовал, как к его глазам подступили слезы; он закричал вместе со всеми.
– Пусть король сдержит слово и останется в столице, – говорил он два часа спустя в гостиной Жозефа Лэне. – Национальная гвардия за нас. У нас есть оружие и деньги, на деньги можно купить слабых и алчных. Если король покинет Париж, Париж откроет ворота Бонапарту, а став господином Парижа, Бонапарт станет властелином Франции.
Хозяин дома, председатель Палаты депутатов, слушал его сочувственно, однако другие пожимали плечами и махали руками: Бонапарт надвигается семимильными шагами, позавчера он был в Маконе, вчера – уже в Шалоне; маршал Ней, последняя надежда монархии, переметнулся на его сторону, чтобы не идти наперекор своим солдатам! Коварный Фуше сумел сбежать от жандармов, потому что им не достало духу арестовать его, ведь прежде они служили ему! Королю нужно немедленно покинуть Париж и уехать в Гавр – нет, лучше в Вандею, где всегда были сильны верноподданнические чувства.
Со всех сторон сыпались несвязные обрывки фраз, в которых не было ни складу, ни ладу; чаще всего предложения сводились к тому, чтобы не суетиться и подождать, что будет… Как будто никому не ясно, что именно будет, если сидеть и ждать!
Сутуловатый Лэне походил в профиль на растрепанную ворону. Он не возражал этим мямлям, но Шатобриан сам видел одну из прокламаций Наполеона, где прямо говорилось, что амнистия, которую он намерен объявить, не коснется четырех человек: Лэне и Линша (мэра Бордо, сдавшего город англичанам), Мармона и Ожеро. Маршал Мармон, произведенный в пэры Франции, тоже был здесь; правую руку он держал на перевязи – давала о себе знать старая рана, полученная еще при Саламанке; плохо выбритое, отяжелевшее лицо с мешками под глазами красноречиво говорило о том, какие мысли не дают ему покоя. Даже в копошащейся гостиной вокруг него образовалась полоса отчуждения: с бывшим адъютантом Буонапарте не заговаривали и старались не встречаться взглядом. Шатобриан знал, что роту королевской лейб-гвардии, которой он командовал, с первых же дней прозвали «ротой Иуды», вместо «вероломная измена» теперь говорят «рагузада», поскольку Мармон носит титул герцога Рагузского; красавица-жена, оставшаяся бонапартисткой, покинула его, забрав свое приданое (она была дочерью богатого банкира Перрего), и маршал оказался один, без средств, выставленный на посмешище, да еще и недавно лишился матери, скончавшейся в Шатильоне. Рене возвысил голос, чтобы перекричать скопище малодушных:
– Армия еще не перешла целиком на сторону врага; несколько полков, множество генералов и офицеров не нарушили присяги! Будем тверды, и они останутся верны нам. Пусть Месье отправляется в Гавр, герцог Беррийский – в Лилль, герцог Орлеанский – в Мец; герцог и герцогиня Ангулемские и так уже в Бордо. Оставим в Париже только короля и запрем ворота. Буонапарте придется рассеять свои силы, а наш престарелый монарх с Хартией в руке спокойно будет восседать на троне. Вокруг него выстроится дипломатический корпус, Палаты займут павильоны дворца, каждая свой, королевская свита станет лагерем на площади Карусели и в саду Тюильри, на набережной поставим пушки – пусть Буонапарте нападает, захватывает баррикады одну за другой, обстреливает Париж, если у него есть мортиры; пусть сделается ненавистен всему народу, и вы увидите, чем всё кончится!
Кто это? Неужели генерал Лафайет? Шатобриан видел его давным-давно и мельком, еще при Учредительном собрании. Тогда генерал был молод и красив, сейчас ему, должно быть, около шестидесяти. Слегка раздался в талии, ссутулился, но всё еще бодр и не склонил поседевшей головы под ударами судьбы.
– Нам надо продержаться всего три дня, и победа будет за нами! – продолжал Рене, поглядывая в сторону «героя двух миров». – Если король станет обороняться во дворце, он всех воодушевит на борьбу своим примером. А если ему суждено умереть, пусть умрет достойно. Пожертвовав собой, он выиграет свое единственное сражение во имя свободы всего человечества. Пусть последним подвигом Наполеона станет убийство старика!
Лафайет подошел, чтобы пожать ему руку. Это было немного необычно: генерал не расстался со своими республиканскими убеждениями и не верил в Бурбонов, как Шатобриан, однако сейчас главным было остановить Буонапарте. Мармон и Лэне тоже заявили вслух, что согласны с виконтом.
В центре соседнего кружка витийствовал Бенжамен Констан. «Я охотно пожертвую жизнью, чтобы дать отпор тирану!» – донеслось до Шатобриана. Разговоры о том, как организовать сопротивление, продолжались и за столом – такие же бессвязные и бесплодные. Шатобриан и Лафайет сидели рядом, увлеченные беседой: генерал рассказывал о том, как прививает плодовые деревья в своем поместье Лагранж, а виконт хвастался магнолией с пурпурными цветами: на всю Францию таких деревьев только два – в Мальмезоне и у него в «Волчьей долине».
Если раньше тревожные новости казались камешками, со звонким стуком катившимися по склону, то теперь они превратились в оглушающую лавину. На следующий же день после речи короля герцог Беррийский возглавил все войска, находившиеся в Париже, и выступил с ними навстречу неприятелю, который был уже в Осере – в двадцати семи лье от столицы, однако сразу за заставой солдаты нацепили трехцветные кокарды и пошли вперед с криком «Да здравствует император!» Герцог поспешно вернулся, сопровождаемый только волонтерами. Трех фуражиров из числа королевских гвардейцев захватили в плен лансьеры-поляки: их полк сразу перешел на сторону императора, как только узнал о его прибытии в Санс. Гарнизон Фонтенбло тоже ждал Наполеона. Скрывать правду больше было нельзя: у всех на глазах один человек захватывал Францию без единого выстрела!
Император! Люди, двадцать лет шедшие рука об руку со смертью, заменили Бога кумиром. Чтобы вознестись на пьедестал, он сделал юношей, еще не выбравших жизненный путь, землепашцев и мастеровых солдатами, внушив им, что убийством и грабежом они добудут славу Франции, в то время как славу Франции веками взращивали и ковали земледельцы и мастера! И вот когда король-миротворец сократил число солдат и перевел их на половинное жалованье, они вновь простирают руки к императору, который дудит в полковую трубу, точно Гамельнский крысолов в свою свирель!
Короля забрасывали противоречивыми советами: одни побуждали его искать помощи за границей, другие – запереться в надежном форте, хотя сам он твердил, что не покинет Тюильри. С трибуны палаты депутатов говорили о том, что корсиканское чудовище, однажды отведав крови Бурбонов, жаждет упиться ею снова; ходили слухи, что сокровища французской короны уже упаковали; по лестницам павильона Флоры сновали вверх и вниз вереницы лакеев, похожие на муравьев, – куда, зачем? Никто не знал, что ему делать; жаждавшие совершить что-нибудь полезное не могли добиться указаний; молодые люди осаждали гвардейских капитанов, требуя оружия и приказов, – тщетно; Шатобриан столкнулся на крыльце с юным лейтенантом королевских жандармов в новеньком красном мундире с золотыми аксельбантами – в его глазах стояли слезы досады. Дамы бросались к каноникам, духовникам принцев, но и от тех нельзя было добиться ничего положительного; с некоторыми дамами случилась истерика.
Настало воскресенье – хмурое, туманное, плаксивое. Рене пошел к мессе; атмосфера храма всегда действовала на него успокаивающе, заставляя отрешиться от всего земного, превращая острую боль в тихую печаль. Священник избрал для своей проповеди строку из Евангелия от Луки: «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом».
Дома ждал свежий номер «Журналь де деба́» с большой статьей Бенжамена Констана. Шатобриан пробежал ее глазами: «Желающие служить деспотизму безразлично переходят от одного правительства к другому, но алчущие свободы погибнут, защищая трон… Грозящий нам человек уже лишил земледелие рабочих рук, заставил торговые города зарасти травой, выслал на край света элиту нации, которую затем обрек на ужасы голода и суровость морозов; по его воле миллион двести тысяч храбрецов погибли в чужой земле без помощи, без пропитания, без утешения, покинутые им после того, как защищали его из последних сил. Сегодня он возвращается, бедный и жадный, чтобы вырвать у нас то, что еще осталось… Это Аттила, Чингисхан, еще более страшный и ненавистный, поскольку он использует ресурсы цивилизации; с их помощью он хочет узаконить резню и управлять грабежом… Какой народ больше нашего заслуживал бы презрения, если бы мы сами протянули руки к кандалам? Побывав бичом Европы, мы станем ее посмешищем… Нашему рабству больше не было бы оправдания, а отвращение к нам не знало бы границ… Я хотел свободы во всех ее проявлениях; я видел, что она возможна при монархии; я видел союз короля и нации; я не стану, как жалкий перебежчик, ползти от одной власти к другой, прикрывать подлость софизмом, бормотать опошленные слова во искупление постыдной жизни».
Боже, он подписал себе смертный приговор! Буонапарте в Фонтенбло, завтра всё решится… Завтра – двадцатое марта, день рождения «Римского короля» – маленького сына Наполеона, который живет сейчас с матерью в Вене. Буонапарте всегда любил с размахом отмечать подобные годовщины…
Рене не мог усидеть на месте и в беспокойстве ходил по комнате. Пожертвовать собой ради свободы, отдать жизнь за короля и отечество – когда ты говоришь это, окруженный восторженной толпой, тебя возбуждает красота этих слов, но сам ты не веришь, что умрешь по-настоящему. В юности Рене часто думал о том, чтобы оборвать свое земное существование ради прекрасной вечной жизни, увлекаясь этой мечтой и проливая над нею слезы, пока не представил себе осуществление этого плана во всех его отвратительных подробностях. Холодное, зловонное дыхание могилы отрезвило его. Констан, наверное, сейчас мечется в страхе и рвет на себе волосы. Три дня назад, говоря об обороне Тюильри, Шатобриан верил в то, что корсиканцу придется сражаться за столицу; сегодня уже ясно, что никакого боя не будет, дворец никто не станет штурмовать и защищать, король из античного героя превратится в беспомощного толстого подагрика. Наполеон не убьет его, о нет! У него есть чувство стиля, он не испортит свой триумф расправой над дрожащими врагами. Унижение от вероотступничества, молчаливая покорность или изгнание – вот единственный выбор, который он им предоставит.
Новая мысль полоснула Рене холодным клинком: король, возможно, уже уехал! Его защитникам ничего не говорят, чтобы не препятствовали бегству! Нужно пойти и всё разузнать хорошенько.
В Тюильри по-прежнему царила неразбериха; двери монарших апартаментов были закрыты и надежно охранялись, этикет не допускал к королю никого без предварительной просьбы об аудиенции. В коридорах Рене столкнулся с герцогом де Дама, потом с герцогом де Блака – и тот и другой поспешили от него отделаться, уверяя, что король никуда не едет.
Стемнело, начал накрапывать дождь. На Елисейских Полях Шатобриан увидел стройную фигуру герцога де Ришелье, прогуливавшегося под деревьями.
– Я заступил тут на пост, – сказал герцог без улыбки, – поскольку не намерен один дожидаться императора в Тюильри. Нас обманывают. Я проговорил с королем полчаса, и он ни словом не обмолвился о своем намерении уехать, а как только вышел от него, узнал по секрету от князя де Пуа, что военную свиту нынче же отправляют в Лилль.
Ришелье по-прежнему носил мундир русского генерала, хотя Людовик XVIII сохранил за ним должность обер-камергера (весьма тяготившую герцога). В конце прошлого года он приехал в Париж, где не был пятнадцать лет: царь отпустил его из Вены, с затянувшегося дипломатического конгресса, чтобы похлопотать о возвращении герцогства Фронсак. Революция разорила одного из богатейших людей во Франции, а Империя отобрала последнее: статуями и картинами, вывезенными из бывших своих дворцов, Ришелье мог любоваться в Лувре и Тюильри, не имея возможности ни получить их обратно, ни добиться компенсации. Его сестры едва сводили концы с концами, жена-уродец безвыездно жила в Куртейе, на полпути в Руан, в Париже у герцога не было даже собственного дома – он поселился у племянника, перешедшего с русской службы на французскую. Поняв, что утраченного не вернуть, он махнул на всё рукой и принялся хлопотать за других (госпожа де Сталь хотела, чтобы король вернул ей два миллиона, одолженные ее отцом его брату[5]); наконец, Ришелье завел разговор с королем о женитьбе герцога Беррийского на великой княжне Анне – младшей сестре императора Александра, к которой безуспешно сватался Наполеон… Он был по-старорежимному великодушен и трогательно наивен, сделавшись мишенью насмешек в великосветских гостиных, куда, по своей «русской» привычке, мог явиться в сапогах вместо туфель с пряжками и шелковых чулок. Его всё же охотно принимали, поскольку ходили слухи, что король намерен сделать Ришелье (единственного человека во Франции, в которого никто не мог бросить камень, потому что за последние двадцать четыре года он не участвовал ни в каких «революциях») министром внутренних дел. Герцог опровергал эти слухи, не скрывая, что хочет вернуться в Россию – вернее, в Новороссию, где он служил генерал-губернатором. По территории эта южная область равнялась пятой части Франции, если не больше; Ришелье многое сделал для ее процветания и особенно гордился Одессой – городом, основанным в конце прошлого века и превращенным его стараниями в настоящую жемчужину, где было не стыдно принять Марию-Каролину Австрийскую, королеву обеих Сицилий, проездом в Вену. Герцог так и не перешел в русское подданство, оставшись французом (хотя изъяснялся теперь с легким акцентом), однако Франция, которую он увидел сейчас, разительно отличалась от той, что он хранил в своем сердце. Найдя родственную душу в изгнаннике Шатобриане, Ришелье с возмущением говорил ему, как извратился за эти годы национальный характер: повсюду невежество, грубость, отсутствие религиозных чувств! И немудрено, поскольку люди из высшего круга, призванные служить примером для народа, помышляют лишь о том, чтобы пробиться, обогатиться, пристроиться – сплошь карьеристы, льстецы и ренегаты, для них все средства хороши, лишь бы преуспеть. Никто не считает себя неспособным исполнять любую должность в администрации, лишь бы она была доходной, бюрократия вдесятеро хуже, чем в России! И самое прискорбное – некому поступать так, чтобы заставить их устыдиться. Сегодня король издал два ордонанса: один запрещал всем французам платить налоги и заранее признавал недействительными все сделки о продаже недвижимости для пополнения казны, а другой запрещал им вступать в военную службу. Что это, если не лицемерие?.. Он знает, что уедет и бросит своих подданных на произвол судьбы – вернее, на милость Бонапарта. Король покидает свой народ и при этом требует верности себе? Виконт всё же пытался возражать герцогу, пока не почувствовал, что старается убедить сам себя.
Дождь усилился, Шатобриан поспешил домой, опасаясь простудиться. Жена даже не пыталась скрывать насмешку во взгляде: она никогда не доверяла Бурбонам и не верила в них. Предусмотрительная Селеста велела приготовить дорожную карету и отправила слугу на площадь Карусели – караулить короля.
Настала полночь, слуга не возвращался. Устав от тревог долгого дня, Рене пожелал супруге доброй ночи и лег в постель, но едва он потушил свет, как явился Клозель де Куссерг – старый друг, с которым они служили в армии Конде. Он сообщил, что король нынче ночью уедет в Лилль. Этой тайной с Клозелем поделился канцлер, поскольку совесть не позволяла ему не предупредить об опасности Шатобриана; он же прислал Рене денег на дорогу – двенадцать тысяч франков в счет его будущего жалованья как посла в Швеции. Селеста всплеснула руками и пошла будить горничную, чтобы одеваться в дорогу, но Шатобриан заартачился: он не покинет Парижа, пока сам не убедится, что король уехал! Жена принялась увещевать его; ей на выручку пришел промокший до нитки слуга, вернувшийся из дозора: король выехал из Тюильри, он видел своими глазами вереницу придворных карет, за ними стража верхом. А во дворце, похоже, жгли бумаги в печах: из одной трубы вырывался огонь, несмотря на дождь, – видно, загорелась сажа в дымоходе.
Бланк паспорта опытная Селеста раздобыла заранее, оставалось только его заполнить: в него вписали вымышленное имя купца из Лувена и его жены. В три часа ночи мадам де Шатобриан впихнула в дорожную карету своего мужа, плохо соображавшего от гнева и обиды. У заставы Сен-Мартен не было ни единого караульного; до Люзерша ехали на своих лошадях, а там с трудом раздобыли почтовых. Дождь лил как из ведра, дорогу развезло, карету трясло и качало во все стороны. Когда развиднелось, тучи иссякли; из крон вязов, росших на обочине, выпархивали вороны, опускались на поля и вышагивали по ним, подстерегая неосторожных червяков, изгнанных из недр земли ночным потопом. Такие же вороны тридцать лет назад слетались на рассвете к зарослям ежевики в окрестностях замка Комбур… Им нет дела ни до королей, ни до императоров… Счастливые!
4
Месье – брат короля, Карл д’Артуа. Два его сына носили титулы герцог Ангулемский и герцог Беррийский. Полное имя Людовика XVIII – Луи Станислас.
5
Жермена де Сталь, известная писательница («Дельфина», «Коринна, или Об Италии») была дочерью швейцарского банкира Неккера, исполнявшего обязанности министра финансов при Людовике XVI – старшем брате Людовика XVIII. Два миллиона были одолжены в самом начале Революции 1789 года.