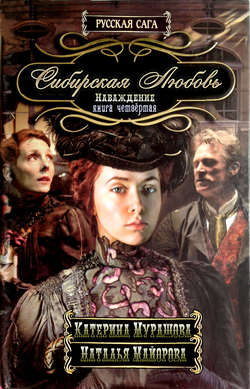Читать книгу Наваждение - Екатерина Мурашова - Страница 7
Глава 6
В которой Софи читает второе письмо и гуляет с котом, а Марья Ивановна Опалинская размышляет о прошлом и о будущем
ОглавлениеЗдравствуйте, любезная Софья Павловна!
Зная, как Вы меня полагаете, решилась писать к Вам только в великой крайности. Но тому, я думаю, Вы и сами поверить сумеете, иного не предположив.
Братец Ваш, Григорий Павлович, а мой Богом данный муж и супруг, нынче стал совсем плох. И даже не в телесном здоровье дело, хотя и оно пошатнулось изрядно, и кашель уж пятый месяц не проходит. Другое хужее, а чтоб описать, у меня и верных слов нет. Это ж Вы, Софья Павловна, писательница, не я. Лежит Гришенька цельными днями, отвернувшись к стене, и ничто ему не мило. И Людочке нашей малой не рад, и со мной сквозь зубы разговаривает. До людей, что вокруг нас живут, в поселке, ему уж и вовсе дела нет. Намедни «товарищ по борьбе» приезжал, так и с ним говорил, едва себя пересиливая. Я потом к товарищу кинулась, что, мол, делать-то, так он на меня взглянул так, словно я мышь, которую на дороге колесом придавило. И жалко, и любопытно, и сам собой за это любопытство брезгуешь. Потом отвел взгляд на облака, сказал: никто не обещал, что борьба за народное счастье будет легка, и на том пути жертв не будет. Каждый, кто на эту дорогу вступил, поклялся, если понадобится, свою жизнь отдать… «И мою, и Людочкину?» – хотелось спросить, однако, не спросила. Он сам догадал и тут же ответил: «Товарищ Григорий допустил слабость и опрометчивость. Революционер должен быть один. Чтобы спасти многих, весь народ, нужно неустанно ковать себя из железа и слабых мест не иметь вовсе…»
После того визита и вовсе свет померк.
Людочка еще заболела и капризничает все время. Жара нет, а и здоровья – тоже. Зовет папу, а он только рукой машет: «отстаньте, мол».
Вот уж второй день Григорий Павлович есть почти отказывается, только воду пьет. Меня до себя не допускает, велит заниматься ребенком, сам сидит у окна, завернувшись в одеяло и читает книгу. Третий день на одной странице.
Я все крепилась, а вчера уж не стерпела, бросилась ему в ноги: «Гришенька, свет мой, что ж мне еще сделать-то, как тебе, как нам всем помочь? Погибель ведь для всех настает!»
Он головой так помотал, как лошади оводов отгоняют, а потом пробормотал что-то, и я в том разобрала: «Соня бы догадала, что делать, а я сам – не могу…»
Вот, теперь сижу, пишу Вам, а за окном – темень, да и на душе – чернота беспросветная. Право, и сама не знаю, зачем. Что Вы из Петербурга сделать-то можете, коли он из дому последнее письмо даже до конца не дочитал, так и лежит… Знаю одно: коли с Гришенькой, упаси Бог, что случится, так и нам с Людочкой не жить…
Иногда думаю, что все это мне Бог за мои грехи посылает, и тогда молюсь смиренно, благо, тут в деревне церковка и еще часовенка есть, попечением местного купца выстроенная… В заключение желаю, чтоб Вас, Софья Павловна, и Вашу семью всяческие напасти стороной обошли. Не всем же век несчастными оставаться, кому-то и счастье должно быть.
Груша Домогатская
Дочитав, Софи нервным движением отшвырнула листок и вскочила, едва не опрокинув кривоногое кресло. Обернувшись, не глядя, поймала его за спинку, поставила прямо.
– Бог! – раздраженно пробормотала она. – За грехи! А ребенка? Черт знает что такое! Сто, тысячу раз говорила, и – вот! Не мальчишка ведь! Как будто не знал, что самое сложное не на плаху взойти, сказать красиво и сдохнуть за этот самый народ. Это-то, извольте, просто. Вот что сложно: жить каждый день, каждый день утром без солнца из постели вставать, холодной водой умываться. И заставлять себя… Когда все пропало, все рухнуло, ни в чем смысла нет – заставлять! Революционер! Тряпка! Рохля!
Софи, не в силах более оставаться в четырех стенах, почти выбежала из комнаты, поспешно оделась, накинула капор, сунула ноги в теплые белые валенки. Распахнула дверь, спустилась по скрипучим ступенькам, торопливо пошла по дорожкам зимнего, усыпанного снегом сада. Еще с ночи ударил мороз, и нынче даже к полудню термометр стоял ниже двадцати градусов. Негреющее солнце искрилось в каждой льдинке. Холод сразу охватил щеки Софи своими ладонями, принялся, пока аккуратно, пощипывать нос и кожу над бровями.
Софи, у которой внутри пылал костерок бессильного гнева, эти прикосновения покуда казались приятными. Оглянувшись, она увидела, что вслед за ней по дорожке, переваливаясь, бежит угольно-черный кот. Хвост его был напружинен и вытянут кверху, глаза горели любопытством.
– Кришна! Куда ты? Вернись! – крикнула ему Софи. – Коты в такую погоду не гуляют!
«А мне – наплевать!» – ясно пропечаталось на независимой широкой морде.
– Господи! – пробормотала Софи, оглядываясь и почти ожидая увидеть где-нибудь по колено в снегу нелепую фигуру Джонни, неодетым кинувшегося вслед за сбежавшим любимым котом. – Зачем мне это все? И почему я не могу хоть немного побыть одна, сама с собой, ни о ком не думать? Почему за мной вечно тащатся… всякие коты?
Поймав себя на последней фразе, Софи поневоле улыбнулась. Вот уж, воистину, пустой гнев делает человека глупее в три, если не более раз. Все еще улыбаясь, женщина присела на дорожке, протянула руку. Кот тут же подбежал, ткнулся в варежку лобастой башкой, затоптался на месте, дрожа тощим хвостом и переминаясь на передних лапах.
Кришна считался, да и был котом Джонни, но при том обладал крайне независимым характером и сам выбирал, с кем и когда он хочет общаться. Практически все слуги и члены господской семьи в Люблине познакомились с этой его особенностью буквально в первые дни пребывания кота в доме, и еще некоторое время ходили с укушенными пальцами и ладонями и расцарапанными запястьями. Исключений не было. Понадобилось некоторое время, чтобы самые смышленые догадались о том, что Кришна – зверь не злой и даже, как ни странно, не вздорный. Просто он привык выбирать сам. Когда был не расположен к общению, всегда прежде предупреждал, а уж потом портил шкуру сунувшемуся невпопад. Те, кто сумел это разобрать, наладили с котом вполне приличные отношения. Остальные дружно считали и говорили вслух, что наглую, злобную зверюгу следует пристукнуть кочергой или уж зашить в наволочке и утопить (что по зимнему времени было совершенно невозможно, но ведь помечтать-то можно всегда…).
Иным было отношение к напарнику, точнее напарнице Кришны, также прибывшей в усадьбу вместе с Джонни. Большая, белая, облезлая попугаиха Радха у всех (а не только у Милочки) вызывала одно и то же чувство – ее хотелось пожалеть и немедленно переместить куда-нибудь, где ей, наконец, будет хорошо. Что это за место – никто не мог даже вообразить. Робкое предположение Милочки, что Радха, должно быть, скучает по родным джунглям, вызвало издевательский смех Павлуши, поддержанный сдержанной улыбкой Петра Николаевича и покачиванием головы Марии Симеоновны.
– Да ты погляди на нее! – озвучил общую мысль Павлуша. – Что она будет делать в джунглях?! Ее же первый случайно проходящий мимо зверь съест. А если такового не случится, так она сама от страха околеет…
В общем-то на то было похоже. Большую часть времени Радха печально сидела на жердочке в своей обширной клетке, вздрагивала от любого резкого звука, ела и пила словно бы через силу и ежедневно роняла на пол клетки белые, бессильные перышки… Со слов Джонни можно было понять, что попугаиха умеет говорить, но ее разговоров никто покуда не слышал. Лишь иногда она печально и хрипло вопила, словно жалуясь на судьбу кому-то невидимому. Служанки тоже чувствовали эту «обращенность» Радхиных жалоб, с легкой руки кухарки называли эти крики «бесовской молитвой» и крестились каждый раз, когда их слышали.
Самым занятным во всей этой звериной истории были отношения Радхи, Кришны и Джонни между собой. Радха была старше всех, но появились они в салоне Саджун практически все одновременно – младенец Джонни, попугаиха Радха, купленная на Сенном рынке из прихоти тяжело беременной Саджун для каких-то неопределенных гадательных целей, и черный тощий комочек с розовой жадной пастью, выброшенный на улицу кем-то лишенным жалости, и Саджун же подобранный. С тех пор эти трое практически не расставались. Радха сразу же усыновила котенка, ловко ловила блох в его жидкой шкурке, и даже пыталась кормить зерном и хлебом из клюва. Котенок, естественно, от зерна отказывался, но засыпать на комоде или в самой клетке попугаихи, залезши под оттопыренное крыло названной матери, привык почти сразу. Радха, несмотря на собственную трусость, ревностно защищала сон детеныша, крутила головой и грозно щелкала огромным клювом, когда кто-то или что-то в окружении клетки казалось ей опасным.
Джонни, подрастая, считал обоих, и зверя, и птицу, своими старшими родственниками и, несмотря на собственное слабоумие, обращался с ними весьма внятно и уважительно. Кришна ни разу не поцарапал мальчика. И клюв Радхи, которым она играючи колола грецкие орехи и рвала медную проволоку, ни разу не причинил ему никакого вреда.
Все десять лет своей жизни Кришна прожил в гадательном салоне, и никогда не бывал на улице. Узнав об этом, все дружно решили, что, оказавшись в усадьбе, на «волю» старый кот не пойдет, побоится. Но не тут-то было! Уже в первый день пребывания на новом месте, Кришна, напружинившись, стоял у дверей кухни и жадно нюхал влажный, но еще холодный воздух, долетавший из сеней. На второй день сиганул между ног кухарки…
С четверть часа весело гогочущая дворня практически в полном составе прыгала по сугробам и безуспешно ловила черного, как уголь, котяру. Потом Кришна сам заскочил на кухонное крыльцо, отряхнулся и независимо вошел в дом. Полакал молока и улегся возле печки – греться.
На следующий день он гулял уже дольше, и никто его не ловил. Потом еще дольше. Потом еще… Казалось, целью кота стало не упустить ни одного дня зимней, оглушительно пахнущей свободы. Может быть, он думал о том, что скоро все это удивительное дело кончится и надо будет ехать обратно, в Петербург. Мороз и снег не останавливали его совершенно, хотя мех его никто не назвал бы густым. Замерзнув, он возвращался, отогревал лапы возле плиты и снова шел гулять. Круги, которые Кришна описывал вокруг дома, становились все более широкими…
– Кришна, иди домой! – строго сказала Софи.
Кот фыркнул и скрылся под кустом, с которого тут же осыпалась маленькая снежная лавинка.
– А я тебя все равно вижу! – рассмеялась Софи. – Ты же черный, Кришна!
Кот в переплетении ветвей выглядел смущенно-обескураженным, как будто и вправду понимал человеческую речь.
– Ну и как же мне поступить? – спросила у него Софи. – Что же теперь будет?
Кришна переступил передними лапами и от этого провалился поглубже в снег. В целом движение выглядело так, как будто кот пожал плечами.
Софи огляделась. Мороз к полудню не утих вовсе, а, кажется, стал еще ядренее. Высокое голубое небо поблескивало едва улавливаемыми глазом разноцветными искорками. Ветви высоких плакучих берез, там, где доставали лучи солнца, казались облитыми жидким золотом. На конце каждой веточки сверкал снежный бриллиант. На ветках кустарников белел иней. Несколько алых округлых снегирей зимними яблоками сидели на ближайшем кусте. Кришна смотрел на них с хищной тоской и ярился от явной невозможности обладания.
Софи засмеялась от захватывающей дух красоты и жизненности представившейся картины.
– Правильно, Кришна, – кивнула Софи. – Я и сама так думаю. Что будет?! Что будет?! Как говорила моя няня: что-нибудь да будет непременно, потому что никогда не бывает так, чтобы ничего не было. Правда, Кришна?
Кот немного подумал, кивнул лобастой головой и скрылся поглубже в кустах. Софи развернулась на каблучках и решительно зашагала к дому.
– Господи, и все-то я делаю не так.
Женщина средних лет, слегка грузноватая, в лисьей шубке и теплой шали козьего пуха, тяжело поднялась с колен. Не глядя, протянула руку за тростью, она давно уж – лет десять, пожалуй, – без нее шага из дома не делала, хотя особой нужды в том не было – не такая уж калека. Но – привыкла… Да и правду сказать: удобно, особенно зимой, на льду.
Зима – кончалась. Солнце за окнами Покровской церкви стояло совсем весеннее. Не то, что оттепель – настоящая весна, с тревожными запахами и птичьими пересвистами. Это в Сибири-то, в феврале-то! А в апреле опять пойдут морозы, и опять ничего не родится…
Она думала об этом точно так же автоматически, как опиралась на трость, как считала столбы в заборе, каждый день проходя мимо усадьбы отца Михаила. В церковь – шесть столбов, и обратно столько же. Да, еще – обязательно! – бросить взгляд на шатровую кровлю Крестовоздвиженского собора и горестно вздохнуть. Сколько уж лет она туда не ходила? По большим праздникам только… Грех это, конечно, грех. Отца Андрея многие хвалят…
Она остановилась. Поправив шаль – в уши задувал сырой ветер, – неторопливо перекрестилась на кресты собора. Вот и все, а идти туда… Владыка Елпидифор бы сказал: гордыня! Она поморщилась, болезненное воспоминание явилось, как всегда, мгновенно: негромкое пришепетыванье, шарканье теплых валенок, запах просфоры и ладана… Ее детство оказалось накрепко переплетено с владыкой и, когда он ушел, рассыпалось безвозвратно. А до той поры все казалось: вот оно, за спиной, и, как только выпадет просвет в делах, можно будет туда вернуться и все поправить, наладить как следует!..
Марья Ивановна Опалинская шла домой по сыроватому утоптанному снегу – быстро, не глядя по сторонам. На протяжное приветствие матушки Арины Антоновны, взиравшей с высокого крыльца, как народ растекается от церкви, ответила коротко, едва взглянув, – и тут же подумала: до Пасхи непременно съездить к Фане!
Фаня Боголюбская – ныне сестра Дорофея – вот уж восьмой год коротала в Ирбитском монастыре, под черным клобуком. Для нее сбылось то, о чем когда-то Машенька мечтала для себя. Вернее – это ей казалось, что мечтала! А Фане и не казалось никогда, она и в страшном сне о том не могла помыслить. Виновата, конечно, была сама. Уж во всяком случае – не Арина Антоновна, глаза по дочери выплакавшая. Но Маша почему-то винила попадью. Не отца Михаила, даже не мужа Фаниного, что служил теперь в Крестовоздвиженском соборе (нет, его, конечно – тоже, но все ж не так), – ее, мать! Видела ж, за кого девку замуж отдаешь! Почему не настояла? Сам велел – как же! Вот так весь век и живем.
Маша уже давным-давно не жила – так. Попросту сказать, у нее не было самого, который мог бы велеть. Это она была сама. А как иначе? И не нужно иначе, да и невозможно – от последних иллюзий, слава Богу, скоро десять лет как избавилась.
До Пасхи съездить к Фане… А если англичане как раз приедут? Марья Ивановна смущенно улыбнулась; старательно двигая губами, проговорила беззвучно: «to give – gave – given… What do you want from me?»
Ох, до чего ж глупо. Это не они от нее что-то «want» – она от них, а они-то без нее прекрасно обойдутся. И не только англичане! Она мгновенно перестала улыбаться, вспомнив вчерашний разговор с Иваном Притыковым. Как он вежливо смотрел на нее – ни разу глаз не отвел! Со всем, что говорила, соглашался. Да, запасы не исчерпаны… новые способы добычи… новое оборудование… было б что предложить, как равноправным партнерам – тогда и прибыли… британцы, все знают – народ надежный, хоть и безжалостный… Ты совершенно права, сестрица Машенька, да вот ведь оказия: вовсе нет свободных средств, и ниоткуда не вынешь. Хорош братец Ванечка. А она-то едва не взвыла: выручай, поддержи, ведь последняя ж возможность на краю удержаться! Господи, а то он не знает.
В распахнутых воротах крутились собаки, на дощатых мостках, с утра тщательно отчищенных от снега, красовалась свежая, еще курящаяся лепешка конского навоза. Радость великая: Петр Иванович с охоты вернулся – и трех дней не прошло, как отбыл; и, судя по веселому голосу из глубины двора, кажется, трезвый. Пятнистая, как Арлекин, Пешка Малая издали увидела Машу, кинулась навстречу, ухмыляясь всей своей широкой брылястой мордой. Маша, наклонившись, выставила вперед руки, оберегая от грязных собачьих лап шубу и подол:
– Ну, утихни, утихни… радости-то! Сколь зайцев подняла?..
Пешка Малая была единственной из братниных собак, с которой Маша дружила. Не потому вовсе, что когда-то пришлось кормить ее из соски – мало ли щенков выхаживала, с ними вечно что-нибудь случается; вырастая, они переставали ее интересовать, только что голова болела от разноголосого бреха. И собаки ее тоже не замечали, а вот Пешка всякий раз подбегала и ластилась с самым счастливым видом; как тут не подружишься?
– О-о, свет Марья Ивановна! – Петя, широко улыбаясь, остановился на крыльце. Все-таки он был слегка пьян – терпимо, лишь бы сейчас не добавил… да, впрочем, это не ее, не Машино дело. – А что же Неонила сказывала: барыня, мол, с утра уехали в поселок?
– Нашел кого слушать, – Маша поморщилась, расстегивая на ходу крючки шубы, – она тебя-то хоть узнала? Или опять обозвала Бовой Королевичем?
Неонила, дочка плотника Мефодия, была взята в дом совсем недавно – на место Анисьи, которая, проживши почти до сорока лет незамужней девицей, вдруг нашла себе суженого из казаков и уехала жить в Большое Сорокино. Службу горничной Неонила исполняла с истовым рвением и редкой бестолковостью. Причина последней заключалась, видимо, в том, что она только малой частью своего существа находилась в этом бренном мире, а куда большей – в компании прекрасных принцев и герцогов, мага Мерлинуса, кровожадного Дракулы, несчастной бразильянки Изадоры и прочих персонажей копеечных книжек, кои добывались ею откуда только возможно в немыслимых количествах. Шурочка, научивший когда-то Неонилу читать, вполне мог гордиться результатом!
Парень, водивший вдоль навеса Петину чалую кобылу, захрюкал от смеха. Маша, осторожно обогнув прислонившегося к дверному косяку Петю, размотала шаль, повесила шубу и прошла, отчего-то тревожно прислушиваясь, на свою половину.
В комнатах громко тикали часы и лежали вечные сумерки. Эти комнаты оживали, только когда в них появлялся Шурочка. Стоило ему уйти – и они мгновенно приобретали совершенно нежилой вид. Даже запах появлялся застойный, с привкусом нафталина. Такой же запах, казалось Маше, исходил и от ее собственных платьев, и от одежды мужа. Она думала: все правильно. Мы не люди, мы – просто вещи в этих старых комнатах, где давно никто не живет.
И теперь она подумала так. И усмехнулась этому претенциозному сравнению, вполне достойному Неонилиных ярмарочных книжек. Однако же где Митя? Вот кто бы должен сегодня поехать в поселок. Но – не поехал, разумеется. Да толку-то от него там…
В вязкой тишине раздался вдруг долгий, глубокий звук – сверху, Маша, споткнувшись, вскинула голову. Кто там? Звуки падали один за другим, как тяжелые капли. Она заторопилась вверх по лестнице.
Дмитрий Михайлович сидел в ее гостиной за роялем, низко склонив голову. Играл осторожно, одной рукой, будто разбирая ноты, хотя никаких нот перед ним не было. Маша, невольно сдержав дыхание, остановилась в дверях. Она не могла понять, почему не решается шевельнуться или сказать слово. Ей совсем не было приятно, что муж сидит за ее инструментом! Ее – ох, Господи… Сама-то сколько лет не садилась? А он, оказывается, тоже играть умеет.
Трость неловко стукнула о половицу; Дмитрий Михайлович поднял голову. Бог весть с чего, ей показалось – он не очень-то рад ее видеть. Хотя – что радоваться? И трех часов не прошло, как расстались.
– Что, служба кончилась?
Маша, не отвечая, дошла до кресла, тяжело опустилась в привычную глубину, сунула под локоть думку.
– Ты не говорил, что музицировать учен.
– А, – он усмехнулся; встал, закрывая крышку, – в гимназии чему только не учили… Не в этой жизни.
Он сделал большой шаг от рояля и нарочито бодрым тоном заговорил о делах – явно опережая ее вопрос о не состоявшейся поездке в поселок:
– Так что, понижаем цены? Я тебе гарантирую, все покупатели Веры Михайловой будут наши. Сейчас – самый удобный момент; она проглотит. Эти англичане…
Она прервала:
– Митя, я с тобой как раз об англичанах хотела поговорить.
Так оно и было, – однако ж это обстоятельство не помешало возникнуть тягостному ощущению, будто она ради ерунды уходит от важного. А важное – что? Молча смотреть на него? Снова и снова пытаться ответить самой себе на какие-то вопросы… или хоть задать их внятно? Он улыбался, демонстрируя деловую готовность к серьезному разговору. Высокий, легкий, моложавый – будто отражение в пыльном зеркале: сотрешь пыль и увидишь юношу… Ох, как глупо-то, прости, Господи! Грехи, грехи…
– Давай подумаем, как лучше найти к ним подход.
– Что? – он поморщился, лицо стало такое, будто раскусил горький орех. – Подход к англичанам? Зачем?
Раздражение, как веник, тут же вымело прочь невнятные вопросы и ответы.
– Митя! Что значит зачем? Мне тебе объяснять?
– Можешь не объяснять. И не надеяться на них, Маша! Напрасный труд.
Он широко взмахнул рукой и, развернувшись на каблуках, отошел к окну. Дернул в сторону тяжелую суконную штору, заслоняющую свет.
– Митя, что ты? Гардину сорвешь.
– И очень хорошо. Эти бурые тряпки…
– Бронзовые, – сказала Маша, с легким удивлением слушая собственный голос. Дмитрий Михайлович посмотрел на нее непонимающе, она объяснила:
– Это бронзовый цвет.
– Это цвет грязи, – отчетливо проговорил он, и Маша удивилась еще больше: до нее дошло наконец, что он едва сдерживает злость. Спрашивается, он-то с какой стати?! – Вашей сибирской октябрьской грязи, в которой нам сидеть еще много лет, и боюсь, что на том свете – тоже. А эти англичане, Маша, они сюда явились, чтобы устраивать свои дела, а не твои, – и не за твой ли счет?.. Ведь говорил же я тебе, говорил: уедем! А…
Он внезапно замолчал и отвернулся, как будто устал от произнесения бессмысленных звуков. Маша, глядя ему в спину, подумала: сам – мошенник, вот других и подозреваешь. Этих мыслей следовало устыдиться, но вместо стыда вдруг явилась жалость к себе. Да сколько ж можно! Пусть она виновата. Все сделала не так. И до сих пор все всегда делает не так! Но они-то что ж – они, умники? Мужчины? Почему только ей приходится решать?!
– Ладно, уезжай, – она встала. Митины плечи дрогнули, но он не обернулся и не сказал ничего. Маша продолжала:
– Вези Шурочку в Петербург. Пора. Денег я дам.
– Благодарствуйте, матушка, – оборачиваясь наконец и низко наклоняя голову, сказал Дмитрий Михайлович.