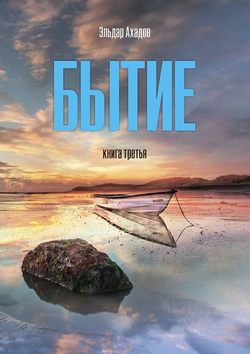Читать книгу Бытие. Книга третья - Эльдар Ахадов, Эльдар Алихасович Ахадов - Страница 13
Арабески памяти
Невидимые нити истории
ОглавлениеБыл у меня в юности один удивительно неугомонный приятель по имени Глеб Фалалеев. Дай Бог ему здоровья, через множество лет мы встретились снова и общаемся до сих пор. А тогда нас сблизили наши литературные увлечения. Но в этот раз речь пойдет не о них, а о событии, хранящемся в памяти моей вот уже четыре десятка лет…
Что же так поразило меня в ту пору, что задержалось в памяти на столь длительный срок, несмотря на величайшее обилие абсолютно других, порой чрезвычайно ярких событий, произошедших в жизни моей за миновавшее с той поры время? Как бы это проще объяснить?.. Попробую на примере.
С одной стороны для каждого человека существуют реальные события, наполненные реальными действиями и людьми, которых он лично видел, знал, с которыми общался. С другой стороны каждый достаточно грамотный человек из книг, из газет, в конце концов – из радио – и телепередач, имеет представление о людях и исторических событиях, происходивших в мире до него и касающихся персон, совершенно недосягаемых для него в реальной жизни, хотя бы в силу разницы существования во времени и пространстве. Человек спокойно живет с четким осознанием невозможности встречи этих двух абсолютно разных миров.
И вдруг в реальной жизни происходит нечто, перечеркивающее этот сложившийся и осознанный стереотип мышления! И душа человеческая выходит из равновесия. Такое происходит очень нечасто, но все-таки происходит.
Так, например, жил я себе не тужил, со школьной скамьи имея определённое понятие о том, что существовал некогда на земле полярный путешественник Фритьоф Нансен, совершавший разные подвиги в суровых северных льдах. И умер он давным-давно, и в стране его, в Норвегии, я никогда не бывал, и, увы, возможно уже не буду. В общем: где я – а где он…
И вдруг однажды случайно выясняется, что для одной очень пожилой незрячей женщины по имени Галина Константиновна Назарова (в девичестве Востротина), которая многие годы посещала литературные занятия моей студии при библиотеке для инвалидов по зрению господин Нансен – вовсе и не Нансен даже, а просто дядюшка Фритьоф, потому как в начале ХХ века Нансен познакомился и подружился с родным дядей Галины Константиновны, Степаном Востротиным, пригласившим его в Енисейск. «Ничего себе дядюшка!» – подумал я тогда, потрясенно взирая на вполне реальную пожилую женщину, у родни которой имелись такие не совсем обычные друзья. В тот момент я вновь ощутил, что иногда время, представляющееся нам оторванным от реальной жизни фрагментом давней истории, может почти что соприкасаться с нынешней жизнью.
Вот случай вообще недавний. Ходили мы с женой в кинотеатр на премьеру фильма «Адмирал». Фильм посвящен судьбе А.В.Колчака и романтической истории его взаимоотношений с А.В.Тимиревой. В конце фильма рассказывалось о том, что Тимирева была на десятки лет репрессирована в советское время, выжила, дожила до 60-х годов и едва ли не участвовала в съемках фильма «Война и мир» Сергея Бондарчука. «Любопытный факт», – подумал я по дороге домой и не подозревая о том, что Тимирева, скончавшаяся в 1975 году, писала стихи и посещала в Москве то же самое литературное объединение, в которое ходил и один из моих знакомых! И они общались между собой, естественно. И тут опять: от истории далекой, как жизнь на Марсе, давней, как бы абсолютно ничем не касающейся лично меня, вдруг повеяло дыханием реальности…
Соприкосновение с историей через общение с живыми её свидетелями редко кого оставляет равнодушным. Помню, как, затаив дыхание, слушала наша студенческая аудитория в Ленинграде конца 70-х годов, писательницу и переводчицу Риту Яковлевну Райт-Ковалеву, дружившую с Лилей Брик и рассказывавшую нам о Пастернаке и Маяковском не как о бронзовых памятниках давно минувшей истории, а как говорят о близких, дорогих людях – о Володе и Боре. При этом, когда она говорила о Боре, мы слышали, как дрожит её голос. Это был голос сквозь слёзы. Так говорят только об очень близком…
Итак, возвращаясь к своему давнему приятелю Глебу Фалалееву, должен сообщить его незаурядная личность всегда была колоритной…
В середине семидесятых годов прошлого столетия мы были старшеклассниками одной из бакинских школ. И однажды Глеб привез меня в поселок Разино, где жила та самая удивительная пожилая женщина, о которой приятель уже прожужжал мне все уши. Звали её Рашель Владимировна Прус.
Сколько ей было лет в ту пору, не берусь утверждать. Но при всем этом её память поразила меня. Дело в том, что Рашель Владимировна, которая за столом, накрытым белоснежной скатертью с кружевами, угощала нас чаем с вареньем из изящных розеточек, была соседкой по квартире Владимира Ильича Ленина и Надежды Константиновны Крупской в период их дореволюционной швейцарской эмиграции!
Рашель Владимировна прекрасно владела французским и немецким, и памятью о своей ранней тюности. Она продемонстрировала нам письма знаменитого французского писателя Анри Барбюса. Их было немало, переписывались Рашель и Анри довольно долго.
Как известно, Ленин писал о нем: «Одним из особенно наглядных подтверждений повсюду наблюдаемого, массового явления роста революционного сознания в массах можно признать романы Анри Барбюса: «Le feu» («В огне») и «Clarte» («Ясность»). Анри Барбюс до самого конца жизни собирал материал для большой биографии В. И. Ленина, но так и не успел завершить эту работу. Барбюсом совместно с А. Куреллой было составлено предисловие к французскому изданию ленинских «Писем к родным», опубликованных в 1936 году. Самого писателя к тому времени уже не было в живых.
30 августа 1935 года во время поездки в СССР при довольно туманных обстоятельствах он скончался. Впрочем, внезапной кончиной в те времена теперь вряд ли кого можно удивить. Наслышаны.
Вот и отец Рашель Владимировны, заразившийся революционными идеями часовых дел мастер, после революции вернулся в Россию, видимо, полагая, что партия учтет его эмигрантские заслуги и личное знакомство с вождем мирового пролетариата. «Канэшна», учли! Прус был арестован и умер в тюрьме. Вдруг как-то сразу сильно заболел и тут же скончался прямо в камере. Понятно – почему так внезапно болели и умирали тогда? Понятно: увы, не все выдерживали пытки и доживали до суда.
Дядю Володю и тётю Надю Рашель Владимировна помнила довольно хорошо. На Циммервальдской конференции, случившейся 5 – 8 сентября 1915 года, в зале, где проходило собрание, было душно и жарко. Маленькая Рашель, сидевшая на коленях у дяди Володи, норовила улизнуть от него при всяком удобном случае. Конечно, мы поинтересовались почему. Женщина ответила просто, не по-революционному: от дяди сильно разило пивом, он был раздражен, много говорил и много пил. Для нас, вчерашних правоверных пионеров представить себе вождя пролетариата в поддатом состоянии, так, чтоб разило вокруг – это был шок. Но перед нами сидела живая свидетельница той самой партийной конференции в Циммервальде! Человек, рассказывающий не с чьих-то слов, а очевидец!
Действительно, Ленину пришлось много говорить. Дело в том, что, как напишут позднее: «Конференция, которая ставила себе целью объединить все революционные элементы социалистического движения, оказалась далеко не однородной по своему составу…» В общем, у Ильича были проблемы.
Вообще, жизнь Ульяновых в Берне, складывалась не очень удачно. 5 сентября (по старому стилю 23 августа) 1914 г. Ленин выехал в Берн и переехал в Цюрих в феврале 1916, где жил до апреля (по старому стилю до марта) 1917, то есть до самого отъезда в Россию. По сравнению с низкими ценами и дешёвой жизнью, к которой Ульяновы привыкли в Польше в 1912—1914 годах, бернские цены времен первой мировой войны просто удручали. Жили они чрезвычайно скудно, довольствовались простой одеждой и обстановкой. В швейцарской экспозиции музея-квартиры представлены предметы, принадлежавшие тогда В. И. Ленину и Н. К. Крупской: чернильница, стакан с подстаканником, ложечка для заварки чая, столовые ножи… Основным средством существования для Ульяновых служили литературные заработки, но политические антивоенные статьи и книги в то время не то что продать – даже издать было не очень непросто. Ленин писал: «О себе лично скажу, что заработок нужен. Иначе прямо поколевать, ей-ей!! Дороговизна дьявольская, а жить нечем».
Здесь же, в Берне, скончалась теща дяди Володи, которую супруги пытались лечить. Одним из местных адресов Ульяновых был Диетельвег, 11…
Крупская вспоминала, как они с мужем побывали однажды в Берне на спектакле по пьесе Л. Толстого «Живой труп»: «Хоть шла она по-немецки, но актер, игравший князя, был русский, он сумел передать замысел Л. Толстого. Ильич напряженно и взволнованно следил за игрой»
Это был достаточно редкий случай, обычно же дяде Володе не нравились пьесы, на которые они ходили, и после первого же действия Ульяновы покидали зрительный зал. Супруга вождя с иронией и сожалением пишет: «Над нами смеялись товарищи, – зря деньги переводим.»
Кстати, позже, именно туда, в Берн, по регулярным сообщениям русской разведки (есть документы и по этому поводу, не буду их здесь приводить: слишком много и скучно) неоднократно приезжал Ленин из Цюриха для тайных встреч в германском посольстве…
Рашель Владимировна оказалась чудесной гостеприимной женщиной, нисколько не озлобившейся на судьбу, несмотря на то, что жизнь прожила тяжелую до чрезвычайности. Помню её улыбку и слова о том, как довелось ей в конце жизни вновь посетить места своего швейцарского детства. На швейцарской границе один из служащих на всякий случай, не надеясь ни на какой ответ спросил её: «Шпрехен зи дойч?» Старушка улыбнулась и бодро ответила: «Натюрлих!»