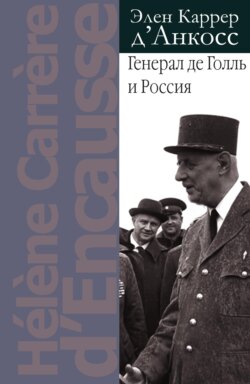Читать книгу Генерал де Голль и Россия - Элен Каррер д'Анкосс - Страница 6
I
Де Голль – Сталин. Тыловой союз
22 июня 1941 года. Поворот на Восток
ОглавлениеДе Голль, несомненно, постоянно выводил из себя своих английских союзников. Что же касается американцев, то, несмотря на поиски у них поддержки в разгар сирийской кампании, впечатления, которое произвели его авансы на Госдепартамент, оказалось недостаточно, чтобы поставить под сомнение благосклонное отношение Вашингтона к режиму Виши. Помощь, которую весной 1941 г. отчаянно искал де Голль, чтобы справиться со своими трудностями, придет из Москвы, и не по инициативе Кремля, а из-за решения Гитлера разорвать советско-германский договор и напасть на СССР. Несмотря на сыпавшиеся на него со всех сторон предупреждения, Сталин так и не поверил, что Гитлер первым пойдет на расторжение пакта, заключенного в сентябре 1939 г. Сталин считал, что успеет перехватить инициативу в удобный для него момент. Какое заблуждение, какое непонимание характера Гитлера!
22 июня, в четвертом часу утра, без предупреждения разорвав германо-советский договор 1939 г.14, германские войска приступили к выполнению плана «Барбаросса» и перешли западную границу СССР. К вечеру 22 июня было уничтожено около сотни аэродромов и более семи тысяч советских самолетов. Сотни тысяч военнопленных и дезертиров довершали эту ужасающую картину. За несколько дней немецкая армия форсировала Неман, осадила Брест и быстро приближалась к Львову. Московское руководство тогда находилось в полном смятении и реагировало на происходящее с большим опозданием. Осенью вермахт захватил в плен три миллиона военнослужащих, овладел Киевом, осадил Ленинград и угрожал Москве.
Де Голль отреагировал незамедлительно. 23 июня, находясь в Дамаске, он через своего представителя Мориса Дежана известил советского посла в Лондоне Ивана Майского о том, что «Свободная Франция» всецело поддерживает СССР. И сразу же уточнил свою позицию: «Между национал-социализмом, выродившимся в ядовитый милитаризм, и большевизмом, превращающимся во все более откровенный национализм, различия несущественные. В настоящее время Рейх и Советы противостоят друг другу не на идеологическом фронте, а на самом настоящем поле сражения. Кто бы ни вел борьбу против Германии, он тем самым сражается за освобождение Франции». А потом добавил: «Не вдаваясь в настоящее время в дискуссии по поводу пороков и даже преступлений советского режима, мы должны, как и Черчилль, заявить, что, поскольку русские ведут войну против немцев, мы безоговорочно вместе с ними»15.
Де Голль никогда не сомневался в том, что союз, заключенный между Берлином и Москвой в сентябре 1939 г., ненадолго, что он очень быстро распадется. Эта уверенность объясняет повторяемое им, как заклинание, утверждение, что, несмотря на успех 1940 г., Германия уже проиграла или проиграет войну. И эта же уверенность объясняет тот факт, что де Голль приступил в Лондоне к зондированию почвы на предмет сближения с СССР еще до начала операции «Барбаросса». 12 августа режим Виши разорвал отношения с СССР, а генерал де Голль поручил своему представителю в Анкаре проинформировать тогдашнего советского посла в Турции Виноградова о своем желании направить в Москву делегатов для установления официальных отношений16. В качестве посредника для передачи этого сообщения был выбран журналист Жеро Жув. Работая в Стамбуле, он вступил в «Свободную Францию» и стал ее представителем в Турции и на Балканах. Надлежащим образом проинструктированный генералом де Голлем о том, что следовало сказать, Жув объяснил Виноградову, что придает особый характер отношениям между Францией и СССР: «Это две континентальные державы, в силу чего их проблемы и цели отличаются от проблем и целей морских держав». Виноградов благожелательно отнесся к этому предложению, хотя и не собирался отдавать особое предпочтение – которое подразумевалось позицией голлистов – отношениям со «Свободной Францией». Реакция СССР была осторожной, и суть ее сводилась к тому, что участие «Свободной Франции» в борьбе за общее дело приветствовалось, но только боевые действия имели значение, а роль в них Франции оставалась незначительной17. Впрочем, вскоре отношение СССР стало более доброжелательным. 20 августа 1941 г. Майский сообщил Дежану, исполняющему обязанности комиссара по иностранным делам Национального комитета, что советское правительство признает «Свободную Францию» в такой же форме, в какой ее признает Великобритания. Данное обещание воплотилось в реальность 26 сентября 1941 г., когда Майский и де Голль встретились для обмена письмами. В тексте письма советского посла подчеркивалась «твердая решимость Советского правительства после достижения нашей совместной победы над общим врагом обеспечить полное восстановление независимости и величия Франции»18.
Комментируя это письмо в своих «Мемуарах», генерал де Голль констатировал, что, при всех заверениях Москвы в обеспечении независимости Франции, в этом тексте, как и в аналогичном английском, не упоминалась территориальная целостность Франции. Несмотря на эту оговорку генерала, признание СССР имело для него большое значение, поскольку произошло в переломный момент. В самом деле, 24 сентября он создал Национальный комитет, «своего рода временное правительство», по определению «Таймс». Этот комитет британское правительство признало как «представляющий всех свободных французов», хотя обменяться с ним дипломатическими представителями оно не могло, поскольку это означало бы признание за генералом статуса главы суверенного государства. Советское правительство, в свою очередь, пошло еще дальше британского, дав согласие на представительство «Свободной Франции» в СССР; эту миссию возглавил Роже Гарро.
Если генерал де Голль, похоже, считал, что в его отношениях с Москвой – и в том числе с представителем СССР в Лондоне Иваном Майским – отсутствует недосказанность, его советский визави Майский дает совсем иную картину в своем «Дневнике»19. Здесь мы сталкиваемся с крайне негативным восприятием де Голля. Майский пишет: «Окружение де Голля – кагуляры и проходимцы. Есть почти наверняка немецкие агенты. Сам де Голль ничего не понимает в политике, сочувствует фашизму итальянского типа, не умеет руководить людьми (со всеми ссорится). Вообще, в вожди мало годится. Это еще более повышает важность его окружения. Есть над чем поработать».
Помимо этих не слишком лестных замечаний20, повторявшихся неоднократно, Майский подчеркивал прежде всего постоянную напряженность во взаимоотношениях Черчилля и де Голля, сопровождавшуюся взаимными претензиями, недоверие де Голля к англичанам и нескрываемое противопоставление англичан и представителей СССР. 26 сентября Майский пишет: «Обмен письмами с де Голлем [речь как раз о письмах, упомянутых выше. – Примеч. авт.]… Де Голль очень недоволен англичанами… Целый поток ядовитых замечаний о том, что англичане никогда не бывают готовы к войне, что они всегда импровизируют армию после начала войны, что они везде опаздывают, что они не любят рисковать и так далее… “Англичане есть англичане”. Де Голль… очень хотел бы… второго фронта, но думает, что англичане к нему не готовы».
Майский подчеркивает англо-французские разногласия, враждебное отношение Черчилля к генералу, вкладывая в уста британского премьера такие слова: «Как мне надоела эта Жанна д’Арк в штанах!» И далее: «Где бы найти епископов, чтобы ее сжечь?»
Не приходится сомневаться, что эти не слишком любезные замечания в адрес основателя «Свободной Франции», предназначавшиеся в первую очередь для Сталина, вносили свою лепту в формирование у советского вождя представления о генерале и определяли отношение к нему. Знал ли сам генерал де Голль о том, какие черты Майский привнес в его портрет, представленный Сталину?
Бесспорно, он осознавал ограниченность признания, полученного от Сталина, – сдержанность в вопросе о территориальной целостности Франции, меры предосторожности, принятые советской стороной с целью согласования своей позиции с позицией Великобритании, – но он понимал также преимущества и цену такого признания. Преимущества прежде всего. Он уже не в одиночку противостоял английскому правительству21. Кто бы ни контролировал его отношения с СССР, он теперь располагал новым партнером в своей игре, что давало ему возможность вести параллельную дипломатию. И он сразу же продемонстрировал, что в переговорах с одним из партнеров считает себя свободным от обязательств по отношению к другому.
Еще одно преимущество решения СССР, которое он приводит в своем комментарии, заключалось в том, «что оно не подразумевало с нашей стороны никакого иного обязательства, кроме того, которое следует из опубликованных текстов, а именно продолжения борьбы до достижения окончательной победы всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами»22.
Хотя это признание действительно не предполагало никаких условий, генерал де Голль, не будучи наивным, понимал, что Москва вынашивает далеко идущие планы. Он знал, что будущее французских коммунистов небезразлично тем, с кем он сотрудничал. Он знал, что даже в этот период военных неудач в Москве, а главное в Коминтерне, уже задумываются о политической организации послевоенной Европы. И свидетельствовал о том ряд мер, предпринятых в то же самое время Москвой. Так, что касается Польши, ставшей жертвой пакта, заключенного в августе 1939 г., то в июле 1941 г. в Москве было заключено польско-советское соглашение, признававшее пакт недействительным. Таким образом, открывался путь к польско-советскому примирению. Еще одна жертва пакта 1939 г. – Чехословакия. Здесь не имелось необходимости аннулировать или подписывать какой-либо документ, поскольку президент Бенеш сохранял тесные связи с Москвой. Во Франции ситуация была посложнее. С 22 июня глава Коминтерна Димитров рекомендовал французским коммунистам принять «новую линию», «установить и поддерживать непосредственный контакт с де Голлем и создавать во Франции движение сопротивления вишистскому правительству»23.
Отправка французской миссии в СССР стала для де Голля главным событием конца 1941 г. В качестве руководителя этой миссии он выбрал человека, знакомого со страной. Роже Гарро, профессиональный дипломат, был назначен вторым секретарем посольства в Москве в 1925 г., когда между двумя странами были восстановлены дипломатические отношения. Он проработал в посольстве около двух лет. Впоследствии (в действительности в 1923 г., до работы в посольстве. – Примеч. пер.) ему поручили вести с Москвой и Пекином переговоры о статусе Китайско-Восточной железной дороги, в ходе которых он завязал многочисленные контакты с советскими руководителями, в том числе с Караханом. Опираясь на полученный опыт, Гарро 14 ноября 1941 г. встретился с Богомоловым, послом СССР при Союзных правительствах в Лондоне, чтобы изложить ему цели своей миссии в СССР и обсудить роль коммунистов в Сопротивлении, разворачивавшемся во Франции. Он подчеркивал, даже несколько при этом утрируя, значение коммунистов и их подпольных организаций. Похоже, Гарро стремился скорее произвести впечатление на советского партнера, чем проинформировать его о реальном положении вещей. Да, с лета 1941 г. генерал де Голль рассчитывал, что французские коммунисты, освободившиеся от ограничений, которые накладывал на них германо-советский сговор, станут пополнять силы национального Сопротивления, но по-прежнему относился к ним настороженно. Даже в самый катастрофический период он держал в уме планы СССР и коммунистов по послевоенному переустройству мира и проблемы, которые в итоге возникнут. Организация миссии Гарро оказалась нелегкой задачей. Советское правительство дало на нее согласие 7 декабря 1941 г., но продвижение немецких войск к Москве повлекло за собой эвакуацию государственных учреждений в Куйбышев, на берега Волги, вследствие чего прибытие французов задержалось до марта 1942 г. Тем временем Морис Дежан обсуждал с послом Майским не только деятельность миссии Гарро в СССР, но и участие «Свободной Франции» в военных действиях после открытия на Западе второго фронта. Из этой беседы, из заверений, сделанных Дежаном, Майский сделал вывод, что «Свободная Франция» в полной мере воплощает в себе суть французского Сопротивления и что именно она должна играть ключевую роль в послевоенном восстановлении. И оба сошлись на том, что об идеологии надо позабыть24.
1942 год был богат на события, прежде всего на Восточном фронте, где немецкие войска испытывали все возрастающие трудности, а также на Дальнем Востоке, где нападение японцев на американский флот в Перл-Харборе заставило президента Рузвельта принять решение о вступлении в войну. Отныне конфликт перестал быть исключительно европейским и принял общемировые масштабы. Глобализация конфликта не разрешила трудности, которые испытывал де Голль в своих отношениях с союзниками. Да, Англия, которая его приняла и признала его авторитет, оставалась привилегированным союзником, но ценой скольких кризисов. Де Голль обвинял Черчилля во вмешательстве в дела «Свободной Франции», в первую очередь в поддержке его противника адмирала Мюзелье. И когда он планировал перенести свою штаб-квартиру из Лондона в Бейрут, поближе к Восточному фронту, когда собирался перебросить на Кавказ одну из ближневосточных дивизий, находившихся под командованием генерала Катру, все это вызывало у Черчилля раздражение. Де Голль же пытался тем самым дать знать Черчиллю, что Англия не является для него ни единственной опорой, ни привилегированным партнером. Главная проблема в отношениях с Лондоном, которая постоянно мучила де Голля: как положить конец притязаниям англичан на Французскую империю, в первую очередь на Левант? Но и отношения с Соединенными Штатами тоже складывались далеко не просто. До Перл-Харбора и вступления его страны в войну Рузвельт делал ставку на Виши и нейтралитет правительства маршала Петена. Рузвельт надеялся, что благодаря этому нейтралитету режима Виши, поддерживать который было поручено американскому послу адмиралу Леги, Северная Африка сможет служить трамплином для американской политики во благо свободы. Нужно добавить, что Рузвельт не любил де Голля, и его окружение враждебно относилось к мятежному генералу, постоянно ставя под сомнение авторитет, которым он пользовался во Франции и за ее пределами. К тому же такие уважаемые в Соединенных Штатах французы, как нашедший там убежище Алексис Леже, утверждали, что по окончании войны де Голль может стать политически «опасным». После высадки в Северной Африке Рузвельт решил поддерживать адмирала Дарлана и упорно отказывался не только привлекать де Голля к участию в своих проектах, но даже выслушивать его аргументы. Вдобавок десантную операцию провели, не посвятив де Голля в ее план. Последнего возмущало и беспокоило, что Черчилль подстраивался под позицию Рузвельта, особенно в том, что касалось поддержки адмирала Дарлана. Это объясняет, почему генерал де Голль рассчитывал благодаря контактам в СССР создать в случае необходимости противовес столь несговорчивым союзникам.
На фоне этих унизительных эпизодов де Голль в июне 1942 г. встретился с Богомоловым, и эта встреча имела большой резонанс. Генерал рассказал советскому послу о том, что опасается захвата и раздела французской колониальной империи англичанами и американцами. В этом случае, сказал он, – если верить рассказу советского посла, – у него останется только один выход: перебазировать «Свободную Францию» в Москву. Как бы отреагировал Сталин, спросил он у Богомолова, на такой ход событий? Богомолов не комментировал25 эту беседу, но известно, что чуть позже с ним встретился Дежан, который приложил все усилия, чтобы предложению генерала не придавали слишком большого значения, и эта идея так и осталась нереализованной.
Все изменила битва при Бир-Хакейме, реабилитировавшая французских солдат. Поздравляя де Голля с этим успехом, Черчилль уверял, что его страна не собирается лишать Францию ее империи. «Мы ведем не колониальную, а мировую войну», – сказал он генералу. При этом он не пошел на то, чтобы решительно отмежеваться от поддержки американцами вишистского режима. 14 июля «Свободная Франция» становится «Сражающейся Францией». Тем самым генерал де Голль ясно дал понять, что не только возглавляет оппозицию Виши, но, главное, руководит воинскими формированиями, участвующими в общей войне. Англия сразу же признала «Сражающуюся Францию», но вновь уточнила, что английского представителя при ней не будет, поскольку в противном случае «де Голль был бы признан в качестве главы суверенного государства»26. США, со своей стороны, не только охарактеризовали «Сражающуюся Францию» как «патриотическое движение, символ национального сопротивления», но и добавили к этому реальные действия, прикомандировав к организации двух высокопоставленных военных. И все же решающий сигнал поступил из Москвы, 28 сентября 1942 г. «Сражающуюся Францию» объявили «совокупностью французских граждан и территорий, которые не признают капитуляции…», а Французский национальный комитет «руководящим органом “Сражающейся Франции” и единственным органом, обладающим правом организовывать участие в войне французских граждан и французских территорий и представлять их интересы при правительстве Союза Советских Социалистических Республик»27. Таким образом, Сталин признал личный авторитет генерала де Голля в еще большей степени, чем Лондон и Вашингтон.
Отношениям между де Голлем и СССР благоприятствовало тогда множество факторов. Успех при Бир-Хакейме показал, что Франция уже не просто побежденная страна, о которой Сталин много раз отзывался с презрением. Кроме того, фактический отказ или откладывание англо-американской стороной на отдаленное будущее открытия второго фронта в Европе в пользу операции в Средиземноморье жестоко разочаровало Сталина. Вследствие этого подрывные операции на территории Европы приобретали в его глазах новый смысл. В отсутствие второго фронта заверения генерала де Голля, что он сможет организовать Сопротивление с привлечением к участию в нем коммунистов, становились в ходе войны важным козырем, который Сталин принял во внимание. Именно об этом 8 августа 1942 г. заместитель наркома иностранных дел Деканозов говорил Роже Гарро, который резюмировал позицию собеседника следующим образом: «Очевидно, что в связи с отсутствием перспектив наступления союзных сил на Западе Советское правительство – которому придется еще три месяца, до наступления зимы, любой ценой сдерживать чудовищный натиск немецких армий – горячо желало бы всеобщего восстания в порабощенных странах»28. Наконец, неоднократно выражавшееся генералом де Голлем желание установить военные связи с Москвой и задействовать войска на Восточном фронте способствовало тому, чтобы Сталин перестал его игнорировать. Осенью 1941 г. генерал решил направить в СССР военную миссию во главе с генералом Пети. Тот учился вместе с ним в Сен-Сире, а затем служил начальником его Генштаба в Лондоне. Похоже, именно с тех пор у генерала Пети, который позже станет очень обременительным попутчиком, появилась склонность, объясняя свою позицию в Москве, отзываться о сотрудниках де Голля не в самых лестных выражениях и преувеличивать роль коммунистов в Сопротивлении: «Среди голлистов насчитывается мало патриотических и антифашистских элементов… Таким образом, необходимо, чтобы все патриотические элементы, и прежде всего военно-воздушные и военно-морские силы генерала де Голля, получили ясную политическую ориентацию. Это задача соответствующих компартий»29, – настаивал он в беседе с представителями советской стороны.
Идея направить французские войска на Восточный фронт рассматривалась с конца 1941 г. в двух вариантах: либо легкая дивизия, либо истребительная эскадрилья в составе 40 пилотов. По условиям соглашения, заключенного 12 января 1942 г. по итогам обмена письмами и секретной беседы Дежана и Майского, предусматривалось направление на Восточный фронт боевого соединения «Свободной Франции»30. Этот проект приветствовали в Москве, но он совсем не устраивал англичан, поскольку личный состав этого соединения предполагалось набирать из частей, развернутых в британских владениях, что вызвало негативную реакцию Лондона. Де Голль решил без промедления следовать по данному пути, несмотря на британскую критику и бюрократические препоны, чинимые советской стороной. В мае, на встрече с Молотовым в Лондоне, он заверил его в желании видеть, как французы сражаются плечом к плечу с красноармейцами, и в своем намерении отдать впоследствии распоряжения, которые насытят это предложение конкретикой. 16 декабря после определения обсуждавшихся в Москве генералом Пети условий участия СССР в снабжении, обучении и финансировании частей «Сражающейся Франции» было заключено соглашение, и первые пилоты будущей эскадрильи «Нормандия» (впоследствии «Нормандия– Неман») прибыли в Москву. Эту часть, в дальнейшем доросшую до масштабов истребительного полка, ждала славная судьба, хотя и отражавшая противоречия между участниками странного англо-американо-франко-советского альянса. Но в конце 1942 г., столь богатого событиями, создание истребительной эскадрильи помогло убедить Сталина в том, что «Сражающаяся Франция» способна вносить вклад в события на фронте, и в других ее преимуществах. Действительно, понятно, почему СССР так охотно признал «Сражающуюся Францию». Разумеется, де Голль и Сталин, принимая решения, руководствовались своими соображениями. Для первого Франция могла бы воспользоваться своим участием в боевых действиях на Восточном фронте, чтобы в час победы оказаться на равных со своими союзниками. А для Сталина разве это не могло быть также средством, чтобы подготовить в послевоенной Франции и Европе условия для политических изменений, отвечающих советским интересам? А может, и мировую революцию, так и не случившуюся, к великому разочарованию Ленина, по окончании Первой мировой войны?
В мае–июне 1942 г., когда продолжались споры об открытии второго фронта в Европе, когда Черчилль приехал в Москву, дабы подтвердить Сталину решение отложить его открытие, тот какое-то время собирался устроить англо-франко-советскую встречу в верхах с участием де Голля, чтобы попытаться убедить союзников в необходимости этого фронта. Генерал де Голль заявил о готовности прибыть в Москву. Эта перспектива его тем более радовала, что его участие в конференции союзных держав показало бы: Франция реализовала его давнюю мечту, обретя, наконец, вожделенный «ранг». К его большому разочарованию, проект конференции остался нереализованным, и его путешествие в СССР ждала та же участь. Де Голль не забыл об этой возможности и впоследствии неоднократно к ней возвращался. Столь часто выражавшееся им желание отправиться в Москву долго не находило ответа. Очевидно (и генерал де Голль это понимал), Сталин не решался вызвать недовольство англо-американских союзников, принимая столь непреклонного и требовательного политика, который так часто раздражал Черчилля и которому Рузвельт предпочитал сначала Дарлана, а затем генерала Жиро, когда пришло его время. Гарро, представитель генерала де Голля в Москве, неоднократно жаловался, что на проект визита нет никакой реакции. 13 октября 1943 г. Богомолов все же положил конец этому ожиданию, которое становилось оскорбительным, объявив генералу, что Кремль дает согласие на его приезд.
Но сколько изменений произошло за это время! Де Голль тогда находился в Алжире, где обосновался Французский комитет национального освобождения под совместным председательством самого де Голля и генерала Жиро. Для Москвы оптимальным вариантом являлся де Голль, поскольку, в отличие от Жиро, он боролся против Виши и смог бы, как считалось, обеспечить демократическое развитие Франции после войны. Но Рузвельт не разделял точку зрения Сталина. Он, как мы видели, предпочитал Жиро де Голлю, и не только по личным причинам, но и в силу убеждения, совершенно справедливого, что де Голль не примет его представление о той доминирующей роли, которую США надеялись отвести себе в освобожденной Франции. Точно так же Рузвельт не сомневался, что де Голль не пойдет на освобождение колоний, чего желали Соединенные Штаты. В первом пункте американский президент был прав. Де Голль знал, что США планируют поставить освобожденную Францию под управление американского административного органа – АМГОТ (AMGOT, от первых букв англ. Allied Military Government of Occupied Territories – Союзная военная администрация на оккупированных территориях), и был решительно против этого. По мнению де Голля, Франции, полноправной участнице войны с Германией, которая вела реальные боевые действия, следовало возвращать суверенитет над своей территорией по мере ее освобождения. Что касается деколонизации, за которую выступал Рузвельт, убежденный в закоренелом консерватизме де Голля в этом вопросе, председатель ФКНО в своей речи на конференции в Браззавиле 30 января 1944 г. убедительно опроверг президента США. Он упомянул о «глубокой и благотворной трансформации Африки». Да, тон выступления генерала де Голля оставался сдержанным. Не он ли в 1940 г. клялся сохранять для Франции ее империю, а в случае утраты вернуть ее? Но в Браззавильской речи он уже указывает на путь к компромиссу и определенное изменение своей позиции.
Для Москвы де Голль был предпочтительнее Жиро, хотя Богомолов и описывал его своему начальству как человека «очень властного и честолюбивого». Это не помешало сообщить генералу де Голлю, что его ждут в Москве. Поездка долго откладывалась и состоялась только в декабре 1944 г., после десанта в Нормандии и освобождения французской территории. К тому времени генерал Жиро сошел с политической сцены, и у Москвы уже не оставалось других потенциальных партнеров, кроме «этого невыносимого» де Голля.
14
Молотов в выступлении по радио заклеймил нападение как акт «беспримерного вероломства». См.: Conquest R. Staline. Paris: Odile Jacob, 1999. P. 259.
15
Gaulle C., de. Mémoires. P. 195 sqq.
16
См. содержательную статью Франсуа Левека в сборнике «Де Голль и Россия» под ред. М. Вайсса: Lévêque F. Les relations entre l’Union Soviétique et la France libre // De Gaulle et la Russie / dir. par M. Vaïsse. Paris: CNRS éditions, 2006. P. 19 sqq.
17
Crémieux-Brilhac J.-L. La France libre. Paris: Gallimard, 1996. P. 319 sqq.
18
Советско-французские отношения во время Великой Отечественной войны, 1941–1945: Документы и материалы: В 2 т. М., 1983. Т. 1. С. 48.
19
Maïski I. Journal, 1932–1943. Paris: Les Belles Lettres, 2017.
20
Ibid. P. 412, 531, 570–571, 642, 685, 690, 693, 695.
21
Что касается этого пункта, Ж.-Л. Кремье-Брийак (Crémieux-Brilhac J.-L. La France libre. P. 322) указывает, что де Голль постоянно жаловался Майскому на англичан.
22
Цит. по: Lévêque F. Les relations entre l’Union Soviétique et la France libre. P. 26. См. также письмо де Голля Майскому от 26 сентября 1941 г.: Советско-французские отношения во время Великой Отечественной войны. Т. 1. С. 52.
23
Le Komintern et la Seconde Guerre mondiale. 2 vol. Moscou, 1994–1998. T. I. P. 101.
24
Советско-французские отношения во время Великой Отечественной войны. Т. 1. С. 62–63.
25
Запись беседы Богомолова с де Голлем от 6 июня 1942 г.: Советско-французские отношения во время Великой Отечественной войны. Т. 1. С. 96.
26
Duroselle J.-B. Politique étrangère de la France: L’abîme, 1939–1945. Paris: Imprimerie Nationale, 1982. T. I. P. 350.
27
Коммюнике советского правительства, 29 сентября 1942 г.: Советско-французские отношения во время Великой Отечественной войны. Т. 1. С. 119. Письмо Дежана Майскому, 26 сентября 1942 г.: Там же. С. 118–119.
28
Телеграмма Гарро, 9 августа 1942 г. Цит. по: Lévêque F. Les relations entre l’Union Soviétique et la France libre. P. 39.
29
Выдержка из донесения Андре Марти Димитрову: Roussel É. Charles de Gaulle. P. 376–377.
30
Телеграмма Богомолова от 9 декабря 1941 г. и телеграмма Молотова Богомолову от 27 декабря 1941 г.: Советско-французские отношения во время Великой Отечественной войны. Т. 1. С. 59–60.