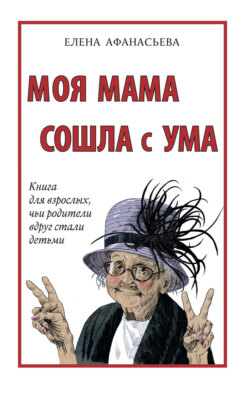Читать книгу Моя мама сошла с ума. Книга для взрослых, чьи родители вдруг стали детьми - Елена Афанасьева - Страница 5
Глава 2. Как уловить неуловимое
ОглавлениеПока отец не попал в больницу, мы не понимали, насколько всё плохо с мамой. Он то ли сам не понимал, то ли, любя ее столько лет, скрывал от нас изменения и замыкал всё на себе. Может, поэтому и не выдержал.
– Бабушка перетянула дедушку на свою сторону. В свое безумие, – сказала я детям, когда поняла, что папино сознание спутано. «В делирии», – как выразилась одна из дежурных врачей в одной из реанимаций, в которых он проведет следующие дни…
За несколько месяцев до этого мы отметили 55 лет со дня их свадьбы.
До свадьбы они еще два года, как тогда говорили, «встречались». И потом всю жизнь праздновали и день знакомства, и день первого свидания, и день свадьбы. Веселой. Комсомольской, как тогда было принято. Предновогодней. С редкой для Ростова декабря 1963 года подаренной друзьями белой сиренью, которую мы потом на все юбилеи свадьбы с трудом добывали даже в сегодняшней Москве.
Вместе в два раза больше, чем друг без друга.
Не гладко. Не идеально: идеальности, ее ведь не бывает. С ссорами. Обидами. Ревностью – даже когда обоим было уже за семьдесят. С домашними праздниками. Традициями. Нежными словами. С тем ощущением семьи, родившись с которым я и не представляла, что семья может быть не одна, что замуж можно выходить не раз и навсегда. Родившись в которой, я, увы, не научилась понимать, что семья может быть и другой.
Мама моя, Надежда Петровна, родилась перед войной в казачьем хуторе с красивым названием Ягодинка, недалеко от Ростова-на-Дону.
Была девятым ребенком в семье, но к моменту ее рождения трое старших братьев и сестер умерли – в 20–30-е годы XX века детская смертность в крестьянских семьях была обычным делом.
После моей мамы уже в военном, 1942-м, родился десятый ребенок, Даша, младшая сестра, позже трагически ушедшая из жизни в двадцать лет, что тогда стало для мамы еще одной глубокой раной на сердце…
Всех детей моя бабушка Варя, Варвара Степановна, рожала сама, без акушерок и роддомов. Как Наталья в «Тихом Доне» – ушла куда-то на рассвете и потом «принесла в подоле».
Маму и ее старшую сестру, Зину, которая родилась с ней в один и тот же день, только на пять лет раньше, бабушка рожала в летней кухне. В ноябре. Когда в этой самой кухоньке стужа уже лютая. Как это возможно, в голове моей не укладывается. Как не укладывается еще многое из того, что пережила моя бабушка Варя.
Еще не исполнилось маме и двух лет, на фронт ушел отец Петр Макарович и двое старших братьев Павел и Александр. Брату Саше не было еще и 18 лет, он ушел воевать добровольцем.
Не вернулся никто. Три похоронки пришли в 1944-м. Эти похоронки, потертые старые казенные письма – всё, что осталось от ее отца и братьев, – мама бережно хранила и хранит.
И еще несколько старых фото. Дореволюционные снимки в фотоателье Александровск-Грушевского (так тогда назывался город Шахты, что недалеко от недавно построенного ростовского аэропорта «Платов»). Мои прадед Макар и прабабушка Алена, дед и бабка моей мамы по отцовской линии – истинные столпы казачьего рода, точно документальный слепок «Тихого Дона». С детства воспринимала их на этом фото стариками, только недавно догадавшись, что здесь они намного моложе меня нынешней.
Мой дед Петр, мамин отец, с лихо закрученными казачьими усами и заломленной набок фуражкой – почти Гришка Мелехов! – сидит на казенном венском стуле, а бабушка Варя в белой кружевной накидке, связанной ею самой «для приданного», стоит, робко положив, как велел фотограф, руку на плечо мужа. Идиллия. И только эта рука – огрубевшая от крестьянской работы рука совсем еще молодой женщины – нарушает лубочность поставленного провинциальным фотографом кадра. Да еще знание отсюда, из будущего, что с ними будет дальше.
И еще несколько обрывочных воспоминаний из детства остались в памяти моей мамы…
Как отец наклонился к ее кроватке, прощаясь перед уходом на фронт.
Как старший брат Павлик любил ее маленькую, называл Наденькой и выделял из прочих сестер и братьев.
Как на их хутор пришли фашисты, заняли и их дом.
Оттуда, из оккупации, и напугавшее маму на всю жизнь воспоминание. Семья их ютилась в холодной летней кухоньке, той самой, где бабушка когда-то их с сестрой рожала. А мама, трехлетняя, голодная, как-то пробралась в дом, в котором квартировали фашисты, и ручонкой потянулась к их столу, за вареной картошкой. Один из фашистов заорал на нее так, что у нее, крохи, пропал дар речи. Долгое время она не могла говорить, боялись, что на всю жизнь немой останется, хуторские бабки травами лечили, приговорами «отчитывали», но обошлось.
– Но и среди фашистов не все были звери, – часто говорила мама, пересказывая со слов своей матери и теток, что было дальше. – Командир того солдата, который напугал меня, строго наказал его, заставил бегать вокруг хутора.
Еще мама рассказывала, как ее мама, моя бабушка Варя, с грудной Дашенькой пешком шла из их хутора под Ростовом до Сталинграда (а это больше 350 километров), потому что от сына Павлика пришло письмо, что его часть стоит там.
Рассказывала, как шла бабушка по зимней ледяной дороге 1943 года, под пронизывающими насквозь степными ветрами. Как сестра Дашенька по дороге умерла. Бабушка Варя и женщины, которые шли вместе с ней, уже выдолбили в мерзлой земле могилку и положили туда крошечную девочку, как вдруг она зашевелилась и ожила. Как вся эта страшная дорога оказалась напрасной: часть, в которой служил Павлик, уже перевели из-под Сталинграда, когда бабушка туда дошла: так она и не увидела больше сына.
Эту страшную историю из бабушкиной жизни я отдала одной из героинь своего романа «Знак змеи», которой дала бабушкино имя Варя. Но не стала описывать всё, что было потом.
С кем на хуторе оставалась моя трехлетняя мама и ее братья и сестры, пока бабушка с Дашей ходила пешком в Сталинград и обратно? Если старшему из живых братьев было тогда не больше десяти лет… Этого я даже представить себе не могу!
Помнила мама смутно, что брат Саша приходил на побывку после ранения, но почему-то уехал, не добыв положенный ему срок отпуска, и больше не вернулся.
Помнила, тоже смутно, что, получив за один 1944 год третью похоронку, ее мама, моя бабушка Варя, будто бы «умом тронулась». Ушла с хутора «куда глаза глядят». И какие-то добрые люди нашли ее за много километров от дома, выходили и вернули домой… И с кем тогда много дней оставались моя мама и ее сестры и брат, тоже невозможно себе представить. И как им было страшно тогда…
Помнила ли мама всё это сама или обрывки памяти сложились из рассказов старших, трудно сказать. Но именно эти обрывки памяти оставались с ней дольше всего.
Война. И голод. Страшный послевоенный голод. На хуторе, через который прошли бои и оккупация. В семье, где пятеро оставшихся в живых детей и только одна день и ночь работавшая в колхозе и по дому их мать.
– Племянника новорожденного надо было кормить – все уходили в поле работать. Мне оставляли кашу, ее нужно было пережевать, чтобы младенец мог проглотить, – рассказывала мама, даже столько лет спустя жалея себя. – Жую, жую, а сама голодная, каша в рот и провалится. А нельзя же! Кормить малого надо. И мне стыдно! Реву! И опять жую. И реву!
Еще мама помнила, как со старшими женщинами ходила по семь километров пешком в ближайший город Шахты на рынок – овощами и зеленью с собственного огорода торговать. Босиком. Обуви не было. Единственные башмаки – на зиму, в школу ходить.
– Женщины взрослые быстро идут, я за ними не успеваю. Корзины тяжелые. Камешки в ступни впиваются. Всё продам, назад бегу, просто лечу, все денежки маме отдать. Старшие сестры когда на базар ходили, не всё матери отдавали: то сладости себе купят, то ленты. А я всё до копеечки… Отдам, а она даже не похвалит.
И через семьдесят лет жалела себя маленькую мама.
И не могла простить собственной матери отсутствия нежности по отношению к ней. А откуда было взяться нежности у днями и ночами работавшей женщины, оставшейся одной с пятью детьми…
– Только когда брат Жора в четырнадцать лет пошел работать на шахту и принес первые деньги, чуть полегче стало.
Зарплата четырнадцатилетнего подростка на советской шахте в сороковые годы. На семью из шести человек. И это им казалось «полегче»!
И ещё мама всю жизнь подсознательно не могла простить своему мужу, моему папе, что отец его остался жив: у моего деда по отцовской линии, Ивана Матвеевича, была бронь, как у железнодорожника, на фронт его не призвали. И детей в семье было только двое: отец и его сестра Люба, а брат Петя умер, когда ему было десять, а отцу моему двенадцать, что осталось тяжелой травмой в душе отца.
Но и эта жизнь моей маме после ее детства казалась раем…
Дальше в жизни мамы всё сложилось хорошо.
Школа с серебряной медалью – золотую не дали по какой-то несправедливости, которая в ту пору поразила мою юную маму до глубины души. (Странно, что похожие истории для этой книги с несправедливо неполученной золотой медалью мне расскажут еще несколько человек!)
Институт с красным дипломом.
Красавица. Всегда в центре внимания. Комсомольский секретарь – тогда, в начале 60-х, это был еще честный социальный лифт. Друзья по комсомольской работе остались друзьями на всю жизнь, до сих пор все, кто жив, звонят на каждый праздник.
Отличная профессиональная карьера.
Там же, на комсомольской работе, она встретила отца – лидера, красавца. Вышла замуж. Родилась я…
Шумные веселые застолья друзей, которые помню с детства, – это мама. И домашние стенгазеты на наши праздники – мама. И поездки за город с друзьями на пикник – тоже мама. И вручную расшитое блестками и стеклярусом новогоднее платье Снежинки, в котором в первом классе выступала я, а потом много лет спустя – и моя дочка, – тоже мама. И сказка летнего отдыха. И чтение «Евгения Онегина» вслух. И мои друзья, всегда говорившие, как мне повезло, что у меня такие родители, – и это тоже моя мама.
И еще такая невероятно счастливая, просто летающая после рождения внучки! Моя мама, ставшая бабушкой!
Оба они, отец и мама, с крохотной Сашенькой на руках… Больше настолько счастливыми, безоблачно, безгранично счастливыми я их не видела…
Пусть этот момент так и останется в памяти навсегда…
Когда я стала понимать, что с мамой что-то не так?
За четыре года до случившегося, когда мы с отцом практически «под конвоем» отвели ее на МРТ и узнали диагноз?
Или много раньше? За двадцать два года до этого, когда после рождения второго внука родители переехали в Москву. И…
Только теперь, записав для этой книги столько похожих и непохожих историй других людей, поговорив со специалистами, я окончательно убедилась: первые симптомы болезни стали проявляться еще тогда. Только я приняла их за психологические трудности, возникшие у мамы из-за ухода с работы, смены города и круга общения.
«Мама до Москвы и мама в Москве – это две разных мамы!» – в сердцах говорила я подругам, не понимая, как человек может так сильно измениться.
Только теперь, уже зная диагноз и все формы его первых проявлений, стала осознавать, что это были не только психологические трудности: первые ростки болезни появились уже тогда.
В мамином роду по женской линии почти у всех были инсульты. У ее мамы, у старших сестер. Поэтому так настойчиво много лет я просила ее сходить провериться.
Но уговорить маму было задачей непосильной. – Хватит делать из меня дуру!
– Я что, больная?!
– Выпью валерьянку, и всё пройдет!
– Я сама знаю, что мне лучше!
– Хочешь, сама и иди! А у меня всё нормально!
…
Дальше сами можете вписать реплики ваших родителей, мало чем отличающиеся от этих.
Среди наших родителей и старших родственников, бывает, случаются прямо противоположные примеры, когда люди в возрасте любят лечиться. Обретая от хождения по поликлиникам, пребывания в стационарах и реабилитационных центрах скорее общение, чем собственно лечение.
Но – вывод, не претендующий на социологическую корректность, сделанный исключительно на основе собственного круга общения, – в большинстве своем наши старшие родственники заботиться о своем здоровье не умеют, не любят и не хотят!
Более того, считают это чем-то почти стыдным!
Откуда это категорическое, непреклонное, возведенное в абсолют нежелание думать о себе и о своем здоровье? У моей мамы. И у ваших мам и пап. И у всего поколения наших родителей, бабушек и дедушек?
От внушенного со времени их пионерско-комсомольского детства, из их правильной или неправильной советской жизни убеждения, что в больницу можно обращаться в одном случае – если упал замертво? Особенно часто это проявляется у наших отцов: «Я что, не мужик, что ли, при каждом покалывании в боку к врачам бежать!»
От нежелания признавать, что собственный организм уже не может работать так же четко и отлажено, как в молодые годы? Нежелания признавать свой возраст и свое неизбежное старение?
От категорического неумения осознать тот факт, что медицина должна быть превентивной – предупреждать болезни, а не лечить, когда уже поздно?
От неверия в доступную медицину – «без денег и/или без знакомств не вылечат, а угробят, иначе не бывает и быть не может»? В советское время важной приметой состоятельности было прикрепление к ведомственной поликлинике, лечение в которой считалось более надежным и престижным, чем в районной. В постсоветское – дорогая страховка и платные услуги как противовес всё той же пугающей районной поликлинике.
Да, они такие, наши родители и старшие родственники.
Это их осознанные или подсознательно воспринятые установки.
И их уже не изменить. Ни родных. Ни их установки.
Но…
Расплачиваться за эти установки теперь приходится не только им, но и – в первую очередь – нам. Мы с вами уже оказались или вот-вот окажемся с больными беспомощными стариками на руках. И нам – в целях самосохранения – важно придумать, как сделать так, чтобы любые болезни наших близких были обнаружены в зачаточном состоянии, а не когда уже всё плохо совсем.
– Акатинол нужно было начинать давать лет двадцать назад, – сказала психиатр Елена Макух в тот самый страшный день, о котором я еще расскажу.
Лет двадцать назад… Именно тогда стали проявляться первые признаки болезни, которые я приняла за некоторые странности изменившегося маминого характера. И за сложности отношений со мной, плохой дочерью.
Лет двадцать назад…
Ругаю ли я себя, что тогда не отвела маму за руку в больницу? Что сама не заплатила за прием врача и обследование, не называя маме сумму счета: «за такие деньги» она лечиться никогда бы не пошла. Не оплатила ей прикрепление в хорошую клинику, которая напоминала бы ей «ведомственные поликлиники» из советской жизни.
Ругаю. Конечно, ругаю.
Но у меня тогда было двое маленьких детей, бесконечно много работы. И совсем не было денег. То есть совершенно. На первый Новый год, который могла запомнить маленькая дочка, мы купили ей в подарок зубную щетку и простые акварельные краски. И, кажется, всё.
А у моих родителей деньги были. Не много (всё накопленное за долгую жизнь сгорело на сберкнижке в начале 90-х), но отложенные на черный день были. На посещение платного врача или прикрепление к хорошей клинике хватило бы. Но заставить их потратить деньги на себя и свое лечение я не смогла.
Мы все сильны задним умом. Увы.
Что бы я сделала, окажись я на двадцать лет моложе с нынешним своим опытом? И что можете сейчас сделать вы, пока ваши родители еще – внешне – здоровы.
Наверное, я бы соврала. Во благо. И, если бы даже не успевала, не могла заработать денег сама, попросила бы у самих родителей в долг. Якобы для себя. Но потратила бы на медстраховку или прикрепление к хорошей поликлинике или просто на серию анализов для них. Придумав, что это бесплатное дополнение к моей собственной страховке «от работы». «Медобслуживание членов семьи» в хорошей поликлинике – это мои родители бы поняли.
Или, собрав всю волю в кулак, взяла бы за руку и отвела в районную поликлинику, чтобы пройти хотя бы базовые обследования, чтобы знать, где искать.
Через двадцать лет вести маму в клинику пришлось, взяв под руки с двух сторон – отцу и мне. И собрав всю волю в кулак. Только через двадцать лет все стало гораздо страшнее. И момент был уже упущен.
Еще я почитала бы форумы в интернете, которые тогда уже зарождались. Подобные признаки явно у кого-то уже встречались. И узнала бы, что делали люди. И что надо делать мне.
Или…
Или…
ИЛИ…
Главное – я бы засунула глубоко внутрь все обиды на мать, все недопонимания, все тяготы общения. И сказала бы себе, что и маленькие дети не хотят идти к врачу, но я же их не слушаю, потому что знаю – им это нужно, и всеми правдами-неправдами веду. Без этого они не смогут нормально развиваться и расти. И я должна водить детей к врачу. Это мой долг. И водить к врачу родителей с какого-то момента – это тоже наш долг. Водить как детей – уговаривая, пускаясь на все хитрости, подкупая. Чтобы они могли нормально жить и спокойно и красиво стареть.
Иначе себе будет дороже. Намного дороже.
Материально. И морально.
Что делать?
• Отведите родителей к врачу!
• Отложите все дела в сторону и отведите родителей к врачу.
• Не ссылайтесь на нехватку времени и занятость – потом это займет в разы, в десятки и сотни раз больше вашего времени!
• Не оправдывайтесь нехваткой денег: потом всё это – врачи, лекарства, сиделки, операции и проч., и проч. – будет на порядки дороже!
• Не избегайте этого под предлогом «я это не вытерплю!». Вытерпите! Хотя бы потому, что потом придется терпеть гораздо дольше и намного больше!
• Отведите родителей к врачу. По крайней мере чтобы понять, что дальше. Какие перспективы. И к чему вам быть готовым. А готовиться придется. Каждому из нас.
#комментарий_врача
Марина Василенко, врач-невролог высшей квалификационной категории
На первых этапах возможного развития болезни важно обращать внимание на снижение памяти на текущие события, затруднение запоминания новой информации в освоении новых навыков, ограничение круга интересов, снижение критичности, беспричинные изменения настроения. Всё это повод обратиться к специалисту-неврологу для уточнения диагноза и подбора терапии.
#комментарий_врача
Вера Смирнова, врач-психиатр, опыт работы с пожилыми пациентами более 12 лет
Отличие легкого когнитивного снижения от начала деменции – в способности человека обслуживать самого себя без посторонней помощи. Если ваша бабушка или дедушка уже не могут разобраться в том, как в современном технологичном мире взять талон в поликлинику, постоянно нуждаются, чтобы вы помогли им купить продукты, это уже означает, что их уровень функционирования не самодостаточен.
Этот переходный этап между легким снижением когнитивных функций и слабоумием – этап очень болезненный для пожилых людей. Они еще понимают, что с ними происходит! Это тот момент, когда они пытаются маскировать свой дефект, пытаются вести заметки, по телефону говорят детям, что всё в порядке, часто им очень стыдно бывает признаться, что у них что-то не получается.
Сейчас пожилые люди часто живут далеко от своих детей, которые разлетелись по всему миру. И бывают ситуации, когда первый врач, который их смотрит, это уже я, хотя после меня уже только патологоанатом. А всё потому, что много лет родители бодрым голосом отвечали по телефону, как они гуляли, куда-то ходили, а на самом деле всё уже давно не так. По телефону речь сохраняется очень долго такой же, как всегда была: особенно если человек интеллектуального труда, речь у него будет сохранной достаточно долго. Живущие на расстоянии дети очень часто не замечают до глубокой степени деменции, что что-то не так.
Изменение характера – один из первых признаков того, что возрастные изменения в мозге идут. И от начала очевидного когнитивного дефицита, выраженного в деменции, они могут отстоять на десятилетия.
У людей старше пятидесяти лет любые резкие изменения в характере – это повод провести МРТ головного мозга и отправить к специалисту. Это могут быть сигналы не только деменции, но и опухоли и других заболеваний. Это не просто «бабушка чудит». Это бабушка требует к себе внимания, не потому что она просто соскучилась, а потому, что она начинает чем-то заболевать.
@моя_история
Юлия Баева, село Диканька
За неполные сутки мамочка моя уже выполнила месячный план по катаклизЬмам.
– Юля! Юляяяя!!! Ты что, не видишь, кто-то пошел???
– Куда пошел, мамочка?
– По улице кто-то пошел! Мужчина и женщина!!!
– Ну-уу и-ии-ии? Пошли себе мимо!
– Но они же мимо нашего дома идут!!!
– Что-то надо предпринять, мама? Догнать их и попросить обходить наш дом стороной?
– Нет, ну это лишнее…
Вчера вечером иду курить, слышу, вроде бы кто-то и где-то голосит…
Ну кто и где может голосить?
Бегу к маме.
– Мамуль, это ты митингуешь?
– Ну да, я.
– Что-то срочно нужно или подождешь минут 10–15, пока у меня там картошка дожаривается?
– Ты включи свет во второй комнате и всё увидишь…
Включаю.
Сидит моя птичечка на полу.
Спиной к горячей печке.
– Давай руки, мамочка, будем подниматься!
– Я, пожалуй, тут еще посижу…
– Ну ты же звала меня, чтобы подняться? Давай будем подниматься!
– Ты меня за руки не тяни! Ты должна зайти назад. И поднять меня под мышки!
– Мам, я бы с радостью. Но сзади тебя печка. А у меня – толстая тыльная часть. И даже при очень большом желании я туда не втиснусь! Давай руки быстррррррррро! А то там картошка сгорит!
Мама не ожидает, что я так буду ею командовать, это раз, картошку жареную она очень любит, а кто ж ее не любит, это два, потому протягивает руки – и-ии я ее легко тяну прямо задницей по линолеуму!:)
Освобождаю место между мамой и печкой. Приподнимаю ее под мышки и вбрррррррасываю на стоящий рядом диван! Через десять минут волоку ей ужин, красавица моя чешет из одной комнаты в другую. С одной клюкой своей. После перелома тазобедренного сустава ходит с трудом, но ходунки игнорирует и шЫбко раздражается, когда я ей временами напоминаю об их существовании.
– Маааа? Ну а где вторая палка-то?
– Так у меня ее…
Мама не успевает договорить, как я начинаю строить предположения:
– Украли?:)))
– Да! У меня украли вторую палку!!!
– А вон на твоей кровати не она ли лежит?
– Гкмх… Интересно, как она туда попала…
– Вариантов два, мам!:) Первый – сначала украли, потом подбросили!:) Второй – сама запрыгнула!:) К слову, вон на твоем столике и твой мобильный лежит, который у тебя украли, и именно поэтому ты пытаешься доораться до кого-то через своих две двери и наших три!
Сегодня утром приношу ей завтрак.
Сидит моя хорошая на кровати и методично дерет туалетную бумагу. Отрывает от рулона клочки и бросает на пол.
– Мамууулечка? А шой-то ты делаешь?
– Я? Ничего я не делаю! Что ты ко мне пристала??? И вообще, это не я!
Только что опять выхожу курить и опять слышу рЭпЭтующую маму!:)
В этот раз она сидит между своей кроватью и журнальным столиком, стоящим около этой самой кровати.
– Ма-аама-аа, ну нащо же ты орешь-то??? Ну можно же взять мобильный и позвонить? Раз уж у тебя его не украли!
Мамочка радостно сообщает, что телефона-то и нету-уу.
Я понимаю, что она его надежно спрятала!:)
Чтобы опять на кого-то навесить воображаемую кражу!:)
Снова поднимаю.
В тысячный раз прошу не спать сидя.
– Я? Да ты всё наговариваешь на меня! Ты всё придумываешь! Тебе лишь бы в чем-то меня обвинить!!!
– Ну а как ты падаешь? Впритирку к дивану или кровати?
Раздувает яростно ноздри и изрыгает проклятия!
А я ж знаю, как всё это происходит.
Не один раз наблюдала.
Сидит мама на кровати или диване.
Начинает засыпать. Голова клонится всё ниже, ниже, ни-ииже-ее…
Сначала голова почти касается коленей.
Потом голова уже ниже коленей.
В какой-то момент голова перевешивает задницу и мама сползает вниз… Но это не она!
И вообще, чего я к ней пристала-то?!
Дай мне, Боже, сил, терпения, терпимости, любви, принятия и юмора.
Юмора, пожалуйста, побольше, ладно?:)
И нехай я подольше буду в «зрелом» возрасте. Который находится аккурат между юношескими иллюзиями и старческими галлюцинациями.