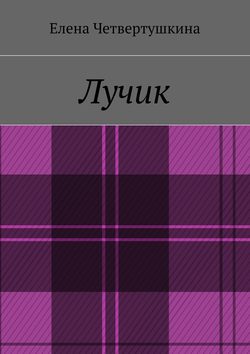Читать книгу Лучик - Елена Борисовна Четвертушкина - Страница 2
Глава 1
ОглавлениеВыживание – это когда ты жив на выходе.
Памятка спецназа
Господь создал человека, а человек создал города. Разные города, всякие – большие и маленькие, столичные и провинциальные: Сетениль-де-лас-Бодегас и Хабнарфьордюр, Хайзыонг и Хванчкару, Иерусалим и Звенигород, Рай и Хам, Москву и Рим. Никто из людей не выбирает места своего рождения, рождается как Бог пошлет, – в столице, деревне, тихом пригороде… А потом как сумеешь, так и живи, кто уж на что способен.
Говорят, было два Рима, и Москва – Третий Рим, а четвертому не бывать.
Когда-то во времена, канувшие в разочарование и неловкость, в наших унылых весях модно было клеймить чужие столицы, вешая на них обличающий ярлык «города контрастов». Какие только города не обвиняли за годы народной власти, гремя и грозя глаголом, в неуважении к традициям, пренебрежении собственными насельниками и показушничестве! И Стамбул, и Лондон, и Нью-Йорк, и ещё многие, многие другие, зачастую вовсе не заслужившие никакого порицания… Но прошелестели страницы учебников истории, навсегда закрывая и хороня в себе поспешные суждения, торопливые выводы и откровенную хулу. Загадочный, и манящий этой загадочностью диагноз «города контрастов» шатался по континенту, стукался об углы, почти забыл, куда шел, но всё-таки достиг Первопрестольной, и оказался ей, увы, вполне по плечу и по росту.
Красная, в сердце души находящаяся площадь, пережившая за тысячелетия взлёты и падения, – и боярскую смуту, и народную славу, лихо безумия собственных властителей и набеги иноплеменников, – была ещё и осквернена языческим капищем-могильником, и футуристической выходкой хулигана-лётчика Руста, и сюрреалистической экспансией рекламного «сундука».
И Белый город не избег поношения: пришлось пережить захлопнувшую эпоху террористическую казнь храма Христа Спасителя, и надругательство над святынями; вместить уходящий в ностальгические сновидения старожилов (рывками, сопротивляясь отчаянно) старый Арбат, и вставную челюсть Калининского проспекта, и воплощенные в камень кошмарные видения чудного до чудовищности Церетели… Бесчисленные бизнес-центры и вип-помойки, бутики и элитные клубы горделиво взирают теперь на в смерть уделанные бездушным невниманием или бездушной жадностью особнячки и городские усадьбы, в творческих муках порожденные чьим-то гением за 3 последних столетия. Клоаки дворов, прозябающие исторические ценности, раскуроченные мостовые, – вот чего стоила великому и славному городу, который, несмотря ни на что, всё-таки до сих пор является для кого-то просто малой родиной, местом рождения, тяжкая поступь Золотого тельца – нового века. Милые сердцу аборигена Маросейки, Сретенки, Пречистенки, Старые Сади, Воронцовы поля и Чистые Пруды (выселенные под натиском «внезапных перемен» в Орехово-Кокосово, Ново-Перепалкино и Ясенево с Бутовым), начали превращаться по ночам в геопатогенные зоны необитаемости и нелюбви, так что и не удивительно, как быстро писатели-фантасты принялись наперегонки сочинять о них чудовищный вздор.
Жизнь столицы, реальная её, домашняя жизнь, безвозвратно скудеет. Но, разорительному оскудению этому бросая молчаливый вызов, перетекает на горбах перегоняемых стад всею полнотой своею в спальные районы.
Сёльца и деревеньки, – вся кажущаяся лузгой мякоть старой жизни, ставшая почвой для возникновения новых районов матушки Москвы, – за долгие века истории своего существования успела побывать и вотчиной опричников, и владениями опальных бояр. Имена их, до поры славные (как и приданные фамилиям деревеньки), при дальнейшем переписывании летописей по разным личным причинам потихоньку вымарывались, подчиняясь воле князей века сего, так что порой и памяти не оставалось о реальной истории этих мест. Нынешние жители спальных районов, махнувших за красные флажки МКАДа, обустраивались и приживались, как могли и как умели. И постепенно переносили засевшую занозой в душе тоску по родному дому, со всею полагающейся этому дому любовью и горделивой заботой (от которых, может быть, слишком поспешно и опрометчиво отказалась столица) на новые, отнюдь не целинные места проживания.
На перепаханном без ума поле гибли травы, вросшие за столетия в зону рискованного земледелия, – некогда, если честно, самой неказистостью тихой жизни своей обеспечивающие жизнь и цветение совсем других, не географических координат… Со срезанной бездушным лемехом цветоножки разлетался невесомый пух – никем неучтенные и несчитанные души; но они не согласны были оказаться закатанными в гумус, и старались выжить, со всею отчаянной решимостью дикого растения, неизвестно за что объявленного сорняком. Чуточку растеряно, но деловито обустраивались, привыкали к непривычному. Стиснув зубы, вгрызались корнем в суровые неудоби, цеплялись новыми побегами детей и внуков за терру-инкогниту; да, иногда кляли недобрым словом мачеху свою жизнь, но всё-таки прорастали, цвели и давали нехитрый плод. Узнавали, осмысляли старые апокрифы и легенды, и закладывали их в сундучки-кладенцы памяти, которые потом, как во времена бабушек-дедушек, можно будет с гордостью передать правнукам; разбивали садики на пустырях, мастерили лавочки и завалинки в изножьях многоэтажек, сочиняли новые анекдоты и былины… Потихоньку, упрямо, из разорённых непреодолимой силой гнезд и забытых за недосугом дедовых сказов, из глубин народной души, тоскующей по Родине, формировался новый патриотизм. Не в старинных кабаках на росстанях, а на форумах в соцсетях возникали сообщества, клубы и компании неравнодушных к прошлому, настоящему и будущему.
Новые аборигены не только оживили собой позаброшенные пустоши, но и вплели вновь открытые земли в вечность: однажды автор, добираясь последней электричкой с Киевского вокзала домой на дачу, на перегоне Солнечная – Перепалкино услышала потрясший её диалог.
– Скажите, – вежливо осведомился из плотно утрамбованной в тамбур толпы интеллигентный мужской голос, – а когда будет Перепалкино?..
И в ответ прозвучал грубый, не слишком трезвый, но потрясающе уверенный, и гордый своей правотой голос:
– А Перепалкино, брат, будет всегда.
Когда-то давно, в самом начале освоения, пригород слыл местом ссылки всякого отребья. Люберцы, Солнцево, Марьина Роща недоброй славой московских гетто торили дорогу в народную молву. Но прошло время, прогромыхали и прошелестели года, сменился век – и пригороды стали потихонечку распрямляться, подорожали и обросли благородными чертами тихой провинции. Там, рядом с новыми многоэтажками, ещё прячутся в вековых соснах и березах остатки дачных поселков, и влившаяся когда-то в мегаполис приземистая поселковая архитектура живет-поживает вполне благополучно, хоть и тесновато.
Бесконечные «Перекрестки» и «Дикси» на сегодняшний день там вполне современны – безличностны, вороваты и самоуверенны. Зато маленькие, в два обеденных стола площадью, минимаркеты, – наследники и восприемники деревенских сельпо, – по-прежнему знают в лицо всю свою, пусть сильно выросшую в количестве, клиентуру. Они обслуживают неторопливо и вдумчиво, страшно неохотно хамят, и всегда при случае спросят о здоровье родителей, благополучии детей и успехах внуков.
Ново-Перепалкино, конечно же, как и прочие старые местности, названо было не по приказу, а по заслугам, и заслуги эти не совсем канули в Лету. Перепалки в тех местах с адамовых русских веков случались регулярные и нешуточные. Неспроста же флаг района повторяет старинную гербовую эмблему, заново утвержденную 13 января 1998 года: в красном поле щита меч острием вверх; справа и слева – 4 золотых дубовых листа, расположенных косым крестом, что знаменует ратные подвиги русских над врагами, подступавшими к Москве. Дубовый лист символизирует мужество и доблесть, меч – умелое владение оружием.
В 1812 году здесь дали отпор французам, предотвратив их продвижение по Боровскому шоссе к южным, ещё не разоренным, дорогам.
В 1941 именно здесь 30-я и 5-я армии, а также кавалерийская бригада генерала Белова, перекрыли немцам путь на Москву.
Ведь сказано, сказано же было всем: кто с мечом к нам придет…
…Конечно, преступность существует и тут, – некогда, как рассказывают старожилы, здесь считалось даже опаснее, чем в близлежащем, обросшем криминальной хроникой Солнцеве. Но, видимо, сказались окружающие Ново-Перепалкино тихие леса, соседство с Патриаршей дачей и храм Преображения Господня, венчающий господствующую над местностью высоту, – всё это как-то действовало, и местные мафиози даже в лихие 90-е дома предпочитали не гадить. Ну и, конечно, район-то был спальный, так что днем там обитало только мирное население, а по ночам люди привыкли спать. Впрочем, новые забубенные времена породили и новые легенды: например, до сих пор рассказывают, как провинившихся членов Солнцевской бандитской группировки в наказание за легкие провинности заставляли мести метлой платформы пригородных электричек.
…Улица Чеботарская была исключительно наглядной иллюстрацией застойного плаката про контрасты. Если встать спиной к красным флажкам МКАДа, а лицом к Федориному полю, то слева от тебя высились белые утёсы многоэтажек, перемежающиеся нарядными кубиками школ и детских садов, а справа прятались в зарослях сирени и сосен старые дачи. За ними просматривалась суровая нитка железной дороги, а дальше, на взгорке, сияли купола церкви, часовен, и маковки патриарших надворных построек. Дачи, которые с удовольствием слопали бы володухи-застройщики, стояли твердо. И жили там, как правило, люди стойкие, много чего в жизни повидавшие; московскую прописку они имели безусловно, но в силу обстоятельств или нутряного принципа предпочитали вековые сосны, речки-переплюйки и «кустарниковую» зону Можайского лесопарка бизнес-центрам, давке в пробках – какая разница, в личном авто, или в троллейбусе с трамваем! – бессердечной глухоте соседей и общему падению нравов в Первопрестольной. Квартиры в Москве отдавались детям или внаймы.
Так же жил и Владимир Ильич.
Имени своего он уже давно перестал стесняться, потому что ещё давно, сразу после окончания своей шестидесятнической диссидентской юности, простил родителям – пламенным коммунистам, – этот верноподданнический порыв: ну как, как в 40-е годы верные ленинцы могли назвать мальчика, родившегося от папы – Ильи?! А многие и многие прожитые годы (как в приключенческих романах – китовый жир, выливаемый за борт погибающего в шторме парусника) усмирили волны претензий и разочарований. В конце концов, что такое имя? – всего лишь то, что ты можешь прославить или опозорить… Ничего, кроме уважения и запоздалого сочувствия не испытывал ВИ к своим покойным родителям, и вспоминал печально и тепло их весёлую энергию, уважительную любовь друг к другу и сыну, и искреннюю веру во всеобщее братство. Владимиру Ильичу немного понадобилось времени, чтобы понять: родители были всего-навсего романтики, и его воспитали таким же.
С началом новых демократических времен все, жалея, стали называть его просто ВИ.
ВИ был человек не слишком удачливый, но очень способный. Образование имел обще-гуманитарное, поэтом стать хотел, конечно, да не потянул, и потому всю остальную жизнь подвизался на ниве художественных переводов. И теперь, совсем уже на склоне дней, занимался тем же. Пережив многие годы наплевательства на культуру, он в какой-то момент неожиданно дождался признания своего таланта и широкой известности в узких кругах, получил материальную независимость и даже некоторую славу. Запихав глубоко внутрь мечты о несбывшемся, он решил, что теперь имеет право просто радоваться возможности получать чистое удовольствие от кропотливого своего труда, и – да! – капризничать: переводить лишь тех авторов, коих сам читал и перечитывал с удовольствием.
После страшных несчастий – смерти сына и жены, – он решительно признал свое поражение в борьбе с мегаполисом, и осел на даче, в старом, но крепком бревенчатом срубе, построенном ещё покойным папой, ведущим инженером оборонного предприятия. В даче имелись все удобства; она была бабушкиной вотчиной, бабушка дачу восприняла и приняла как-то сразу и ленно: бывшая крестьянка, в поисках работы пешком пришедшая в Москву незадолго до революции, всю жизнь проработавшая на том же оборонном заводе, куда потом, после института, пришел и её сын, – на старости лет она опять дорвалась до земли, и даже на зиму в Москву переезжала всегда ненадолго, и никогда без препирательств. Отец, относившийся к матери с громадным уважением, устав от её глухого сопротивления, в конце концов просто обеспечил дом всем необходимым, и препирательства прекратились. Конечно, многое со временем потускнело и обветшало, кое-что из времянки пришлось поменять и переделать; но сам сруб стоял прочно, и намерен был, судя по всему, простоять ещё лет 200.
Время шло, бабушка умерла, но когда жена ВИ ушла на пенсию, они подолгу жили тут, оставляя московскую квартиру на сына. Надеялись – вдруг вот он женится, и бросит опасную военную профессию…
Но не случилось.
Когда погиб сын, а за ним, тяжело отболев, ушла и жена, ВИ, оглушенный этой двойной, не давшей передыху потерей, быстро понял, что, оставшись в Москве, последует за женой так же стремительно, как и она за сыном. Врачи закатывали глаза, требовали опять и опять ложиться на обследование, всё намекали на что-то, сулили страшное; суетились, толпились, надоели смертельно… ВИ даже начали сниться сны про анализы, кривые кардиограмм и томограмм, цифры лейкоцитов, эритроцитов, холестерина и сахара. Сердце пошаливало уже давно, а узнав о гибели сына, ВИ был уверен, что его вот тут и накроет инфаркт. Но инфаркт накрыл жену, и ВИ прекрасно знал, что она, как всегда у них было, просто взяла на себя его боль. Только вот эта последняя двойная боль оказалась ей уже не по силам.
Теперь у Владимира Ильича остались только Сашки, дочь с зятем, сами уже имевшие внуков. Их с самого начала так звали, Александру и Александра, потому что они везде, всегда и обязательно оказывались вместе, ещё с тех времен, когда, после нескольких переездов, семья осела в большой квартире на Садовом кольце, против Курского вокзала. ВИ с женой прекрасно знали всю компанию детей, и будущего зятя тоже – такой всегда был заводной, хоть и щуплый, и заика… А вот драться с ним никто не рисковал, потому что дрался он всегда до победы, молча, и не без умения. Да и сын с дочерью, чуть что, немедленно вписывались. Парня уважали за самостоятельность: родители как-то быстро убрались по пьянке, и он жил в старой московской коммуналке с глухой бабкой; много читал, первым стал захаживать в открывшуюся во дворах церковь Апостола Иакова, вроде бы с бабкой, а ясно было, что сам по себе; говорил интересно об удивительных вещах, никогда никого не осуждал, хотя сам никогда не ругался, не пил, не курил, так же, как и дочь с сыном…
Нет, сын всё-таки покуривал – признался матери, когда уходил в армию.
Вот уж этот-то день навечно вошел в семейный фольклор.
…На Вадькины проводы в армию пришло человек 80. Ни по каким меркам старая четрёхкомнатная квартира не смогла бы вместить такого количества народу, – но друзья сына и дочери (знакомые и незнакомые ВИ с женой) явились накануне, и сами вытащили на 2 сопредельные лестничные площадки лишнюю мебель; и приволокли из ближайшего супермаркета продукты: 10 кг куриных окорочков, 20 кг картошки, ведро майонеза, по мешку моркови с луком, и 10 палок колбасы, не считая хлеба, который уже просто тащили в руках, охапками. Правда, ВИ с Олей показалось, что кое-кто из добровольных помощников начал праздновать загодя, и много в том преуспел, но… Кто там уже стал бы придираться!
Сашки-Вадькины родители, как называли их друзья, вообще никогда не заморачивались, с кем дружат дети. Они верили дочери с сыном безоговорочно, и знали твердо: те, с кем они дружат, не могут быть негодяями. Хотя звоночки имелись; как-то раз в середине перестройки, когда ВИ купил, наконец поднапрягшись, подержанную машину, с неё в первую же ночь стоянки под окнами (гараж где ж взять!) оперативно спёрли всё, не приваренное насмерть. ВИ, больше от неожиданности, поогорчался, посетовал… Да и плюнул, потому что некогда было, – ради возможности всем вместе ездить на дачу в собственном авто он влез в долги, и работы набрал под завязку. Да и зеркала заднего вида с мотороллой по цене не стоили истерики.
Тем более поразило ВИ, что к вечеру того же дня вдруг позвонили в дверь, и сбежали, а на пороге оказалось все украденное.
ВИ глянул на мотороллу, дворники и смущенную ухмылку сына, и решительно потребовал объяснений, а сын нахмурился:
– Пап, мы живем в криминальном районе. Ребята просто не знали, что это наша машина… Пойдешь в милицию?
– Нет, – сказал ВИ, помолчав, – не пойду.
…Стояли лихие 90-е; чуть не днями одна из подруг жены, рыдая у них в квартире, на наспех прибранной кухне, рассказала: у сестры обнаружилось тяжелое и запущенное онкологическое заболевание, и муж немедленно испарился, а сын – студент-физик, отличник МГУ и отличник ГТО, – чтобы заработать на операцию матери, нанялся стриптизером в клуб для богатеев. Ни ВИ, ни кто-то другой из старых знакомых, чтобы помочь, такими деньгами не располагал, хоть убейся.
А студент-физик теперь располагал.
…После провод, которые заняли не только день, но и почти всю ночь, Вадьку отправили на призывной пункт к 8 утра, а в 10 он опять позвонил в дверь, к ужасу родителей. Выяснилось, что контингент забираемых в армию оказался настолько пьян, что всех вернули по домам – отсыпаться, со строгим наказом явиться на следующий день по месту службы самостоятельно, на электричке, и в приличном виде – c удивительным по тем временам доверием к чувству долга призываемых, доходящим до революционного романтизма.
ВИ с женой, совершенно потерявшиеся в наканунешнем валтасаровом пире, взяли друг друга в руки, расспросили сына, как такое могло случиться: ведь из дому уходил трезвый?! Оказалось, пока ждали на призывном пункте, почти у всех завтрашних солдат с собой оказались припрятаны заначки… Родители строго указали Вадьке, что по сю пору ещё никого из их рода из армии не выгоняли, отпоили капустным (с дачи) рассолом, и отправили служить. В тот же день, к вечеру, опять-таки пришли ребята со двора, и затащили обратно мебель, и помогли убраться, и помойку вынесли…
А потом ещё много раз заходили, спрашивая, что пишет Вадька, и не надо ли чего, и не обижает ли кто.
…Теперь, категорически запретив близким говорить при нем на любые медицинские темы, ВИ уехал на дачу. Московская квартира, пропитанная запахом лекарств, ушедших в вечность тихих радостей и памятью о том, чего уже больше никогда не будет, давила на психику, комкала дни с самого утра, и всё норовила добить. На стенках висели фотографии; на любой горизонтальной поверхности, на каждой полке ВИ натыкался на ордена сына, его письма из горячих точек, и благодарственные письма от командиров, и на собачьи миски и собачьи витамины, и на лекарства жены… Квартира как будто застыла от горя, как муха в янтаре, и хозяина своего всё норовила обездвижить, добить, приковать к лекарствам и отчаянию.
А дача (он помнил, помнил) была благословлена или обречена на каждодневные вводные, и эти сложности – он надеялся! – не дали бы впасть в окончательную и непреодолимую безысходность.
После катастрофы ВИ уперся жить на даче один, хотя всем, и ему в том числе, было ясно, что это авантюра: хозяйством (как и садом) всю жизнь занималась жена. ВИ мог, конечно, сварить себе сосиски и суп из пакетика, измерить давление и снять показания со счетчика; знал, где лежат телефоны электрика, газовщика и сантехника, но в остальном был полным профаном. Сам он думал: ну и что?.. А вот Сашки согласились оставить его в покое только по одной причине: чтобы лично убедился, как сложно с непривычки остаться одному, и сделал правильные выводы.
– Почему бы тебе не переехать к нам? – спрашивала Сашка-дочь, – и что, что далеко?! – ты всё равно работаешь на компе, у нас отлично берет МТС…
– Нет, – отвечал ВИ, – у вас там сумасшедший дом, я с ума сойду. Дети, собаки, кошки, куры…
– …к-крокодилы-бегемоты, обезьяны-кашалоты, стада д-диких обезьян… – хмыкал Сашка-зять.
– А если вдруг отключат воду, – волновалась дочь, – ты знаешь, где ближайшая колонка?
– Перестань, – отбивался ВИ, сохраняя достоинство. – Прекрасно я знаю, где колонка, возле Поповых.
– Ну да, – печально кивала дочь, – действительно.
– Вот! И нечего тут…
– Поповы продали д-д-дачу пять лет назад, – деликатно замечал зять, – там уже д-д-давно автостоянка, и никаких колонок. Д-дядь-Володь, а как печь топить, ты знаешь?
– Это камин, – оскорбленно возражал ВИ, – и я всегда его разжигал сам.
Кто бы спорил, он действительно разжигал камин всегда сам, по праздникам или сумеречными днями, когда их с женой общая душа просила праздника. Но ему никогда не приходило в голову воспринимать камин как единственную защиту от реального холода, когда отсутствие дров означает не отказ от случайного удовольствия, а большую проблему, угрожающую здоровью.
Для особо невезучих – даже угрозу для жизни.
А вскоре и другое выяснилось: когда оказываешься на старом, вроде бы давно обжитом месте, но в непривычном сиротском статусе, то даже родной дом дичает и не узнает тебя, и представляется чужедальним. В окружении затянутой пыльными простынями мебели, сваленных в кучу подушек и матрасов, старых табуреток, с которых скалятся чемоданы, ты поначалу-то вроде бы даже взбадриваешься. Чувствуешь себя таким студенчески-молодым, таким коммунально-юным, что можно обойтись и без второй подушки, и без любимой, подаренной ещё бабушкой, кружки с пингвинами, которая не ко времени спряталась куда-то к шутам в буфете, и пусть телевизор стоит на полу, а комп на подоконнике… Но проходит день-другой, и оказывается, что нельзя обойтись не без любимой чернильной ручки, не без привычных старых, вытертых добела джинсов, диска Пьяццолы и собрания сочинений Переса-Реверты, а без пояса из собачьей шерсти от ревматизма, ортопедических стелек, «лозапа+» и верошпирона.
…Как в том хокку, что когда-то прочла жена:
Слезы застывают на морозе сосновой смолой…
С горы сошла лавина,
И не оставила ничего для меня в этой весне,
Кроме осиротевшей планеты.
Это не был перевод, просто кто-то из блогеров замахнулся на классическую форму.
ВИ сбежал на дачу уже в апреле, и первое время Сашки старалась навещать его как можно чаще. Жили они далеко, километрах в ста пятидесяти от Москвы, их собственные дети уже учились и работали в столице, на руках внуки… Но как только могли вырваться – приезжали.
– Да не рвитесь вы, пожалуйста, – сердился ВИ, больше всех устав через пару месяцев от этой толкотни и бестолковщины, – что со мной сделается?! Будет надо – позвоню… И не вздумайте подписывать на шефство Крокодилов – студенты должны учиться, а не шляться на патронат к старому дедушке. Я же не на плато Рорайма, в конце концов, я в городе – врачи под боком, магазин за углом, машина на ходу, вокруг люди…
Крокодилы были домашним прозвищем внуков. Вспомнив Сашек, можно было догадаться, что семейный фольклор заметно тяготел к обобщениям.
– Папа, у ребят уже каникулы. Мы просто скучаем по тебе, и дети тоже, вот и всё. И потом, надо же помочь с участком…
– А что такое у меня с участком? – удивился ВИ.
Потому что именно сейчас сад, которым никто последние два года не занимался, как-то особенно утешал: не прибранный, не приглаженный, без регулярных клумб и рабаток, он незаметно сливался с пейзажем за соседскими заборами, и становился просто кусочком чего-то нерукотворного и надмирного, где места не было ни человеческим планам, ни, как следствие, человеческим разочарованиям. Там возникли, густели и ширились таинственные уголки и загадочные, невесть кем протоптанные дорожки, ведущие в никуда…
– Ага. Кошки на водопой ходят! – говорила, воинственно подбоченившись, дочь. У неё вообще характер был решительный и бескомпромиссный.
– Не выдумывай. Вам что, заняться нечем? – растет себе, и пусть растет…
– Да тут скоро ходить станет невозможно!
ВИ задумчиво огляделся. Некоторая правда в словах дочери, скажем прямо, была: никем и ничем не сдерживаемая флора совершенно вышла из берегов. Траву сложно сделалось игнорировать: уже в июне она отросла и загустела так, что смотрелась прямо-таки океанически. Среди зеленых айвазовских гребней и впадин летучими рыбами ныряли бабочки; зелёные плюмажи одуванчика пёрли из щелей растрескавшейся плитки на дорожках, перед калиткой разлеглись цеплючие ловушки подмаренника, а проход к любимой скамейке под ветлой оказался совершенно затянут снытью и иван-чаем, из глубин которого одуряюще пах земляничный жасмин. ВИ искоса глянул на дочь, приосанился, и сказал:
– Траву я скошу.
– Сам? – ужаснулась дочь, – ты же никогда… Пап, давай купим газонокосилку!
– Не делай из меня остолопа! – возмутился ВИ, – кто сажал яблони? – вот эти, да, по одной каждый год, когда рождались вы с братом, и твои дети… мы с матерью всё делали вместе!
Дочь только головой качала. Не то чтобы папа был человеком сугубо городским, нет, – просто он был поэт, и разбирался скорее в стихах о буколической жизни, чем в печальных и трудных реалиях этой жизни. Сколько Сашка себя помнила, привлечь отца к садовым работам можно было лишь грубым шантажом – например, угрозами обратиться к соседу, которого ВИ недолюбливал за образцово-показательный огород, который ему, ВИ, постоянно ставили на вид. Сосед был рачителен, суров, и пахал у себя на участке, как ударное звено полевой бригады тракторов «Белорусь».