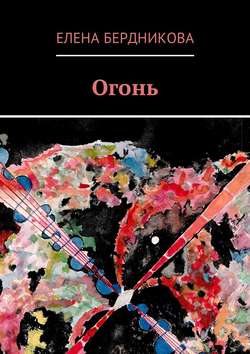Читать книгу Огонь - Елена Геннадьевна Бердникова - Страница 3
ПЕРВОЕ ИЮНЯ
ОглавлениеI. 1997
Когда вдруг рухнула советская стена,
Настала череда лет зноя и свободы.
Москва крошилась, плавилась, но нас
Касались сквозняки, нам белые биллборды
«Прорвемся» – сообщали нашу власть
Смеяться в зеркалах и звать благополучье:
Москва, в лесах строительных пылясь,
Чадила шашлыком на развороты «Птюча».
Несчастье ждало нас на всех углах,
Но нас встречало, спотыкаясь, счастье.
Форели жарились на уличных углях,
И брызгался лимон – кислотный свежий саспенс.
В духах арбузных, в джазовом чаду,
В вечернем, неуместном в полдень гриме,
Буддийскою столицей Катманду
Мы были, угасая в Третьем Риме.
Но это наш был солнечный зенит:
Шальные просверки, озон большой свободы.
Из детства старого мы вырвались, юны, —
Разрыв сплошной истории абортов.
Как молод был наш мир – и как жесток,
Как золотом усыпан самоварным.
Трещали стены, и носился сор,
И падал на репринт, почти слепой: «Новалис».
За летом – лето, за жарою – зной,
Все раскаляясь: холода свободы,
Как Колыма, стояли за спиной,
Листали книги на развалах, борзы
В проулках чрева гибнущей Москвы…
На всех был пот и холодок рожденья.
Дома затянуты зеленою сетью – вниз
Там оседала пыль: пол, потолки и стены.
Но рос, светлея, пестрый хаос крыш,
И в сером мареве, как мачты, плыли шпили.
Жаль, моря нет в Москве, но было – и враздрызг
Соленой пеной нас – свободой – жгло и мыло.
II. ЧЕРНЫЙ КАМЕНЬ
Зажги и выдохни,
Потом опять зажги:
Лови, лови при движущемся свете
И в темноте свою скупую жизнь —
Ты, искра, подымаемая ветром.
Старинно, страшно ремесло твое:
Ночь вкруг тебя, и сам ты – ночь глухая;
Лови, лови и слушай бытие,
На бедность рифм не слишком налегая.
Они – игрушка. Не игрушка – жизнь
И вызов хаоса, полуосенней стужи.
Но пусть тебя берет мороз в тиски, зажим,
Тем ярче ты горишь, превозмогая ужас.
Интимность космоса – ее вполне постиг
Ты, ведая в ночи
Костром, копною, полем,
И разрастаются не чувств твоих пути,
А веденье твое: мир мал,
Ушкоуголен.
И веткою березовою ввысь
Бросаешься – измерить расстоянье
Галактики. Системы разошлись,
Но, удаляясь, шлют – отчет тебе – сиянье.
И ты, заночевавший на пути,
Угревшийся в скирде лесной охотник, —
Тебе Вселенная горит-благовестит,
И лестницы стоят, и чёрен камень,
Столп твой.
Ты в дальнем космосе искришься и гостишь,
Зажги и выдохни,
Еще зажги – свободней,
Дыши во мрак, в трепещущую стынь.
Звезде-душе полезен – искре – холод.
III. 1993
К тебе приехали родители
Взглянуть на новое жилье.
Они давно Москвы не видели,
Где рыба с головы гниет.
Полуслепая полу-карлица —
Она, а он – глухой лентяй.
В жару к Арбату томно тянутся,
Туда, где ордена блестят.
Громада МИДа, средостение
Cтраны, гранитный улей пуст:
Холодной накрывает тенью их,
Так и не влившихся в толпу.
Они так медленно, и под руку
Держась, идут – шажки, шажки, —
Как бы по льду, где всюду – проруби,
И матерятся рыбаки.
Зной, гвалт, гудки, клаксоны, выклики
Из мегафонов и мембран,
Колонок, выставленных с клиросов
Ларьков, палаток, «точек», братств.
Их окружает, неприкаянных,
Одна торговая волна:
Блестит мехами и кокардами…
Но среди зноя – лед, сквозняк
В трубе аэродинамической
Мотает маленьких гостей,
Идущих точно по наитию
Там, где никто их не хотел.
И большеглазы, зрячи, слышащи, —
Новь, девяносто третий год
Они читают, ловят бликами
Очков, в ума вбирают горсть.
Вполне базаровские пращуры,
Когда Базаров жив и здрав,
Они, измученные, тащатся,
Его заране потеряв.
Бредут назад, и в тени мидовской
Молчат, как изгнанный посол.
Войны сироты… О неистовость
Ветров в Москве, мой новосел!
IV. 1995
Необыкновенное лето.
Природа сошла с ума.
Бледные экстраверты
На рассвете едят лагман.
Номер программ после клуба —
Жирный горячий хаш.
Первыми трезвеют губы.
Официантка Сальха
Подносы с зеленым чаем
Приносит – свежа, молода.
Звонок от бабушки:
– Чадо!
С первым июня!
– Да.
– Праздник защиты детства,
Знаешь ли, – твой всегда.
Не удается согреться.
– Счастья, удачи!
– Да.
Брызг поливальной машины
Веер – роса столиц.
Пыль из-под щеток щетины
Не долетает – но злит.
Грохот костей о нарды,
Крик за соседним столом.
Делают миллиарды.
– Бабушка, мне повезло.
– С Богом! Удачи, удачи.
С вечною верой в добро
Я остаюсь.
Налачен
Город, и взят под стекло.
Дымом «Лапсан Сушонга»
Дышит из чайника жуть,
Свежесть. И шашки звонко
Воздух табачный жгут.
В трубке – о редкость,
О тяжесть первых связных мобил! —
Кровью прощальной мажет
Голос, и свят, и разбит.
– Бабушка, до свиданья!
Мне – лишь четыре шага,
Как Будде, до осознанья.
– Ты рвешься от нас, как всегда.
Дышит немое тело,
Мыслящее сильней,
Чем голова (отрезвела).
Будда, le petit déjeuner1.
V. ПЛЮЩИХА
Последний день июня – с плеч долой:
Глухое воскресенье, банк закрытый,
Модерн, конструктивизм – как бы халвой
Дома прощальной сладостью набиты.
Отвесный свет, но кончен света рост,
И призвуки зимы – как хрипы в легковесном
Метанье тополей. Надломленная трость
Так запевает: свист свирельный, сиплый, ветра.
Сквозит вся улица – вдоль световой волны
Изогнутая, как бамбук балетный.
Пустыня! Дни неверно сочтены
Прощания с тобой, мое тысячелетье.
Песнь альба, трубадуры, Тогенбург
И облако над круглоглазой башней:
Здесь розенкрейцеры последние судьбу
Испили – и ушли внутрь московорецкой пашни.
Испытанные поиском Души,
В «хвостах» молочных кухонь молкли души.
Они ушли, но не совсем ушли:
Их немота осталась нам – дослушать.
И трудно мне заговорить «свое»:
Так дик и хрипл, полубезумен голос;
На мне лежит чужое бытие
Как золотой заговоренный волос
На рукаве. За вас и за себя
Я домолчу. Но говорит пусть ветер,
На тополях бликуя и рябя,
Схоласт косноязычия, гелертер,
О чернокнижниках при книжке трудовой,
При ордере слепом райисполкома…
Свобода воль… И голос, бесконвойн,
Мой голос нарастает вдруг сквозь гомон.
VI. ЗЕНИТ
Шальная улица, Кузнецкого моста
Ремесленные узкие задворки.
На пушки здесь переводили сталь
В эпоху после Тушинского вора.
Обменники, штабы и кабаки,
Дымящиеся в урнах этикетки,
Открытые мангалы, бардаки.
Июль – кошмар стареющей кокетки.
Ей страшно, потно, зло и тяжело
Быть в городе в пустом зените лета,
Сдавать в ломбарды золото как лом,
Переживать весь город как телесность,
Удвоенную зноем, наготой,
Которая, как смерть, ей надоела.
«Я мать твою ведь знал» – один простой
Сказал ей, глядя вниз осоловело.
Дома низки. Столица, блин, Земли.
Лежит в руинах обозримый космос.
Мы никому нигде не помогли,
Страдальцы урн и тлеющих отбросов.
Читатели Флобера и Золя,
Ее частично праздные «клиенты»:
Друзья, френды, одной корысти для,
Для бесконечной идеальной ленты
Не-одиночества. Но одинок июль,
Он раскален, разъят и фанатичен.
Гудит машина. Что за Теодюль!
Что за дурак, схватившийся за тыщи!
«Я мать твою ведь знал». Что ж, может быть.
Мужчины право – говорить с намеком.
Но право есть – совсем не говорить,
Высокомерно празднуя над мозгом
Любым. И это право у нее
Еще в руках. Не вовсе охладело.
Гори окурком в урне, бытие,
Старей, отважно гибнущее тело.
VII. 1998
Меня арестовали у подъезда,
Когда я завершала переезд:
Коробки книжные, 24 места,
Затормозили зоркий ППС.
Квартира съемная, сибирская прописка,
Нет регистрации. Хозяйка вмиг – в отказ.
Татарин-участковый, сын Иблиса,
Нарисовался в сумерках «на раз».
Он пишет «данные» мои для протокола;
Хозяйка мечется: «Коробки – не вносить».
Я – с непокрытой головой, и голо
Нисходит снег, как протокол, насильн.
Крупа московская, ноябрьский синий вечер,
Машины дверца, как подъезда дверь,
Закрыта с клацаньем. О, я была невежда
В краю змееопутанных невежд!
Меж двух домов, со всем своим носильным,
Вися канатоходцем над Москвой,
Я прозреваю невесомый иней
Как частный случай дьявольских оков.
«Когда приехали? Зачем? Без документов?»
Он паспорт держит. Сумрачно глядит.
На дальних подступах,
среди сплошных умертвий
За этот час мой грешный дед убит.
В таком же холоде, в пустых снегах Донщины, —
Все для того, чтоб в некий звездный час
Рацеи мне с погонами мужчина
Читал о пребыванье в москвичах.
Чтоб в небо синее, известное, не глядя,
Я то же, что и он, могла понять:
Что здесь лежит, кольцом, столица ада,
Великих жертв хозяин, Пустосвят.
VIII. В ЭТОМ СВЕТЕ
Зеленый куб, заклятая печаль.
В саду усадебном, пародии Версаля,
Кусты подстрижены, как мелкий сорный чай,
Заваренный зарей – благоуханной сайкой.
Весна безлюдная, просторный окоем.
Все близко, сплюснуто, и облака продольны.
Мы на скамьях лежим и, глядя ввысь, поем
О том, что хорошо, что ничего не больно.
В голландском домике оконная слюда
Чистопромытая, вся в перекрестках рамы,
Нам открывает озаренье, даль,
И угол комнаты, что даль и озаряет.
Край верстака, мундштук и кружка, тень
Вечерняя и проблеск на фаянсе
Какой-то ступки. Арсенал кофеен?
Алхимика прибор? Мы внутрь глядим, паяцы.
Любовь разбитая, как в ступке истолкли,
А мы все приняли и заварили кофе.
Век восемнадцатый по небу, век молитв,
Плывет в горящем облачном киоте.
Как ангел с купола – ступает по среде
Воздушной прелести, по розовым виньеткам,
Уходит в направлении «везде»,
В молчанье радости и в этом свете, в этом.
Уходим мы – домой. И синие коты
(Две шубки, различимые не сразу)
Цепляются, как ежевик кусты,
И порскает, высок, наш просветленный разум.
IX. ЧУВСТВО БОГА
Анджуму Азизу Нурани
Мусульманские четки есть у меня,
Их подарил мне коллега,
Зороастрийцами были предки его,
Триста, четыреста лет назад,
До исхода в Пакистан из Ирана.
Сейчас он британец, дипломат,
И оба мы на службе
Ее Величества,
Смотрим в окно на Москву.
Я здесь тоже случайно:
Предки мои селились на русской земле,
Успевшей стать русской те же 400 лет назад;
В Сибири, которая видится
Как разрезанный лоскут,
Если видеть ее с высоты: реки-губы,
Щеки-озера, узкие глаза боров.
Отчизна!
Мы сидим и слушаем концерт
Бетховена Emperor,
Но не Наполеон – третий между нами.
2006 – 2018
1
Завтрак (франц.).