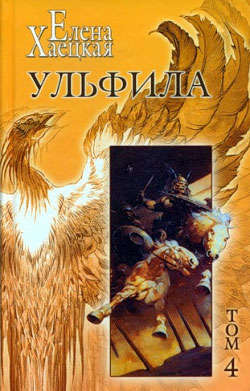Читать книгу Ульфила - Елена Хаецкая - Страница 5
Глава четвертая
Евномий из Кизика
360 год
ОглавлениеВ то время наставником готов был некто Ульфила, коему готы верили настолько, что всякое слово его считали для себя непреложным законом. Склонив Ульфилу на свою сторону, сколько уговорами, столько и деньгам, ненавистный Евдоксий устроил так, что варвары действительно вошли в общение с императором (Констанцием). Убеждая готского учителя, Евдоксий настаивал, что вражда среди христиан возгорелась из-за честолюбия, а в догматах нет никакого различия. Посему готы, говоря, что Отец больше Сына, не соглашаются однако называть Сына «тварью», хотя и не разрывают общения с теми, кто называет Его так.
Вслед за Евдоксием указывал варварам и сам Ульфила, что в верованиях разъединившихся христиан существенной разницы нет, что причина несогласий – честолюбие.
блаж. Феодорит
Христианскую религию, которую отличает цельность и простота, он (Констанций) сочетал с бабьим суеверием. Погружаясь в толкования вместо простого принятия ее, он возбудил множество споров, а при дальнейшем расширении этих последних поддерживал их словопрениями. Целые ватаги епископов разъезжали туда и сюда, пользуясь государственной почтой, на так называемые синоды, стремясь наладить весь культ по своим решениям. Государственной почте он причинил этим страшный ущерб.
Аммиан Марцеллин. Римская история
В Селевкии, метрополии провинции Исаврия, стояли крик и хлопанье дверей. Пререкались о том, како веровать надлежит. Люди подобрались сплошь яростные, снедаемые такими пламенными страстями, что скамьи под ними дымились и камни вокруг плавились.
А император Констанций, хоть и не был еще окрещен, богословские разборки обожал, вечно влезал в церковные споры, а чуть что не по нему – бух кулаком: «Что я велю, то вам и канон».
Представители гражданской и военной администрации в Селевкии, Леон и Лаврикий, поначалу растерялись. Констанций, страшно сожалея, что не может прибыть и лично поучаствовать, поручил им пригляд за святыми отцами. И чтоб не очень там бушевали.
Собрались в базилике, засели. Леон с Лаврикием, как и было велено, там же угнездились – наблюдать.
Будучи человеком военным, Лаврикий решительно не понимал, почему после незамысловатого утверждения «Отец не мог иметь Сына, ибо у Него нет жены» такой крик поднялся. Когда же в ответ на другое, столь же простое заявление целая толпа служителей Божьих поднялась со своих мест и с оскорбленным видом прошествовала к выходу, напоследок шваркнув тяжелой, обитой медными пластинами дверью, Лаврикий сообразил, наконец, что у отцов не все дома.
На другой день (Ульфила в это время у себя в деревне вместе с остальными снопы вязал – торопились, пока дожди не зарядили) часть епископов заперлась в церкви и дотемна шушукалась; двери держали закрытыми, и о чем шушуканье шло, допытаться было невозможно. Про себя Лаврикий так решил: ежели они заговор стряпают, он их в барку посадит и ко дну всем скопом пустит. А Господь на небе сам разберется, кто там праведен был, а кто нет.
К вечеру прискакали присланные от императора Констанция. Комит Леон обрадовался им, как родным. У них с Лаврикием уж головы трещали. Посланца звали Флавиан. Солдат, что Флавиана сопровождали, в казармы отправили – спать, а самого Флавиана, едва позволив тому умыться и надеть свежее, погонять принялись, чтобы шел и вразумил спорщиков.
Флавиан пошел. Для того от императора и послан был. В запертую дверь рукоятью меча постучали, велели отворить и волю императорскую впустить.
Подчинились.
В базилике душно было, как в бане. Господа епископы все красные, распаренные. Осипшими голосами осведомились, какова же воля государева.
– Завтра вам воля будет, – сказал им на то Флавиан. Все-таки патриций он был римский, а нос задирать – тому при дворе хорошо обучают. – Сейчас спать идите.
Назавтра двери оставили широко раскрытыми. Собрали всех. Епископы уже приготовились крик поднять, уже и огненные взоры метали, прожигая друг друга насквозь…
Начал комит Леон – Лаврикий отчаялся разобраться и сидел теперь потухший.
Леон для начала рявкнул:
– Тихо!
И взвод легионеров в раскрытых дверях замаячил.
– Государство римское гарантирует вам полную свободу высказываний, святые отцы, – более любезным тоном продолжал комит.
– А солдаты зачем? – спросили его возбужденно.
– Солдаты представляют здесь римский народ и нужны для того, чтобы вас до смертоубийства не допустить, – ответил комит со сдержанным злорадством. – Я отвечаю в этом городе за порядок среди гражданских лиц. Мне совершенно не нужны здесь трупы епископов.
И уселся рядом с Лаврикием, демонстративно положив меч в ножнах себе на колени.
Повисла похоронная тишина.
– Ну так продолжайте, – уже наилюбезнейше обратился к епископам Леон. Он был доволен.
Флавиан, прошумев плащом, встал. Гремя сапогами, вышел вперед. С хрустом развернул послание от Констанция и огласил долгожданную волю государеву. Повелел государь отцам церкви, чтобы веровали они следующим образом…
Ну, о чем тут спорить было? Велено и все тут.
Однако Леон с Лаврикием рано торжествовали. Отцы церкви оправились на удивление быстро. От чего-то там отказались, вроде как даже подчинились приказанному, но тут же, сыскав в прочитанном распоряжении множество прорех и щелок, начали эти прорехи расковыривать и расшатывать.
«А Сына мы называем подобным Отцу».
Впились.
И опять посыпалось и понеслось: «Сын», «Отец», «сотворен», «не сотворен»…
Наконец, встал один и обратился к Леону с нижайшей просьбой удалить из базилики «вон того и еще того», если комиту действительно дорого спокойствие города и он не желает здесь епископских трупов.
Комиту спокойствие было дорого. Потому указанных с заседания попросили – сперва вежливо, после настойчиво.
Настороженные сидели Леон и Лаврикий, неприятностей ждали. Флавиан же в зубах ковырял – только что из Арелата, с такого же сборища, навидался, наслушался.
– Подобен Отцу? – ярился кто-то хриплым разбойничьим голосом. – Подобен? В каком это смысле? И до каких пределов?
Тот, который просил Леона епископов удалить, ответил с вызовом, что «по воле, по хотению, но не по существу» – вот как подобен.
Тотчас же опять поднялся всеобщий крик и гвалт. Орали все одновременно, Десятник, который с солдатами у входа маялся, всунул голову в дверной проем: не случилось ли чего? Комит ему рукой махнул.
Десятник рукоятью меча начал в щит бить. Еле спорщиков замолчать заставили.
– Хватит! – крикнул Леон, вскакивая. Его трясло. – Галдеть в кабак идите. В казарме и то приличнее себя ведут.
Епископы замерли с раскрытыми ртами. Они же только начали…
– Мы должны выработать формулу, – запальчиво начал один. И этот тоже осип, кричал не хуже прочих.
Десятник высказался в том известном смысле, что «караул устал». И Леон с Лаврикием не без удовольствия разогнали собор. Разобиженные, уходили епископы из базилики. Очень уж городские власти их сегодня обидели.
Через день до Леона донесли, что несколько отцов опять собрались вместе, что-то там постановили между собой и готовы вновь открыть баталию. Ну, богословские споры, «подобен», «не подобен» – это пожалуйста, только не у меня в городе. А вот административное самовольство, ими проявленное (и о таком донесли), – это уже много серьезнее. И как есть он, Леон, чиновник на государственной службе и покой Империи для него превыше всего, то и допустить, чтобы из вверенного ему города исходили беспорядки, он никак не может. Эти-то, которые после разгона опять сошлись, отлучили и низложили нескольких своих противников. В частности, предали анафеме епископа Евдоксия и самоуправно сместили его с Антиохийской кафедры, а вместо него избрали из своей среды какого-то Аниана.
Леон ничего против Аниана не имел. И к этому Евдоксию особой приязни не питал – от хриплых каркающих воплей «сотворен, сотворен» до сих пор в ушах звенело. Но Антиохийская кафедра – вот что важно. Довольно с Империи и Александрийской, где что ни год, то драки в храмах, поджоги, битвы и расправы.
И не мудрствуя лукаво, арестовал Леон этого Аниана, а прочим весьма настоятельно рекомендовал Селевкию Исаврийскую покинуть.
Недовольное ворчание разъезжавшихся епископов преследовало комита аж до самого Рождества.
* * *
В нескольких верстах от готской деревни, по той же речке, стояла другая, известная сборщикам налогов и администрации Августы Траяна (ближайшей ромейской колонии) как Бутеридава, а среди местных называемая чаще Македоновкой, потому что больше половины земель принадлежало здесь потомкам ветеранов Пятого Македонского легиона. Те получили ее много лет назад – кто от самого Траяна, кто от преемников его, и по завещанию оставили своим детям и внукам или же детям и внукам своих однополчан.
Сейчас-то те римляне почти совершенно сделались местными жителями. Во всяком случае, мытари из Августы Траяна обирали их так же свирепо, как и мезов, и это, как ничто иное, роднило легионеров с соседями-варварами.
С этой самой Македоновкой ульфилины вези состояли в весьма сложных и многообразных отношениях. Иногда брали оттуда жен. Вели торговлю, чаще меновую: вези – хорошие кузнецы, а глина для гончарного дела лучше была ниже по течению речки, как раз у Македоновки.
Не обходилось, конечно, и без неприятностей; расхлебывать же их вези храбро предоставляли своему епископу (на то и миротворец). Ибо нередко случалось так, что виноватыми оказывались как раз готы, а они страсть как не любили признавать себя таковыми. Тем более, что Ульфилу и в соседской деревне весьма чтили.
Постепенно местные христиане сделались его прихожанами. Правда, готский плохо понимали, но Ульфила после службы всегда оставался поговорить с ними на латыни.
На этот раз повод для посещения Македоновки был, прямо скажем, отвратительный: к берегу против ромейской деревни прибило дохлую корову. Женщины пошли на реку и увидели ее, рогами в ветвях ивы запутавшуюся. Визгу было и криков; после мужчины посланца к готам отрядили – пусть объяснят, за каким хреном такую пакость сделали.
Готы посланцу сказали, что виновного отыщут. Посланец уходить не хотел, требовал немедленного следствия и расправы. Виданое ли дело, чтобы дохлую корову по реке плавать пускали? Вдруг зараза?
Насилу посланца выпроводили.
Оставшись без посторонних, быстро выяснили, кто так неудачно порезвился: трое парней по пьяному делу. У одного корова сдохла, отец закапывать послал, а тот копать поленился и вместо того потеху устроил из коровьей смерти. Напился с друзьями и послал бедную тушу по реке.
Ульфила виновных на расправу односельчан оставил, наказав членовредительства не чинить, а сам отправился в Македоновку с извинениями.
Улаживал долго; македоновские возмущались, денег требовали за ущерб – шутка сказать, воду им испортили. Коровью тушу из воды выловили, на телегу погрузили – вот пусть епископ забирает к себе в деревню и там закапывает. А нашу землю поганить нечего.
Ульфила и с этим согласился.
Пока кротким словом разъяренных ромеев и мезов утихомиривал, пока обещал примерно наказать мерзавцев, два дюжих мужика под громкое гуденье мух тушу прилаживали к телеге.
И тут до ульфилиных ушей донесся новый звук. Детские вопли перемежались свистом прутьев. Неподалеку кого-то пороли.
Ульфила от обиженных ромеев кое-как избавился и пошел поглядеть, над кем расправу творят. Не одобрял епископ, чтобы детей били.
Увидел почти тотчас, как один из македоновских охаживал розгой мальчишку лет десяти. Сидел у себя на дворе, пристроившись на чурбачок, а паренька поперек коленей разложил, голой попкой наверх, головой вниз, себе в босые ноги. Ребенок голосил и норовил укусить мучителя за ногу.
Мать стояла тут же, со всех сторон облепленная малыми детьми: двое уцепились за юбку, третий сидел на руках. И все они, полуоткрыв рты, молча наблюдали.
Епископ вмешался, руку карающую остановил, когда она в очередной раз занеслась с прутом. Воспользовавшись нежданной удачей, мальчик сбежал, сверкнув задницей.
Крестьянин на Ульфилу кислым винным духом горестно дыхнул, но противиться не посмел. Не настолько был пьян, чтобы не понять, кто к нему на двор зашел. И потому лишь замычал невнятно, что знал бы только святой отец, за кого слово замолвить решил… Ведал бы Божий человек, к кому сострадание ощутил… И если достоин здесь кто сострадания, то уж никак не тот маленький негодник.
Ульфила сердился.
Вези не то чтоб совсем уж бессердечный народ, но, в общем-то, неласковый. А этот ромей явно хотел, чтобы его пожалели. Вошли в положение. Сопли с его рубленого носа вытерли (профиль у ромея – хоть монету чекань).
– Мальчишка-то сущая дрянь, – с пьяной печалью говорил крестьянин и головой покачивал. – Сын это мой. В кого уродился только, в дядьев, что ли, беспутных… И почему это я не могу поучить его, если нужно?
Епископ стоял над ним, слушал.
Мать мальчика повернулась, в дом ушла. Дети за ней побежали.
А крестьянин крикнул ей в спину, чтоб выпить принесла его святейшеству.
– Вина мы купили, – пояснил он, поворачиваясь к Ульфиле.
В тех местах, где вези осели, виноград не выращивали, и вино было большой редкостью. Так что крестьянин пытался оказать важному гостю почет и всевозможное уважение. И Ульфила это оценил, обижать человека не стал – вино принял, хотя обычно к хмельному не притрагивался.
Женщина стояла, сложив руки на поясе, смотрела, как пьет епископ.
– И мне еще дай, – велел ей муж, уступая епископу место.
Подала и ему.
Ульфила уселся на чурбачок, вторую чарку выпил. Солнце припекало изрядно, и хмель на непривычного к выпивке епископа начал оказывать пагубное действие.
Со сдержанным восторгом смотрели из-за забора несколько сторонних наблюдателей, как Авдей блаженного и праведного мужа вином накачивает.
Накачался Ульфила на удивление быстро. Сидель, держась обеими руками за чурбачок, и кивал, авдеевы откровения слушая.
Авдей рассказывал:
– Ну вот, значит, мерзавец этот, сынишка-то, ввел меня в ущерб страшный… Что надумал? Козу соседскую доил. Молоко воровал. Дома его, значит, мало кормят, надо чужое брать. – Кулаком погрозил отсутствующему паршивцу. – Соседка-то на бабу мою уж понесла, что та будто бы ведовством скотину ей портит. Не ладят они между собой, бабы-то. Вон, опять приезжал этот, за налогами-то, кровосос, так он говорил, будто в Риме опять кого-то за колдовство удавили. Говорил, спрятаться колдун тот хотел, в храм Божий – ну, нашей веры – проник, к алтарю сел, вроде как убежища искал. Так его прямо от алтаря оторвали и все равно удавили. Потому что колдун. А что, если и бабу мою бы так удавили? Мне без женщины никак, детей пятеро, – заключил крестьянин убежденно.
– Не знаю, – сказал Ульфила. – Я без женщины живу.
– Меня послушай, – сказал Авдей и значительно поднял палец. Ульфила уставился на этот палец – корявый, с землей под ногтем.
Крестьянин торжественно изрек:
– Баба – она только по молодости для утехи хороша, а как пошли эти сопляки, как горох из стручка, так и кончились утехи и начались заботы и огорчения. Может, оно и лучше – вовсе без бабы. – Он придвинулся ближе, наклонился, взял Ульфилу за рукав. – Знаешь, что. Забери ты у меня этого гаденыша, пока не убил его своими руками.
– Какого гаденыша? – Ульфила вдруг сообразил, что совершенно не понимает, о чем идет речь.
– Да Меркурина, которого я порол сегодня, – пояснил Авдей. – Может, ты из него человека сделаешь.
– Как я его заберу?
– Так мой же он сын. Я его продать могу, – сказал крестьянин. И тут до него самого вдруг дошло, что ведь и впрямь деньги может выручить за бездельного и вороватого мальчишку. – Правда, забери. Заплати, сколько стоит, и все, парень твой.
Видно было, что Авдей загорелся идеей сбыть сорванца епископу.
Епископ подумал немного.
– Ведь это сын твой? – повторил он.
– Ни пришей ни пристегни, средний он у меня, – сказал Авдей. – Младших от мамки не оторвать, отрада ейная. Старший мне самому нужен, помощник. А этот… И крадет – перед всеми соседями уже опозорил. Убью я его когда-нибудь. Так что, епископ, спасай от греха, – заключил он и хлопнул Ульфилу по плечу.
От хлопка Ульфила покачнулся.
– Согласен? – жадно спросил Авдей.
Ульфила волосами мотнул.
И тотчас же с забора пронзительно закричал кто-то из тех, кто подслушивал:
– Меркури-ин! Продал тебя отец-то!
Мать носом потянула, в дом пошла. Меркурин был приведен, надлежащим образом умыт, поротая задница штанами прикрыта. Доволен был сверх всякой меры.
Хоть и носил он ромейское имя, видно было, что и без мезов не обошлось. Светлые волосы, свитые в колечки, на солнце золотом отсвечивают, черты лица тонкие.
Зачем только обузу эту взвалил себе на шею да еще и приплатил за нее? О том покаянно думал Ульфила, когда возвращался ввечеру в свою деревню, ступая за телегой, что коровьей тушей нагружена. Двигались шагом, осаждаемые мухами и чудовищным запахом. Да еще Меркурина пришлось за руку тащить, мальчик устал и принялся ныть.
Ульфила, подумав, пригрозил обратно его отправить, к отцу. Только этим замолчать и заставил.
Для начала приставил приобретение горшки отмывать и стиркой заниматься. За провинности (а было их каждый день немало), однако, не сек, чем поначалу вызвал искреннее недоумение мальчика.
Меркурин оправдал наихудшие ожидания. Врал и воровал, дерзил и чуть что – прятался; лик же по-прежнему имел ангельский. Иногда возвращался домой с подбитым глазом или в рваной одежде. Про глаз Ульфила обычно ничего не говорил – раз подбили, значит, за дело. А одежду велел чинить, в рванине ходить не позволял.
Иногда в деревню Авдей захаживал, отпрыска навестить. Меркурин в таких случаях неизменно прятался и вылезал не ранее, чем через час после торжественного отбытия родителя. Впрочем, тот не слишком усердно разыскивал свое дитя. Напивался с кем-нибудь из местных, потом заходил к епископу и отечески советовал быть с парнем построже; с тем и отбывал.
Баталии между патриархом и негодником мальчишкой продолжались года четыре, пока Меркурин неожиданно не повзрослел.
Произошло это, как водится, само собой, без всякого постороннего вмешательства. Перестал Меркурин врать, воровать и драться – не сразу, конечно, а постепенно.
В один прекрасный день, отчаянно смущаясь, попросил Ульфилу научить грамоте.
И наружность его изменилась: перестал Меркурин быть похожим на ангела, а сделался похож на Авдея.
* * *
Изгнанные Леоном из Селевкии, епископы побежали с жалобами друг на друга к императору Констанцию. Решили продолжить спор уже в столице Восточной Римской Империи, пред светлым ликом самого императора. И государю сие приятно, ибо любил побогословствовать.
Хотел Констанций славы христианнейшего владыки. И чтобы мир в Церкви воцарился его трудами. Вспомнил кстати: не его ли благословением и община готская на имперских землях выросла? И изъявил желание того епископа видеть, которому покровительство оказал и вывел из-под власти жестокосердых язычников.
Желание Констанция прибыло в горы Гема перед Рождеством и высказалось недвусмысленно: так и так, епископ, надлежит тебе явиться в Константинополь для участия в поместном соборе. Его величество о тебе вспоминало и изъявляло желание повидать. И другие отцы Церкви нуждаются в тебе, Ульфила. Нужен голос твой в споре о Лицах Троицы, ибо к единству мнений никак не прийти. О тебе же достоверно известно, что жизнь ты проводишь в неустанных трудах среди паствы. С какой стороны ни посмотри, праведен ты; а потому и голос твой громче многих иных.
Если и был Ульфила польщен словами этими, то никак не показал. Просто обещал выехать сразу после Рождества, поскольку Рождество хотел встретить дома.
Императорский посланник даже настаивать не посмел. Если в государстве ромейском никогда не стать Ульфиле не то что вторым – даже и двадцатым, то уж у себя в общине он – первый и другому такому первому не быть. Так что посланному только одно осталось: ждать, пока епископ Ульфила собраться в дорогу соизволит.
Ожидание не затянулось. На другой же день после Рождества объявил: выезжаю.
И Меркурина окликнул:
– Со мной поедешь.
Меркурин так и замер над раскрытым мешком (собирал своего епископа в дорогу). Потом осторожно поглядел сквозь длинную золотистую прядь: не потешается ли над ним епископ? Будто забыл, что Ульфила никогда над людьми не потешался.
На всякий случай переспросил Меркурин:
– В Константинополь?
– Да, – сказал Ульфила. – Возьми побольше теплых плащей.
Посланный топтался на пороге в нетерпении. Путь неблизкий, не опоздать бы – тогда неминуемо прогневается Констанций.
Вмешался:
– В чем нужда будет – государь оделит.
Ульфила сказал «спасибо», но вещи все равно взял.
* * *
В Константинополе епископ готский был впервые и дивился Великому Городу едва ли не больше, чем в годы молодости своей – Антиохии. Но явно восхищения не выказывал, по сторонам смотрел со сдержанным любопытством. Был он теперь патриарх, ровня тем, кто вершит судьбы Церкви. Вспомнился ему молодой толмач, сын каппадокийских рабов, мелкая сошка, какую за спинами готских воинов и не видать. Мелькнул в памяти и канул.
В свои сорок девять лет был Ульфила худощав и подвижен, держался строго, так что иные даже смущались. Хоть одеждой от жителей своей деревни не отличался, а все же теперь сразу можно было признать в нем епископа. Ульфила рано поседел, и сейчас белыми волосами и лицом костистым был совершенно похож на настоящего гота.
Таким его и приняли остальные отцы Церкви: Ульфила-гот.
* * *
Первым распростер Ульфиле дружеские объятия знаменитый на всю Фракию проповедник Евномий, епископ Кизика.
Не успели вновь прибывшие как следует устроиться в доме, где их разместили по императорскому повелению (в центральном квартале, за стеной, где и покои императорские находились), как прислуга, от дворца государева выделенная, уже докладывает: его святейшество, епископ города Кизик…
И вошел изящный, несмотря на тучность, человек лет сорока. Густейшая русая борода; на висках серебрится благородная проседь. Благоухал духами; шелестел шелками. С порога извинился за раннее вторжение. И полился великолепный голос, нежнейший, бархатистый баритон, от звука которого кости во всем теле размягчались.
– Столько наслышаны, столько уж наслышаны о подвигах твоих, друг мой, о твоей отваге! Знаешь ли ты, как император Констанций именует тебя в назидание прочим? – Короткий, сердечный смешок. – «Моисей нашего времени»!
Ульфила слегка покраснел. И от похвалы, и от фамильярности гостя – что это за обращение: «друг мой», когда едва знакомы?
А Меркурин – тот рот раскрыл, глаза вытаращил: в самое сердце уязвило его дивное явление. Ульфила-то подле этого роскошного епископа – черствый сухарь.
– Садись, – только и смог сказать гостю Ульфила. – Я велю вина принести, если хочешь.
– Лучше фруктов, – произнес бархатистый баритон. И опять потекла сладкая музыка: – Вовремя ты прибыл. На завтра уже заседание назначено. Наши-то знаешь, что учудили? Евдоксий сказал, что согласен, так и быть, анафемствовать свои воззрения, если Василий Анкирский согласится анафемствовать свои. Василий, натурально, отказался, и император прогнал его, а Евдоксия выслушал и правым признал…
Ульфила не слова – музыку голоса слушал. Чаровал его голос; смысла же произносимых слов не понимал вовсе. Головой тряхнул, чтобы от наваждения избавиться и достойное участие в беседе принять. Сказал совсем о другом:
– Я тоже о делах твоих наслышан, Евномий.
Евномий рассмеялся, подняв изогнутые брови.
– О каких это?
Теперь и Ульфила улыбнулся.
– Вся Фракия только о тебе и говорит, Евномий. Даже до меня рассказы доходили. Проповедник ты изрядный, а ученость твоя…
– Красноречие – не отвага, а ученость – не доблесть, – заявил Евномий. Барски развалился в кресле, взял на колени принесенное слугой большое блюдо, полное янтарного винограда. Принялся поглощать фрукты с удивительной ловкостью и быстротой. Сок увлажнил мягкие красные губы знаменитого Евномия, и голос его стал, казалось, еще слаще.
Он продолжал говорить, легко затрагивая то одну тему, то другую. Весело смеясь, рассказал между делом и о жулике-управителе, которому поручил свое богатое поместье в Халкедоне.
– Обворовывает меня безбожно, подлец, – вкусно рокотал Евномий. – Видно, решил для себя: ежели хозяин – служитель Божий, то не заметит, как обеднел.
Ульфила слушал эту болтовню, невольно улыбаясь. Постепенно оттаивал, утрачивал холодную строгость, обласканный этим крупным, обходительным, красивым человеком. Меркурин же влюбился в Евномия с первого взгляда.
– Я его, разумеется, высек, управителя-то, – продолжал Евномий. – А он… удивился, подлец. Даже плакать и врать забыл. Однако в управляющих я его оставил. Сытая муха не так больно кусает, как голодная, не находишь? – Прищурил глаз на Ульфилу. – Тебе ведь многое должно быть ведомо об управлении большим хозяйством?
– У меня поместья нет, – сказал Ульфила. – Общинное хозяйство управляется иначе, чем господское.
Тут Евномий обнаружил, что съел почти весь виноград, и поставил блюдо с колен на пол. Капризно потребовал у слуги салфетку, руки обтер.
Ульфила глядел и любовался.
А тот спросил Ульфилу неожиданно:
– Ты ведь знал Евсевия, прежнего патриарха Константинопольского?
Ульфила кивнул.
– Сан от него принял. Как забудешь…
– Великий был ревнитель, – сказал Евномий задумчиво. – Жаль, что не довелось встретить его. Но в учении своем, как я понял, не строг был. На уступки шел.
– Не тебе и не мне судить Евсевия и его поступки, – мрачновато заметил Ульфила.
Евномий на это произнес с грустью невыразимой:
– Кому же, как не нам, и судить? Нам, сегодняшним, кому он наследие свое оставил. Вера должна содержаться в строгости. Любое отступление оскверняет белоснежные одежды Невесты. Иначе – смерть. Я ведь и Евдоксию, патриарху антиохийскому, только тогда дозволил в сан меня рукоположить, когда на все вопросы мои он ответил.
– Допрос ему учинил, что ли? – Ульфила глядел на статного красавца епископа недоверчиво. Одинаково готов был и восхищенно поверить, и усомниться. Виданое ли дело, слыханая ли дерзость?
– Проэкзаменовал и признал достойным; только после того… – весело подтвердил Евномий. – И ныне за честь почитаю дружбу с ним.
– Ты что, никак, и меня допросить хочешь? – спросил Ульфила. Хмыкнул.
Хорошо понял Евномий, что смешок тот означал.
– Тебя допросишь, как же. За тобой такая силища – вези. Они ведь только называются «меньшими», а попробуй их тронь… Наслышаны! – Он шутливо погрозил Ульфиле пальцем. – Мы тобой уж никейцев пугали. Я им прямо сказал: вот придет серенький волчок и ухватит за бочок…
Расхохотался, довольный.
– Не воевать же с епископами, – сказал на это Ульфила, настроенный вовсе не так воинственно. – Я не драться – слушать и учиться приехал.
Поднялся Евномий, прошел два шага и Ульфилу обнял, а после, склонив красивую крупную голову, поцеловал в плечо.
– Это нам у тебя учиться нужно, Ульфила. Ибо чувствую: праведнее самых праведных ты.
И величественно отбыл, глубоко растроганный собственным порывом. Унес с собой шелест шелков, аромат духов и рокотание дивного голоса.
* * *
Неожиданно для самого себя Ульфила с наслаждением погрузился в бурлящий котел мнений, споров, разговоров, дискуссий и разногласий. Дома, в горах, ему не хватало собеседников. Да и другие заботы съедали все время.
Здесь же почти сразу сошелся с Евномием – и во взглядах, и дружески. И роскошному Евномию суховатый готский пастырь нравился; что до Ульфилы – то кому под силу устоять перед мощным обаянием фракийской знаменитости?
Бесконечно рассказывал, сменяя историю историей, и все не надоедало слушать. Блистал остроумием и обильными познаниями, как в области догматической, так и по части новостей и сплетен. Казалось, нет ничего такого, что ускользнуло бы от Евномия, неутомимого собирателя, и не попало в обширную кладовую его памяти, где всего в изобилии и все внавалку.
А как излагал! Любая, самая заурядная сплетня у Евномия мало не житийным повествованием звучала.
А говорил Евномий о битвах честолюбий, о хитростях и бунтах, о том, кто и как себе богатую кафедру добывал – Антиохийскую, Александрийскую, Константинопольскую.
Как умер Евсевий, патриарх Константинопольский, за наследство его спор нешуточный разгорелся. Столичная кафедра – это и богатство, и почет, и влияние немалое, ибо из Константинополя судьбы Империи вершатся. Предложили вместо Евсевия Македония. О нем Евномий из Кизика с похвалой отозвался: правильно верует Македоний.
Тотчас же противник у этого Македония сыскался и стал подстрекать константинопольскую чернь к бунту.
Македоний, муж святой, не мог допустить, чтобы победил тот недостойный, и силы против его наймитов напряг.
Завершилось, как водится, бунтом. Магистр милиции пытался восстановить порядок, но только масла в огонь подлил. Не помня себя от ярости, чернь растерзала его и долго таскала изуродованный труп, привязанный за веревку, по всему городу.
Император Констанций вынужден был оставить все дела в Антиохии и спешно прибыть в мятежную столицу, где возвысил Македония, противника его отправил в ссылку, а народ наказал, вдвое сократив бесплатную раздачу хлеба.
* * *
Через несколько дней после Ульфилы явился в Константинополь еще один знаменитый ревнитель ариева учения – Авксентий из Медиолана. Евномий и о нем ворох историй из щедрого своего короба вывалил перед Ульфилой-готом.
Авксентий, коренастый старик со стальной шевелюрой, был каппадокиец. Как только освободилась миланская кафедра, неистовый Урзакий (которого Ульфила с теплотой вспоминал) вытащил этого Авксентия из Александрии, где тот прозябал без всякого толка. Никейцы уже нацелились было посадить в Милане своего человека, но Урзакий опередил их. Император Констанций тоже Авксентия поддержал. И не одним только словом – солдат дал…
– Разумеется, в Милане тотчас же поднялась страшная суматоха, – с удовольствием рокотал Евномий. (Разговаривали, неторопливо прогуливаясь по роскошному саду возле дворца). – Всполошился весь благочестивый курятник. Пять лет уж с тех пор минуло, а перья до сих пор летают. Миланские девственницы с кудахтаньем уносили от нашего Авксентия ноги…
– А что он сделал с этими девственницами? – Ульфилин голос прозвучал, будто ножом по стеклу кто царапает. Да и чей голос благозвучным покажется после медового баритона Евномия?
Евномий радостно захохотал.
– А ничего не сделал. Разогнал, чтобы постным видом уныние не наводили. Те – городским властям жаловаться побежали. Префект поначалу ничего не понял. Спрашивает: «Достояния вас, что ли, лишили?» Они: «Что?» Он возьми и брякни: «Ну, снасильничали вас солдаты?» Они: «Да ты что, мы бы от такого умерли…» Префект ногами затопал и выгнал их. Потому что ежели по повелению государеву, то и спорить не о чем. Ну, еще нескольких пресвитеров за руки из храма вытащили и под арест отправили. Другой раз не станут указам императорским противиться.
Помолчали, полюбовались, как крупные хлопья снега тают на темных древесных стволах. Потом Евномий тихонько засмеялся, заколыхал обширным барским брюхом. И тут же со спутником своим щедро поделился – как торговец на базаре, который поверх горы уже оплаченных фруктов еще горсть, а то и две от полноты душевной добавит: угощайся!
– Ох и честили с перепугу нашего Авксентия! Как только ни называли! И знаешь, что он ответил? «Скажи им, что зря стараются. Я по-латыни не понимаю».
Ульфила остановился, в широкое смеющееся лицо Евномия поглядел.
– Как это – по-латыни не знает? А как же он с паствой своей объясняется?
– А никак! Говорит: «Чего с ними разговаривать? Меня, мол, государь в Медиолане епископом поставил, вот и все, что им понимать надлежит. А кто непонятливый – тому и без меня военный трибун Маркиан растолкует».
Ульфила головой покачал. Сам он с равной легкостью говорил и писал на любом из трех языков – латыни, греческом и готском. Хотя, если уж говорить по правде, греческий епископа Ульфилы ни в какие ворота не лез.
Как все каппадокийцы, по-гречески изъяснялся он просто ужасно. Глотал целые слоги, как изголодавшийся пищу. Долгие и краткие звуки вообще не различал. Слова жевал, точно корова жвачку.
Грубый этот акцент усугублялся готским выговором. Так что от греческих речей готского просветителя подчас коробило даже римских легионеров, а уж познания тех в языке Гомера дальше какого-нибудь «хенде хох» не простирались.
Евномий добавил примирительно:
– В пастыре не красноречие главное, а строгость и рвение. – И о другом заговорить пытался, раз Ульфила не хочет в восторг приходить.
Но Ульфила, как любой вези, подолгу на одной мысли задерживался, коли уж она в голову втемяшилась.
– Среди моего народа и христиан-то почти не было, пока чтение на греческом велось. Какой толк, если все равно никто ничего не понимает?
Евномий пожал плечами. По странным дорогам бродят иной раз мысли в голове у Ульфилы. Был он об этом Ульфиле весьма высокого мнения. Со многими, кто сейчас хороших мест в Империи добился, не сравнить – намного выше их Ульфила. Пытался Евномий втолковать этому упрямому вези, что негоже мужу столь похвального благочестия и обширных познаний в Писании прозябать в глуши и безвестности. Не пора ли в столицу перебираться? Он, Евномий, может это устроить. Через того же Македония, к примеру.
Ульфила только глянул на Евномия своими темными, диковатыми глазами. Поежился Евномий, неуютно ему вдруг стало. Варвар – он и есть варвар, будь он хоть каких обширных познаний.
А честолюбие епископа Ульфилы в те годы заносилось уже на такую высоту, где не оставалось места никакой корысти, ибо не земных сокровищ искал себе.
Мелкой и ненужной предстала на миг Евномию вся эта возня вокруг богатых кафедр, бесконечная вражда честолюбий и плетение тончайших кружев хитрости и интриги. Сказал, защищаясь:
– Выше головы не прыгнешь, Ульфила. Всякий слушает своего сердца, ибо нет такого человека, который был бы поставлен судить. У одного сердце великое и дела великие; у другого сердце малое. Блага же хотят все.
Точно оправдаться теперь хотел за все сплетни, переданные раньше.
Глуховатым голосом отозвался Ульфила, Евномия и жалея, и любя, и все-таки осуждая:
– Пустое занятие по поступкам человеческим о том судить, что выше любых поступков. Епископы суть люди; Дело же совершается превыше человеков.
* * *
Словопрения продолжались; одно заседание проходило бурнее другого. Никейцы были совершенно разбиты, тем более, что и император их не поддерживал. Держались только за счет собственной твердолобости, ибо, не владея логикой и не в силах отразить остроумные, разящие аргументы Евномия, только и могли, что огрызаться: «А я иначе верую». Большего им не оставалось.
Ульфила на этих заседаниях не выступал – слушал, наблюдал. Как губка, жадно впитывал впечатления. Ибо догматы Ария считал единственно правильными. Все в его душе одобрением отзывалось на речи Евномия.
Арий учит о единобожии более строго, чем никейцы. Этим прекраснодушным господам хорошо отстаивать абсолютное равенство Отца и Сына. Их бы к язычникам, в глушь дакийскую, к тому же Охте. Или в Гемские горы. И как бы они там объясняли, почему их религия не троебожие содержит, а единобожие? Да они и сами в большинстве своем, прямо скажем, от Охты мало отличаются.
Евномий же был великолепен, когда завершил свою речь поистине громовым аккордом:
– Если есть совершенно равные Бог, Бог и Бог – то как же не выходит трех богов? Не есть ли сие многоначалие?..
Взрыв аплодисментов утопил голос оратора. Никейцы что-то выкрикивали со своих мест, но их больше не слушали. Сам Констанций соизволил ладонь к ладони приложить в знак одобрения.
После заседания восхищенный Ульфила протолкался к Евномию, обнял его. А Евномий вдруг оглянулся, поискал кого-то глазами и, не найдя, сквозь зубы лихо свистнул. Тотчас раб подбежал и вручил свиток, красиво перевязаный кожаным шнурком с позолотой. Евномий торжественно передал свиток Ульфиле.
– Я записал тезисы этой речи для тебя, друг мой, – сказал Евномий. – Она твоя.
Ульфила был по-настоящему тронут и даже не пытался скрывать этого.
– Большего подарка ты не мог бы мне сделать.
* * *
Предпоследний день в Константинополе несколько омрачился несогласием, которое вдруг установилось между Ульфилой и Евномием.
– Прочитал еще раз твою проповедь, – сказал ему Ульфила, когда прогуливались вдоль городской стены, любуясь закатом. – И не один раз. Множество.
Евномий склонил набок свою львиную голову. Ждал похвалы.
Ульфила сказал:
– Она выше всяких похвал. У меня не достанет слов, достойных красоты твоего слога, Евномий, стройности твоих мыслей.
Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу