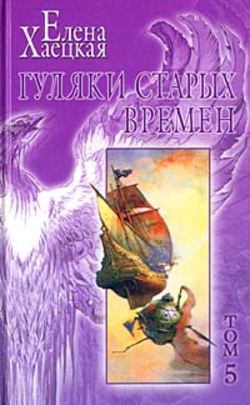Читать книгу Несчастный скиталец - Елена Хаецкая - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Третье письмо Гастона на прежний адрес
ОглавлениеДруг Мишель!
Вот я и в отчих пределах. Погощу здесь еще несколько ден, дабы вконец не разобидеть деда своего и сестрицу.
Признаюсь, только я завидел в окошко дилижанса родныя долы и поля, только свежий ветерок овеял мое лицо, как в груди моей шевельнулось нечто теплое, и из глаз крупныя слезы покатились. В сем восторге ко крыльцу усадьбы подъехавши, быв я встречаем дедом моим, благородным Эженом э Сю, храбрым гвардейцем покойной королевы и протчая…
В запыленном, объеденном молью парике своем он вышед на крыльцо в том же табачного цвета камизоле, в каковом отправлял меня на службу. Словно бы и не изменилось ничего, разве стало морщин поболее на лице его.
Оглядев мой дорожный костюм – нарочито скромный – он ни слова не сказал, только поджал губы многозначительно. Впрочем, мы облобызались по-родственному.
В дому, как и прежде, нет ванной комнаты, и омывать дорожную грязь мне пришлось в баньке, по сему случаю истопленной. Я же, отвыкший от сих древних диковин, более страдал, нежели мылся. Всякий раз, когда черноногая девка в холщовой исподнице плескала водою на пещ, глаза у меня вылезали изо лба. Когда же дрянная девка подступилась ко мне с терновым веником и чуть было не засекла до смерти, я спасся бегством. В ужасе зрел я в зеркале свою личность, сделавшуюся красной, словно бы вареный рак. От сего сраму не спасла меня и пудра.
После сих испытаний девка Агафья, банная моя мучительница, вошла в мою комнату и, по-варваски налегая на «и», словно бы этот звук наиболее важен во всех словах, пригласила меня отобедать.
За обедом узрел я целиком малочисленное семейство мое. Ты спрашивал меня в письме, какова Эмилия? Знай же, милый Мишель, что среди провинциальных люпинусов и чертополохов разцвела изысканная роза. Оно не удивительно – принимая во внимание породу. Сколь же горестно знать, что красота и изящество ее пропадают между кадок с капустою! Дед мой по скаредности своей не выпишет из Вирляндии повара – и бедная Эмилия сама распоряжается на кухне. Эконома не нанять – ах, все экономы страшные воры! – и несчастная девушка сама бранится со старостой и приказчиками. Ключница будет выпивать барские настойки – в шею ключницу! Пущай лучше Эмилия ведает кладовыми и припасами. Но что же? Вместо уныния вижу я, что Эмилия весела, добродушна и рачительна, словно бы ее все устраивает. Воистину, к любым страданиям человек привыкает.
За обедом – для меня несколько тяжеловатым – узнал новость. У Эмилии, как я и подозревал, завелся жених из соседей!
Говорила она со мною не без ехидных шпилек, каковые у девиц в ходу по адресу близких родственников. Угощаясь пирожками с клюквою, вспоминали мы младые проказы, как-то: в кукольную кроватку спрятаннаго убиеннаго мышонка, похищение тряпичной собачки и требование за нее выкупа и проч.
С женихом же своим обещалась она меня познакомить во время конного шпацира, на каковой шпацир меня решено было вытащить. Я было запротивился, да дед настоял.
Ну так вот, жениха сего зовут Ганс Дитрих из рода Апфелькопфов. Про себя же она его Миловзором именует. Месяца два они уж помолвлены, а свадьбою не спешат. Чудаки, право! Попробовал я также блеснуть за столом тонной беседою, рассказав приличествующий случаю анекдот об графине Л*, у себя под кроватью собственного супруга обнаружившей. Но дед мой тут же свой анекдот рассказать наладился, об куртуазном кавалере де Р*, каковой кавалер с пригожею девицей за фриштыком беседовал и нечаянно ногою ее борзую суку пихнул. Каковая сука тотчас же в ногу кавалера вцепилась. А кавалер сей зело куртуазен был и виду о своем несчастии не показал. И пока продолжал он с девицею беседовать, зловредная сука ан ногу-то кавалеру по колено и отъела.
Стоит ли говорить, что анекдотцем сим я с самого детства многократное количество раз бывал угощаем? Впрочем, показалось мне, что сегодня он прозвучал не без значения.
Не успел я переварить яства, изобильныя и жирныя, отдыхая, по обыкновению, за рюмочкою розолина, как сейчас погнали меня одеваться для прогулки. Тщетно пытался я вразумить моих близких, что нездоров и от верховой езды зарекся после войны – жестокосердыя, они не вняли.
Выехали втроем – дед, Эмилия и я, на скверном брыкливом жеребчике безобразной масти. Вскоре присоединился к нам и Миловзор – славный и почтительный юноша, каковыми полны наши глухия провинции. Эмилия, должно быть, полюбила его за нежный голос и родинку. Родинка сия, слева от носа на лице расположившаяся, своим чорным цветом ввела меня в заблуждение.
– Скажите, любезный Ганс, – вопросил я, – неужели вы из столицы мушки выписываете?
На что он, покраснев совершенной девицею, не преминул возразить:
– На моем лице отнюдь не мушка, но родинка, доставшаяся мне от природы и моей родительницы.
Я же, в свою очередь, выразил весьма резонное недоумение – что же он будет делать, коль скоро мушки совершенно выйдут из употребления? На это наш деревенский скромник не нашелся ответить.
Объезжая вотчину, был я зело удручен неприятного рода ароматами, причина коих обильно лежала на вспаханных полях. Смущенный сим обстоятельством, я поминутно прикладывал к носу платок свой, пачулями надушенный. Дед мой, обнаружив смущение мое, сделался недоволен. Недовольство его усилилось, как только я справедливо пожаловался на комаров и иную каверзную живность, весьма мне докучающую. Когда же я осведомился, отчего бы не отрядить человека, дабы оный нарочитым снадобьем от гнуса поля окуривал, дед мой, как и давеча на крыльце, губы поджал и помрачнел тучею.
Возвращаясь в усадьбу, проезжали мы мимо поляны, где девки и хлопцы хороводились, распевая нестройными голосами. Не скрою, при виде сего первобытнаго веселия я подумал: «Ах, отчего не живу я среди них, одной жизнию с природою! Промеж этих диких, но простых сердец, трудясь в поте лица и разделяя грубыя их радости, я, возможно, был бы щастлив…»
На беду мою во время прогулки привязалась ко мне простуда, понуждая кашлять и терзаться при этом болью в ребрах. Да еще и Миловзор, на правах жениха с нами ужинавший, утомил меня вопросом: как мне, дескать, понравилось ли в родном дому? Я же, простудою раздосадованный, прямодушно ответствовал:
– Вам, здесь живущим, вероятно, кажется, что вы как бы в парадизе. Но это оттого, что вы иного не видели и сравнить не можете. А я сравниваю и восторги ваши не разделяю. Вот, к случаю, на картинах несравненного Бенутто селянки одеты в наряды изящные, их пяточки босенькие восхитительный, нежно-розовый цвет имеют. И танцуют они изысканные танцы, котильон или даже павану. Отчего же у селянок, коих мы видели, пятки являют собой как бы брюкву неочищенную? Отчего одеты они в крашенину и танцуют отнюдь не котильон, а какой-то, с позволения сказать, «Бычок»? Далеко им еще до совершенства!
Миловзор, слушая мои речи, впал в изумление. Он застыл наподобие истукана, приподняв бровь, такую тонкую, будто выщипанную. А сестрица моя Эмилия над моими словами обидно разсмеялась, как бывало в нашем детстве. Дед же внимал молча, только ножом по тарелке зело шкрябал – дурной признак!
Миловзор, изумление преодолев, спросил:
– И как же вы думаете исправить сие?
Я, продолжая прямодушествовать, рек:
– Очень даже и просто. Первым делом на месте полей разбил бы парк, садовников бы выписал. Лужки бы гораздо выстриг, как бы газоны, очень модные. Реку запрудил бы повыше и провел бы фонтаны, да статуй бы привез. В озерцо, напрежь уток, выпустил бы двух лебедей, белаго и чернаго, с красным клювом. А напрежь карасей да язей – золотых рыб. А девок бы велел отмыть, они бы в парке живыя картины представляли…
При этих словах дед мой кулаком вдруг ударил по столу, отчего все приборы подпрыгнули и вдрызг разбились. Сам он налился желчью по самые глаза – я уж испугался, не случится ли с ним кондрашка. Но он процедил лишь нечто сердитое и ушел в свои покои, зело хлопнув дверью.
С тем и ужин закончился.
Когда же присел я у огня, по обычаю своему после ужина отдохнуть, пришла сестрица моя Эмилия и выговаривала мне, отчего я в мои леты такой пессимист?
Ну как я ей отвечу – отчего?
В довершение трагедии я вышед в отхожее место (каковое по вздорному капризу судьбы на дворе пребывает) и был комаром во всякое место уязвлен. По каковым причинам, снедаемый чесоткою, немилосердно кашляющий, я ворочался на перине, пока прямо под моим окном проклятыя петухи не завели своих громкоголосых альб.
Такова, мой друг, жизнь в деревне. Она не для твоего
Гастона дю Леруа
писано в усадьбе «Дубки»
после ледохода день одиннадцатый