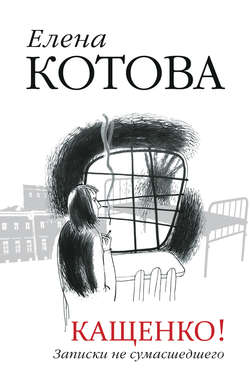Читать книгу Кащенко. Записки не сумасшедшего - Елена Котова - Страница 5
Окно наизнанку,
или записки не сумасшедшего
«Такое может случиться и с тобой, и со мной…»
Оглавление– Все и так знают, что вы шныряете по отделению и фотографируете, – утром больную тему телефона продолжила медсестра, которая вела нас на флюорографию. Именно она накануне оболгала меня, сказав, что я фотографирую на «Блэкберри». На мой вопрос, зачем она это сделала, медсестра отмахивается классическим жестом свары в очереди и тут же участливо, почти с нежностью, обращается к бредущей рядом наркоманке Юле: «А психами называть никого нельзя, милая. Они все когда-то были нормальными. И будут нормальными. И ты такая же, как они. И никто не может загадывать, что ему на роду написано… Такое случиться может и с тобой, и со мной».
Идем всемером, медленно, три женщины еле передвигают ноги, одна то и дело норовит сесть в сугроб. В отделении их одевали всем колхозом с полчаса, помогали натягивать боты, застегнуть куртки. Боты и куртки нам выдают для походов на улицу, своя верхняя одежда запрещена. Шестая и пятая палаты, по крайней мере, носят свою домашнюю одежду, остальные – больничные ночные рубашки и байковые халаты. Наркоманка Юля – из пятой палаты, по отделению она ходит в зеленом плюшевом тренировочном костюме с капюшоном и с огромной черной эмблемой «Шанели» на груди. Сейчас на ней тоже синяя куртка, поверх которой болтается зеленый капюшон от «Шанели», на ногах, как у всех, хлюпают боты…
У остальных из-под курток уныло торчат халаты и ночные рубашки. Женщины бредут полузастегнутые, со съехавшими на сторону капюшонами. Те, кто пободрее передвигает ноги, громко жалуются, что не досталась «куртка по размеру».
«Такое может случиться и с тобой, и со мной» – я слышу, как за моей спиной медсестра наставляет на путь истинный уже новую слушательницу. Наркоманка Юлька спешно закуривает. «Юль, ты в корпусе не накурилась?» – спрашиваю. «Да ты чё, на улице вкуснее», – отвечает Юля, почему-то смущенно хихикая и заботливо оправляя у горла капюшон.
Идет завтрак. Я прошу буфетчицу налить кипятка вместо жуткого кофе с порошковым молоком. Обычно за такую просьбу посылают. Но мне быть посланной уже не в лом, кипяток важнее. Буфетчица, смерив меня взглядом, молча берет чайник с кипятком, наливает в мою кружку. Заварив пакетик чая, присланного в передаче, отправляюсь с кружкой и сигаретой в ванную. Курить и смаковать чай.
– Оставишь покурить? – у курилки меня караулит беззубая старуха. Она тощая, сгорбленная, остриженная под мальчика, с коричневым печеным лицом. Я все уже знаю, я знаю, что их нельзя «приваживать», но почему-то снова даю ей целую сигарету, снова американское «Мальборо».
– Дай бог тебе здоровья, моя красавица, – причитает старуха, а я спрашиваю:
– Что же, свои все скуриваете? Третий день у меня просите.
– Нет своих, – шамкает старуха беззубым ртом.
– А почему не приносят?
– А хули мне принесут. Мне ничё не носят, никому я не нужна. Отправили меня сюда и забыли.
Вот так… Взрослые детки запихнули бабушку в психушку. Сейчас, небось, сидят, квартиру делят. А я? Я пожалела ей пару сигарет! Надо попросить, чтобы фрукты для нее передали… Или печенье помягче – старушка-то беззубая… Да! У нее зубная щетка стерлась и пасты почти не осталось. Это-то проще простого попросить.
Прихожу в шестую, получив со скандалом ноут. Со своей кровати поднимается Аля, ей хочется со мной поболтать. Я уже знаю еще одну удивительную деталь ее недлинной биографии: после школы окончила ни много ни мало финансовую академию.
– Аля, ты про что диплом писала?
– Про ликвидность предприятий и банкротства.
Про ликвидность или ликвидацию? Какая разница? Я не представляю себе Алю, пишущую про банкротства, и дело не только в том, что недавно Аля спрашивала меня, что значит слово «истеблишмент». Не представляю, и все. Вот стюардессой представляю ее очень хорошо.
– Мой папа так гордился мной, когда я получила диплом финансовой академии… А потом так ругал, когда я пошла в стюардессы. А мне так хотелось. Такая романтическая профессия… Нет, я понимаю теперь, конечно, что это просто у меня была шиза…
– Аль, почему ты решила, что именно шиза?
– Ну не шиза… Выверт просто, так скажем… Потом я очень устала. Работа такая нервная… Начались срывы. А потом я заболела.
– Аль, а ты на каких рейсах работала?
– Лена, это было самое лучшее! И на Америке, и на Индии. Даже на Таиланде.
Сегодня Аля не читает роман, сегодня она снова не выпускает из рук молитвенник, что, видимо, вполне сочетается с воспоминаниями о первом классе «Аэрофлота». Поднимает голову, обращается к самой интеллигентной обитательнице нашей палаты:
– Татьяна Владимировна, а вы же сегодня не завтракали, я видела. Это так символично. Пятница, вы чрево свое усмиряете. Вот я сейчас читаю как раз.
Аля снова склоняется над молитвенником. А может, это Священное Писание? Понятия не имею, да и не особо интересно. Татьяне Владимировне, насколько я понимаю, неинтересно тоже. Нам не до Писания. Аля тут же поднимает голову снова, смотрит затуманенным взором куда-то поверх наших голов, произносит задумчиво и вдохновенно:
– Вы не представляете, девочки, – забавно, что малышка Аля зовет меня и Татьяну Владимировну «девочками». – Вы не представляете, какой символичный сон мне приснился! Мама приснилась и папа. Мы все вместе на лодке плывем из какой-то пещеры наружу. Кто-то хочет меня столкнуть из лодки в воду, вода грязная, кто-то качает эту лодку, но я удерживаюсь, мама мне помогает, и мы плывем дальше. Леночка, – это мне, – а вы так похожи на актрису Ирину Столярову. Вы знаете, мне сегодня намного лучше. Этот сон! Я очищаюсь, я выхожу из мутной воды, которая омрачала мое сознание…
У Али высокопарный слог, но удивительно точные выражения и богатые эпитеты. Она без жаргона и междометий филигранно выражает свои чувства. А их у Али так много, и все – столь мучительны для нее.
– …А завтра будет день поминовения усопших. Я чувствую, что иду на поправку. Мне гораздо лучше, я уже понимаю, что читаю… Я раньше могла только Евангелие читать. Вчера Леночкин роман читала, так было интересно. Значит, я выздоравливаю. Представляете, девочки, у меня на ноге родимое пятно. Оно появилось в Индии, когда я сильно загорела. В две тысячи пятом году. Не было никогда, а тут внезапно появилось. Странно, правда? Причем пятно в виде карты России. Может быть, моя миссия – спасти Россию?
Два дня лечащий, точнее, «наблюдающий» врач – бесспорно, опытный психиатр и профессиональный провокатор, – меня избегала, а вот сегодня, как раз минут за пятнадцать до начала субботнего посещения, когда я сижу как на иголках, гадая, кто придет ко мне, а главное – кого пропустят, врачиха решила поговорить «по душам».
И глаза у меня что-то красноватые, а на веках какие-то красные прожилочки нехорошие. Буркаю, что я всегда такая, когда ненакрашенная. «Что же вы не краситесь? – следует реплика. – Как же женщине и не краситься? Так себя и до депрессии можно довести!» Мне в голову не придет краситься в психушке, и еще меньше хочется обсуждать эту тему с докторицей. Ее следующее наблюдение – позавчера я была в «грустной задумчивости», что так понятно, раз я – творческий человек. От этого сусла начинает тошнить: «Не вздумайте приписать мне творческую душевную неуравновешенность» – и тут же получаю в ответ: «Ах, ну что вы все так обостренно воспринимаете?!»
Два часа, отведенных для посещений, оказались насыщенными. Ожидала только адвоката и еще помощницу Татьяну с чистой футболкой, гречневой кашей, а также с распечатками прессы, чтобы лично насладиться заявлением пресс-центра МВД о том, как я «сама приносила» справки о своем душевном нездоровье и «добровольно согласилась» на психушку.
Сидим с Татьяной, вдруг крик: «Котова, к тебе!» Влетает мой косметолог – подружка Галка с воплем: «Я на минутку… Санитарке сунула пачку сигарет, чтобы прорваться… Вот “Фитомер” для морды лица, вот крем для тела в тюбике. Тут сигареты “для крестьян”, тут квашеная капуста, соленые огурчики, а тут рыба и паровые брокколи. Вот еще шесть литров воды, привет, любимая Котова, я побежала». Я даже не успела крякнуть: «Галь, ну чего тебя принесло, мне все это… не съесть, ау-у…», а Галки и след простыл.
Это еще не все. Татьяна уже ушла, сидим с адвокатом. Вдруг заходит… я опешила… моя одноклассница! Мы не виделись со школы.
– Кирка, не может быть… Ты что, зачем?!
– Леночка, я все прочла, это же во всех газетах. Такой кошмар. Как же иначе, как я могла не прийти? Вот, – Кирка сует мне в руки огромную сумку.
– Кира, мне уже…
– Ленка, бери, там ягоды и вообще все твое, вегетарианское. У тебя же никого тут нет, ни сына, ни мужа, никого…
– Кируська, ты у меня уже сегодня третья, не поверишь. Мне так неудобно. Куда мне столько еды?
– Ленка, бери и кушай. Найдешь, с кем поделиться. Но… Мы что, с тобой даже не поговорим? Я ехала через весь город!
Вот она, плата… Мне не нужна эта еда, и еще меньше мне хочется обижать Кирку, которая хотела как лучше.
– Кирка, у меня адвокат, а осталось полчаса. Ты прости…
– Да, я все понимаю, а можно я в понедельник приду?
– Кир, да я это неделю буду есть!
– Тогда, по крайней мере, позвони мне… Мы же с тобой со школы.
– Конечно, позвоню… Прости меня, что я с адвокатом! Но мы давно договорились.
– Ты точно позвонишь?
– Позвоню, только мне всего по два часа разре… Кир, адвокат…
– Ленка, ухожу, ухожу, позвони мне сегодня обязательно, я буду волноваться. И вообще, хорошо, что мы нашлись, правда? Теперь будем общаться!
Далекий, когда-то очень близкий человек. Как мне объяснить Кирке, что телефонное время у меня расписано, что, несмотря на трогательность нашей встречи, у меня есть гораздо более дорогие и близкие люди, которым я не успеваю позвонить, что по телефону с адвокатом я по полчаса обсуждаю очередную бумагу… Что все это для меня важно-о-о!!! Как объяснить, что прошло тридцать лет со школы… Зачем мне чувство вины перед ней?
Вечером я, конечно же, набираю Кирку. В счет времени, отведенного на адвоката, в надежде, что услышу ее, мою лучшую школьную подружку, и звонок сотрет тридцать прожитых лет. Увы… Я не в силах включиться в ту жизнь, которую Кирка прожила без меня. Не в состоянии разделить ее радость оттого, что сын с невесткой спихнули ей на руки пятимесячного ребенка, «которого они и не хотели, представляешь?», а Кирка теперь чувствует себя молодой матерью.
– Кирусь, давай дождемся, когда меня выпустят, тогда и встретимся… – говорю я, мучаясь от неискренности своих слов. Когда меня выпустят, у меня будет бездна дел. Мне будут нужны силы, чтобы работать сутками, таскаться в следственный департамент, заканчивать четвертый роман, подстраиваться под график русских адвокатов, выкраивать по ночам время для конференц-коллов с лондонским. Успевать зарабатывать деньги на содержание всех трех. Я не в силах сосредоточиться на Киркиной радости от новорожденного внука, я своего-то видела лишь три раза в жизни – он родился уже во время следствия, – и я запрещаю себе думать о нем.
Чувство вины, тем не менее, не мешает мне в обществе Татьяны Владимировны насладиться роскошным обедом. Вся палата сбилась за один стол. Видимо, мы теперь так и будем есть своим колхозом, и это доставляет мне радость: внутри жестоко-безумного, постоянно ощеренного девятого отделения возникла общность, в сущности, очень теплая, несмотря на то что мы все психи. За нашим столом не плюют на пол – равно как и на стол, – не лезут во время еды под халат почесаться, не матерятся, а если матерятся, то в тему, смешно, и все над этим ржут. Тут лица разные, а не одинаковые, разговоры житейские, без злобы и бесконечных жалоб.
– Девчонки, очень прошу, берите, не стесняйтесь! Картошка с жареным луком, еще теплая!
– Лен, – смущенно спрашивает Оля. – Можно помидорку взять?
– Оль, ну для чего я поставила, зачем спрашиваешь?
– Елена Викторовна, – смеется Татьяна Владимировна, – а у меня вареники с картошкой, мама делала… Тоже теплые еще. Надо срочно съесть.
Мы точно лопнем сегодня. Рыночные помидоры, редиска, квашеная капуста и соленые огурчики. Помимо картошки и вареников. Аля деликатно ест вареник, держа его двумя пальчиками: из приборов у нас только алюминиевые ложки. Рядом, на салфетке, лежит надкусанная помидорина… На тарелку с перловкой, залитой жижей под названием «рагу» – или «азу»? – класть помидорину Але не хочется.
В обед все объелись и завалились спать. Вся пионерская стайка шестой палаты.
Вспоминаю разговор о своей «творческой натуре» и вновь осознаю банальную истину о том, что психические расстройства – это вариант нормы. Или наоборот, гы-гы… Думаю не о хрупкости своей психики, а о хрупкости граней ее оценок. Хочется написать: «От этой мысли становится тревожно», но тут же ловлю себя на том, что тревога – тоже признак нехороший. «Такое может случиться с каждым». Сквозь дрему слышу голоса в палате:
– У нее голоса…
– Да нет, у нее депрессия. А сероквель – это правильный препарат. Его прописывают и при астенических психозах, и при шизофрении.
– Так у Катьки не голоса, у нее депрессия.
– Шизоидная или маниакальная? – доносится до меня разговор двух проснувшихся «сокамерниц». Не представляла, что у них такие медицинские познания.
– У нее мысли по кругу бегают, ее галоперидолом надо колоть, а не сероквелем. Но это еще как посмотреть. У всех мысли по кругу бегают, у меня тоже. А разве у вас нет, Лена?
У меня тоже бегают, еще как, особенно перед допросами. Три года вздрога и страха от каждого незнакомого номера на мобильнике. Взрыв адреналина и тошнотный откат. Чертовы качели. Три изнурительных года. Усталость. Какое там психическое расстройство, нервы издерганы. Но различать не входит в задачи ни следственного департамента, ни этого заведения. По крайней мере, в моем случае. У врачей задача предельно четко сформулирована: «Ты, Котова, здоровая или больная?» Если здоровая, пойдешь на свободу, то есть на допросы, а потом в суд, а потом… От сумы и от тюрьмы не зарекайся. «Это может произойти и с тобой, и со мной»… Если больная, будем лечить, пока не станешь здоровой. А там решат, что с тобой дальше делать. Поэтому я молчу. Я уже сижу в кровати с ноутом на коленях. Вместо мыслей у меня пальцы бегают… По клавишам ноута.
Аля… Девочка с искалеченной психикой и изломанной судьбой. Ей вынесли приговор уже в двадцать пять лет, хотя вины за ней нет никакой. Ее мир сузился до веры. В бога и врачей. Только они помогут. Ее лишили сил бороться и прав защищаться, потому что родители в детстве не дали ей ни сил, ни прав. И это пожизненно. «Вылеченная» девушка без эмоций машинально играет «Лунную сонату», и так же безучастно жует карамель, и так же ровно задает матери страшные вопросы по телефону… Кто виноват в том, что сделали с ней, с ними? Я думаю о сыне, о детях самых близких подруг, о том, как наши мальчики бунтовали против нас, матерей, в те страшные годы – от четырнадцати до девятнадцати, – когда жизнь потребовала от них ответа на вопрос, кто они, чего хотят, на что способны. Они мучительно искали ответ на этот вопрос, он сводил их с ума. Они тяготились нашей любовью, потому что уже знали, что скоро им придется жить в мире за пределами этой любви. Наша любовь им только мешала понять мир, а как жить в нем без любви – они не знали.
Пальцы бегают по клавишам ноута все быстрее. Бегают, сбегают… Вот Лешка, сын моей лучшей подруги, в ярости сбегает в осеннюю ночь с мокрого крыльца и плюхается в новенький «вольво», чтобы уехать от отца, который и купил ему машину, за что Лешка его ненавидит… Вот мой собственный сын сбегает из университета… Получается рассказ «Наши особенные мальчики». Они действительно особенные, они нашли себя, они простили нам нашу любовь, за которую винили нас в отрочестве, они сумели осмыслить мир, в котором этой любви нет, но который все равно прекрасен…
Очнулась около пяти вечера, когда увидела, что два санитара вволакивают в отделение новенькую. Усаживают на лавку, снимают казенную куртку, боты, ведут в халате и ночнушке по коридору, укладывают на ложе из четырех банкеток с матрацем, мгновенно сооруженное санитарками в конце коридора, у туалета. Пока непонятно, передоз или просто напилась. По коридору ползет слух, что якобы выпила пять пузырьков валокордина за один присест. Девушку привязывают, ставят капельницу, меня на мгновение ужасает, что это стало для меня за несколько дней привычным зрелищем. Для остальных тоже, интерес к событию затухает.
– Так что? – около меня так и вьется еще с обеда беззубая старушка-попрошайка. – Где сигареты-то?
– Елизавета Борисовна, держите, но имейте в виду: если хоть полслова, что от меня получили, больше ко мне не подходите. – Сую старушке пачку дешевых сигарет, которые принесла мне утром Галка со словами: «Котова, фраки раздашь крестьянам».
– Что вы, что вы… Вы такой добрый человек, вы удивительно…
– Елизавета Борисовна, курите и оставьте меня в покое, договорились?
– Да, милая, душечка, голубушка, – а я чувствую себя Ариной Петровной Головлевой. Салтыкова-Щедрина в психушке читать явно вредно.
Стою перед окном. Впервые без тоски о том – что там, за решеткой. Впервые чувствую, что окно не отделяет меня от мира, а приближает к нему. Решетки делают мир рельефным, выпуклым и даже выразительным. Не совсем, правда, понятно, какой из миров реальнее: тот, что за окном, или тот, что внутри… А может быть, реальный мир вывернули наизнанку, просунули в окно и перемешали с пространством психбольницы, и уже не понять, что внутри, а что снаружи?
Но может, и наоборот: мир психушки вывернули наизнанку, выдавили через решетку окна и получился весь тот мир, который окружает наш девятый корпус? Эх, сейчас бы почитать что-нибудь. Но кроме моего Салтыкова-Щедрина, в палате номер шесть на столе валяются только сканворды и загадочная книга «Лев Толстой о морских сражениях».
«Такое может произойти с каждым, с тобой, со мной, и знать этого никому не дано», – окно повторяет эту фразу медсестры, а вокруг жизнь идет своим чередом.
– Нет, у моей матери-то совести точно нет, – доносится из угла. – Запихнула меня сюда во второй раз! Ну чё, двадцать третье февраля ведь… И пила я не на улице и не в подъезде… Дома, с мужем, как люди. Стол накрыли, выпили, а она – в психушку…
– Да ладно, девки, вот в Серпах… – перебивает ее другая, – вот там веселуха. Я ваще ох. вала. Бабки в боксах за решетками сидят, мы гуляем строем, а месестра, фля… кричит: «А-а-ташли от окна на три метра».
– А чё, бабки из окон вываливаются? – спрашивает та, которую менты по просьбе матери повторно привезли в наше отделение.
– Да, один раз вылезла и хренак об землю. Никто и глазом не успел моргнуть.
– Ну и чё?
– А чё, в реанимацию ее с переломами, ну, связали, капельницу…
– Так они у вас чё там, каждый день падали, что ли?
– Да нет, это, тля… одна такая шустрая была, даже через решетку пролезла. Я ваще ох. ваю, как у нее голова через решетку пролезла. А ведь пролезла… А так они, говорю, в боксах за решетками, а мы, значит, идем, так они тапками в нас – хренак, хренак… Опять шмяк, як, тыц… еще раз… хренак… Ихняя веселуха. А зайдешь…
– Куда, в бокс?
– Ты умная очень, не перебивай, мля, а слушай. Ну… И они сразу – «дай сигаретку, дай сигаретку»… Одной дашь, она тут же по кругу, тын-тын-тын… Десять человек по затяжке, и пипец. А последняя опять: «Дай сигаретку, дай сигаретку». Прям, ать, достали.
Переливчатый мат разносится по всей курилке: три наши «подруги» – вообще омерзительное, тюремно-базарное какое-то слово – сидят на корточках с чифирем, трескают пряники и зефир в шоколаде. Отлепившись от окна, я отправляюсь в палату. Только раскрываю ноут, как влетает та самая – как же ее зовут? – которая рассказывала, как было в Серпах, то есть в клинике Сербского.
– Вы чё сидите тут? Там эта буйная, которую в коридоре привязали. Она, мля, оклемалась, встала, смотрит такими, тля, фишками на нас, ни хэ не соображает… И вдруг как бросится на эту, из четвертой! На наркошу в зеленом костюме «Шанель»…
– На Юльку, что ли?
– Хэзэ, как ее зовут… И душит ее! Так когтями вцепилась намертво и душит, а та даже крикнуть не может. Мы ее оттаскиваем, так у нее сил до хрена… а она кричит: «Отдай, сука, мою бутылку». Но тут санитарки…
– Какие санитарки, эти наши две бабульки?
– Ага… нихэ они те бабульки, знашь, какие тренированные… Так ее раз, скрутили, руки за спину – и на банкетки. И привязывать стали. Ща снова капельницу всадили, она опять откинулась.
– У нее что, белочка? – неожиданно тонким голоском спрашивает наш палатный ангел Аля.
– Что это – белочка? – переспрашивает Татьяна Владимировна, оторвавшись от кроссворда.
– Белая горячка, – отвечаю я укоризненно. – Сами могли бы догадаться.
– Эх, жаль, она набросилась душить не Котову, – мечтательно произносит Татьяна Владимировна. – Вот это была бы картина, это был бы подарок.
– Размечтались, – буркаю я. – Слишком хорошо, чтобы быть правдой.
Уже знаю: Татьяна Владимировна тут находится так же, как и я, на судебно-психиатрической экспертизе. Тоже принудительно, тоже не очень понятно, почему. Ей инкриминируют какую-то растрату на копеечную сумму при устройстве профсоюзного концерта. Кафка просто, в голове не укладывается, и еще меньше в ней укладывается, почему для выяснения истины надо было отправлять Татьяну Владимировну в психбольницу. «Так что же они написали? В чем причина?» – спрашиваю. Татьяна Владимировна округляет глаза:
– Елена Викторовна, хотите верьте, хотите нет, но в решении суда написано, что у меня голова вжата в плечи, а на лице – тревожно-тоскливое выражение лица. А какое может быть выражение лица у шестидесятилетней женщины, которой внуков надо растить – у меня их трое – и которая находится под следствием больше трех лет? А доказательств нет! Решили в психушку отправить, потому что понятия не имеют, что с делом делать. А вдруг помучают и доломают. Как и вас, уверена.
В дальнем углу палаты все еще продолжается возбужденное обсуждение девахи-душителя.
– Девушки, – с раздражением обращается к нашим соседкам Татьяна Владимировна, – что такое, почему у вас через слово мат? Можно как-то без этого?
– Извините, – бросает блондинка и снова продолжает рассказ о том, как в Серпах из окна вывалилась старуха. Вываливающиеся старухи… практически Хармс. Татьяна Владимировна опять вмешивается. Рассказ спотыкается, блондинка делает паузу, как конь, остановившийся на скаку, набирает в грудь воздуха… Я понимаю, что она пытается продолжить рассказ без мата и не находит способа, как это сделать.
Действительно, из песни слова не выкинуть, я хорошо ее понимаю. Если о мире, вывернутом наизнанку, рассказывать без мата, получится громоздко и уныло. А так – весело. Блондинка, видимо, чувствует это подсознательно, потому что продолжает свой рассказ с тем же лексиконом, только тише. Татьяна Владимировна делает вид, что ее это устраивает, но я вижу, как ее корежит.
– Елена Викторовна, – обращается она ко мне, – пойдемте, прогуляемся по коридору. Сейчас телефоны будут выдавать.
День кончается, палаты одна за другой укладываются спать. Мне не спится. Выхожу в коридор, в туалет. Тут же на звук открывшейся двери из сестринской, где медперсонал пьет чай, выскакивает санитарка по кличке Бегемотик – мало ли кто это и что сейчас выкинет. Я неожиданно для себя произношу:
– Свои, не беспокойтесь…