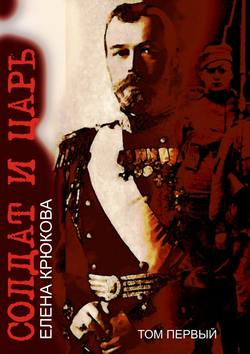Читать книгу Солдат и царь. том первый - Елена Крюкова - Страница 4
Книга первая
Глава вторая
Оглавление«А когда я ехал с ямщиком, то после боя я был сильно утомился, потому что я не спал трое суток, а когда меня вез ямщик, то я лег и наказал ямщику, чтобы он не доезжал до деревни Беловой километр, чтобы меня разбудить. Но когда я заснул, то ямщик был кулак и он меня привез к белым, вместо того чтобы разбудить. И в этот момент сонного меня обезоружили и давай меня бить, издеваться. Били меня до бессознанья, я не помню, вдавили мне два ребра, сломали мне нос, а когда дали мне опомниться, то дали мне лопату и заставили меня рыть себе могилу тут же на месте. Но остальная сволочь кричит: „Здесь его не убивайте, а вывести на могилу“. Но мое пролетарское упорство: я с места ни шагу, и говоря: „Если вам, гады, нужно, то расстреливайте на месте.“ В этот момент вдруг является молодой человек лет двадцати что ли двух и предложил меня отпустить, который сказал, что Прокудин в этом не виновен, он был поставлен властью и его пустить во все четыре стороны и пусть идет. Да еще за меня застоял один бедняк, который меня охранял, и сказал, что завтра же придут красные и расстреляют нашу всю деревню, а пусть он идет. И я был отпущен. А когда меня отпустили, то я не мог никак двигаться, а после на бой сразу. Мне надо было воды, то мне никто не дал воды. Нашелся один сознательный старик, не боясь ничего, он мне немного помог, запустив меня к себе и дав мне попить. И пробыв я у старика до ночи, и я пошел нанял ямщика довести до своей деревни Коноваловой. Приехав к отцу в двенадцать часов ночи, и я начал стучать. Отец испугался и говорит мне, что тебя приходили три раза с винтовками арестовывать. Брат спросил отца, что кто это. Отец сказал, что твой брат приехал. Брат и велел отцу впустить и говорит, что нам нечего бояться, если его убьют, то мы будем знать, что где он будет похоронен. А когда я вошел в дом отца, то тут быстро меня узнали свои родные и хотели приготовить сухарей, отправить меня скитаться. Но тут же быстро узнав, кулаки нашей деревни пришли, меня опять арестовали и повели меня расстрелять самосудом. А когда меня привели, то я пришел и спрашиваю: „В чем дело?“ Мне говорят кулаки: „Что, устояла ваша власть?“ – и говорят, что мы тебя, бандита, расстреляем, и приговорили меня расстрелять на кладбище. Но я благодаря своему упорству, я им сказал, что: „Гады, стреляйте меня на месте, а я туда не пойду.“ А в это время староста Канев Иван Иванович выразил обществу: „За что мы его расстреляем? Сегодня – белые, а завтра – красные. Нам всех не перестрелять, да и глупо будет“, – и велел отпустить, что он и так убит: „Пущай отдыхает, дело не наше“. Меня отпустили домой. Но я домой не пошел, а зашел к одному бедняку, который меня заложил под перину, и я там спасся, меня больше года не нашли».
Из воспоминаний Григория Иосиповича Прокудина,
жителя деревни Байкаим Кузнецкого округа Сибирского края. 1918 год
От стен дома волной шел и захлестывал холод. Дров отрядили мало. Михаил ежил плечи, дул в ладони. Внутри, в легких, перекатывались остатки молодого жара.
Он тихо, как кот, ступая, пошел по дому. Медленно, слоновьи тяжело наступая на всю ступню, поднялся по лестнице. Холод и молчание, и больше ничего. Эти – затаились. Не шевелятся, не болтают на ихнем заморском.
Стекла трещали от ударов мороза. Мороз синим кулаком бил и бил в окна.
«И будет еще лютей, – подумал Михаил и почесал щеку, и еще и еще почесал, чтобы щека разогрелась от жесткого карябанья, – аж звезды вымерзнут».
Он нутром чуял: еще жесточе завернет зима.
Что ж они, в Рождество-то, умерли, что ли?
Тишина жутью залепляла уши.
Через стекла длинными иглами входили и входили, вползали звезды в грудную клетку.
Михаил постучал себя кулаками по груди, будто кто-то там у него засел, плененный: зверок ли, птица. И надо, разломав ребра кулаками, выпустить его на волю.
Охлопал себя ладонями по плечам, по-ямщицки: так у них в Новом Буяне ямщики, после перегона, топчась на снегу, охватывались, сами себя грели. Хлопки гулко раздались и истаяли в пьяной тишине.
Шел по коридору. Чуял себя червем, проползающим сквозь слой тихой земли. Из-под двери сочился свет. А, все ж таки не спят. Не спят!
Любопытство закололо плечи ершовыми плавниками. Лямин остановился и приник щекой к притолоке. Сощурил глаз. Ему не впервой было подсматривать.
Глаз, судорожно дергаясь в глазной впадине, зрачком шарахаясь, искал среди них, сидевших за столом, Марию.
Да, вот она.
Сглотнул. Кадык дрогнул. Квадрат людских затылков над квадратом стола. Странно застыли. Словно слушают. Страшную музыку. А может, приятную. Ангелы им поют на небеси!
Руку воздел, чтобы дверь толкнуть. Рука замерла. Сжалась в кулак. Кулак ко лбу поднес. Подглядывать – продолжил.
Чтобы шевельнулись, ожили – ударил сапогом о сапог.
Затылки задвигались. Появились профили и лица. Профили оборачивались друг к другу. Лица опять застывали холодными блинами, острыми тесаками. Михаил рыскал зрачками: цесаревича не видел. Спит, болезный. А елка-то где?
Вспомнил, как сам в лесу рубил. Сам тащил сюда.
И цесаревичу – показывал. Схватив за ствол, мелко тряс, и бесшумно отрясался на паркет мелкий жемчуг снега.
А цесаревич слабо, больным котенком, улыбался, показывал клычки и мелкие, как у матери, нижние зубы. И протягивал руку, и палец касался зелени иголок, как раскаленной в печи кочерги. Руку отдергивал. Михаил всем телом дергался в такт: так пугал царенка. А потом смеялся, грубо и хрипло, и цесаревич вторил ему: звонко, жаворонком. И Михаил, опомнившись, кричал: «Отставить!»
Тяжесть елки на плече. Корявый ствол, духмяная хвоя, крепкий спиртовый запах. Ему приказали, он исполнил, делов-то.
«Небось, спит в комнатенке своей. Мать укрывает его одеялами. Свое, небось, отдает, дочерины наваливает. А то рядом с ним под одеяло заползает, телом греть».
Задрожал под гимнастеркой. Холод пробирался под шинель. Шинелишка мала, в плечах жмет. «А как царевны? Им-то что в сугробе, что в спальне, одно. Тоже друг с дружкой… может, и кровати сдвигают…»
Он догадывался верно: цесаревны в лютейшие морозы спали парно – Ольга с Татьяной, Мария с Анастасией.
Зрачки поймали выблеск пламени. Уши уловили легкий треск. Горели в камине дрова. Время сжирало дерево, людские тела, воздух и камни. Оно оказывалось, как ни крути, сильнее огня и всего, что Михаил знал.
«Тоска им тут… Тоска». Цесаревича увидал, как в тумане.
Мялся с ноги на ногу. Но от дверной щели не отходил.
Из щели сочился нездешний свет. Такого он в своем, сером и грязном, кровавом мире не видал и вряд ли уже увидит.
Поэтому глядел жадно, хищно.
Елка стояла на столе. В центре стола, как в центре мира. На одном краю стола и на другом пылали и чадили две свечи: одна – огарок, другая тонкая и крепкая, с рвущимся, как кровь из аорты, пламенем. Иглы топорщились так рьяно, что ветки казались толще руки. Сизые, синие иглы. Кожу на спине Лямина закололо: будто бы морозом из залы дико, темно дохнуло.
Ни одной игрушки на елке. Ни свечки жалкой.
Он следил, как Мария, зябко поведя плечами под тонкой вытертой козьей шалью, подняла руки и огладила ближайшую к ней ветвь, как оглаживала бы дикую, опасную росомаху: с любопытством, испуганно и нежно. Белая рука, будто хрустальная. Будто – игрушка, и висит, качается… плывет.
Его проняло: оказывается, человек – тоже игрушка!
– Да еще какая, – выплюнул сквозь зубы бесслышно, – еще какая выкобенистая…
Что у них там на столе? Рождество – без пирога, без утки, запеченной в яблоках, без французского салата оливье с раковыми шейками и анчоусами? Сидели, гладили пустую скатерть. Ан нет, вон тарелка; и на тарелке нечто. Присмотрелся. Хлеб! Просто, крупно нарезанный ржаной хлеб. Цесаревич взял в руки кусок хлеба, понюхал. Нюхал так долго, что нога Михаила затекла, и он тряхнул ею, лягнул тьму. И чуть сапог с ноги не сронил.
Мать сидела горделиво, жестко. Расширевшая старая спина, а жесткий юный хребет. Он часто видел, как бывшая царица, сидя в кресле, вытягивает вперед себя ноги, не железные, живые; распухшие, больные. Разношенные, когда-то роскошные туфли спадают. Пальцы в толстых носках шевелятся, брови и рот искривлены страданием. Будто кислого поела, лимон изжевала. Тогда Михаил странно, постыдно жалел ее.
Татьяна склонилась к матери, так двигаются тряпичные куклы. В руке она держала белый квадрат. Конверт, подумал Михаил сперва, письмо! Нет: тетрадь. Михаил разглядел: странная тетрадка-то, узкая, что твоя чехонь, и вовсе не белая, а лиловая. Татьяна ближе посунулась к царице и обняла ее за шею. Зашептала в ухо. Шепота он не слыхал – слишком далеко сидели. Царица взяла тетрадь медленно, словно лунатик. Так же медленно притиснула к груди.
Царь смотрел взглядом долгим, скучным. Потом перевел водянистые, стеклянные глаза на елку.
И глаза стали зеленые. Глубь болота.
Царские глаза, перламутрово катаясь подо лбом, что-то увидели на обложке тетради. Николай протянул руку ладонью вверх. Александра положила в нее тетрадочку. Тетрадь величиной с ладонь. Записная книжка? Михаил слышал, как он дышит. Затылки дрогнули. Сидящая к нему спиной обернулась. Анастасия. Она держала нож. Узкий, длинный.
И наверное, остро наточенный. Впрочем, есть ли у них наждак? Прозрачный цесаревич призрачно улыбался.
Надо отнять нож. Как ни крути, это оружие.
И тут он не выдержал. Рванул дверь на себя. Бронзовая ручка в виде оскаленной морды льва обожгла пальцы.
Он не знал, что скажет. Да все равно было.
– Здррасте, мое почтение! – Издевательски, петушино взвился голос. – С Рождеством… ха-ха, Христовым всю компанию! – Кегли голов дрогнули, покатились – кто набок, кто к нему, кто прочь. – Как там, волсви со звездою… путешествуют?..
Анастасия хотела встать строго, да не вышло. Стул упал с грохотом. Цесаревич пропал. Да был ли?
– С Рождеством Христовым вас!
Глаза скользили по царственным головам.
Вот она, вот.
Руки Марии, прежде сильные, тяжелые, обливные, исхудали. Щеки ввалились. «Да, едят скудно. А откуда мы харчей напасемся?» Глаза огненно, охально очерчивали мягкие выпуклости груди под чистой, и, казалось, хрустящей серой бязью. Мария часто и сильно дышала, и ему почудилось – хрипит она, простужена.
«Немудрено. Такой холод на дворе и в доме».
– Садитесь с нами, – с трудом выжал из посинелых губ царь.
Сесть? Не сесть?
Подумал про караул.
«Мужики меня потеряли. И Пашка… тоже».
Ольга и Татьяна вскочили. Обе уступали место. Ему, охраннику – великие княжны!
В груди будто искра разгорелась; кишки заполыхали. Сел. Бессмысленно потянул со стола салфетку, злобно смял в грязных пальцах. Анастасия рядом. Косилась, как кошка на мышь, на мозоли на его пальцах – от винтовки.
О чем говорить? Не о чем говорить.
«Я для них грязь. Пыль. Они мне через голову смотрят. Хуже коняги, хуже быка я для них. Скотину хотя бы кормят, ублажают. Ласковое слово бормочут. Ну вот сел я. Молчат! И будут молчать».
Сам не понимая, как это из него стало вырываться, плескать крыльями, вылетать, он хрипло запел:
– Ой Самара городок, беспокойная я! Беспокойная я, успоко-о-ой ты-и ме-ня…
«Вот вам. Вот. Вместо Рождественских тропарей ваших!»
На Марию не смотрел. Будто она реяла где-то высоко, над потолком, над зимними ночными облаками.
– Платок тонет и не тонет… потихонечку плывет! Милый любит ай не любит – только времячко ведет!
«Ишь, сидят. Слушают. Да она бы, царица, мне б, если могла – по губам бы кулаком дала!»
– Милый спрашивал любови! – Пел уже зло, с нажимом. Бил голосом, как молотком, по словам. – Я не знала, што сказать! Молода, любви не знала! Ну и…
Мария встала. Он увидел это затылком.
– Жалко отказать!
Ухмыляясь, скалясь, вот теперь обернулся к ней. Глазами стегнул по ее глазам, по щекам. Синий от холода нос, а щечки-то горят.
– Папа, можно, я угощу господина… товарища Лямина?
Глаза поплыли вбок, хлестнули стол. Пальцы Марии скрючились и цапнули кусок ржаного. Она подала хлеб Михаилу, как милостыню.
И он взял.
Песню прервал.
«Глупо все. Глупо».
Елка топырила сизые лапы. Изо ртов вылетал пар. Михаил вонзил зубы в ржаной и стал жевать, ему самому показалось, с шумом, как конь – овес в торбе.
Доел. И как шлея под хвост попала – опять запел.
Губа поднималась, лезла вверх; осклабился, обнажил желтые от курева зубы.
– А раньше я жила не знала, што такое кокушки! Пришло время – застучали кокушки по жопушке!
Царица закрыла рот рукой. Будто бы ее сейчас вырвет. Дверь в другую комнату раскрылась, как крышка треснувшей шкатулки; вышел, ступая сонным гусем, цесаревич, настоящий, во плоти; обеими руками держал на плечах одеяло, как шкуру медведя; одеяло волочилось по полу, подметало мусор.
Алексей глядел круглыми напуганными глазами. Так глядит из клетки говорящий попугай, не понимая, что лепечут странные страшные люди.
– С Рождеством Христовым, мама, папа! Сестрички!
– Кокушки… по жопушке… – тихо, все тише повторил Лямин. С черного хлеба он опьянел, и водки не надо.
Анастасия ловко сунула руку под елку. Вытащила нечто. Он думал, это подарок, а это оказалась тарелка с гречневой кашей. И, о чудо, сверху каши лежало смешное, коричневое!
Котлета, давясь от неприличного смеха, догадался он.
Анастасия подвинула по столу тарелку ближе к Алексею. В ее глазах стояли слезы. Опять ненастоящие, хрустальные елочные висюльки. И сейчас прольются-разобьются.
– Алешинька… это тебе…
Каша и котлета, как это мило. Нежно.
Михаилу захотелось плюнуть на пол. И ударить кулаком эту елку на столе, и сшибить к чертовой матери.
Но он не ударил. И не плюнул.
Мария так ясно, прямо смотрела. Она не глядел на елку; ее взгляд горячим сургучом лился на него, злого, потерянного, застывал, запечатывал.
Алексей затрясся, сдернул с плеч одеяло, подложил под себя, на сиденье, сел. Ему в руки воткнули ложку. У ложки крутилась, голову кружила витая ручка. Серебро почернело, и витки спирали вспыхивали рыбьей чешуей. Михаил смотрел, как цесаревич ест. И сам шумно подобрал слюни. И вытер кулаком рот. Часы в другой, иншей, инакой, за семью морями, комнате забили: бом-м-м-м, – один раз. И задохнулись.
Час ночи. Час.
И, когда они все, вся семья, встали за столом, все, как по команде, перекрестились и запели: «Рождество Твое, Христе Боже наш, воссия мирови свет разума, в нем бо звездам служащии звездою учахуся, Тебе кланятися, солнцу правды!» – он встал, пятясь, онемевшей рукой оттолкнул прочь от себя тарелку со ржаным, она заскользила по столу, докатилась до края, чуть не упала, и Мария, закусив губу, поймала ее, да неудачно: тарелка живой рыбой вырвалась у нее из рук, грянулась об пол и разбилась. Хлеб разлетелся.
– …и Тебе ведети с высоты Востока, Господи! Слава Тебе-е-е-е-е!
* * *
Михаилу в нос ударила вонь сырых портянок. Красногвардейцы дрыхли кто как, вповалку. Кто на кроватях; кто на полу. Полом не гнушались: а какая разница, от панцирной сетки все одно холодом несет. Михаил угнездился у окна. Через раму дуло. Ветер на улице мужал, наглел. Лямин вылез из шинели, накинул ее на плечи, медленно потянул на голову. Натягивая, уже спал. Во сне ему привиделось – он ищет Пашку, ищет, ищет и найти не может. А она вроде бы храпит тут же, рядом. Возле. И он тычет кулаком в мягкое, пахучее женское тесто – а натыкается на колючие заиндевелые доски заплота. И занозы всаживаются ему в кулак, и он выгрызает их зубами, и кровь на снег плюет, и матерится.
…Густо, пряно, маслено гудел колокол. Мощный, басовый.
Цари шествовали по улице во храм Покрова Богородицы, а впереди, с боков и сзади шли конвойные. Перед носом царя мотался колоколом кургузый, недорослый, в полушубке с чужого плеча, солдат по прозвищу Буржуй. Слева шли, на всякий случай винтовки в руках, а не за спиной, Сашка Люкин и Мерзляков. Справа шагал четко и сильно, будто почтовые штемпели подошвами сапог ставил на белых конвертах снега и льда, Андрусевич. Рядом с ним – комиссар Панкратов. Лямин замыкал конвой. Ребра сквозь шинель чуяли ледяную плаху приклада.
Ремень давил грудь. Он поправил его большим пальцем; пошевелил пальцем внутри голицы. Палец ощутил, ласково осязал кудрявый бараний мех рукавичного нутра. «Хорошие голички, Пашке спасибо, уважила».
Это Пашка ему пошила. И ловко же все умела, быстро. Что винтовку шомполом почистить, что щи в чугуне заделать – пустые-постные, а пальчики оближешь.
А интересно вот, да, она-то, она умеет что постряпать?
Забавно шли в церковь: впереди не родители, а дети. Гусак и гусыня назади, а выводок перед собой вытолкнули. И быстро же девки перебирают ногами. Шубенки пообтрепались. А залатать некому и нечем.
«Лоскуты им, что ли, где раздобыть овечьи. Пашку заряжу, починит».
Мария ступала, ему так чудилось, легче всех.
«Как по пуху, по снегу идет. А снег под ней… музыкой пищит, скрипит…»
Народ около церкви кучковался, сбивался, густел, вздувался черными и серыми пузырями. Мех шапок лучился жестким наждачным инеем. Мужики шапки сдергивали у самого входа, перед надвратной иконой Одигитрии, сжимали в руке или крепко притискивали к груди, крестясь. Бабы не улыбались; обычно в Рождество все улыбались, сияли глазами и зубами, а тут как воды в рот набрали. Будто – на похороны пришли, не на праздник.
Михаил понял: народ согнался на царей дивиться.
Ну, зырьте, зырьте, зеваки. Такого-то больше нигде не узрите. А только у нас, в Тобольске! Посреди Сибири, снежной матушки!
Вместе влились густым людским варевом внутрь церковного перевернутого котла: и точно, как на дне котла, копоть икон со взлизами золотых тарелок-нимбов, черные выгнутые стены, и катится по ним жидкая соль слез и пота, застывает, серебрится.
Цесаревны встали цугом, как лошади, запряженные в карету, Алексея дядька в тельняшке держал на руках; потом бережно опустил на огромную, погрызенную временами каменную плиту. Александра Федоровна стояла в ажурной вязаной шали. Край шали, с белыми зубцами, касался щеки и, видимо, неприятно щекотал ее; царица рассеянно подсунула под шерсть пальцы и отогнула ее, и шаль мигом сползла ей на плечи, на воротник лисьей шубы.
Священник пел, гремел ектенью, да увидел простоволосую. Насупился и выбросил вперед руку, как дирижер, а старуха уже испуганно платок на лоб водружала. Устрашилась! Как простая! Как мещанка, как баба деревенская!
А что, они такие же люди, как все мы. Точно такие. И кровь у них не голубая, а красная.
«Как наше знамя».
Гордо подумал, и мороз когтями голодного кота подрал у него под лопатками.
Они стояли: муж и жена, и жена гляделась выше мужа. Малорослый полковничек-то при супружнице. Чуть бы ему подлинней вытянуться. Или это она – на каблуках?
Скосил вниз глаза. Из-под шубы царицы торчали серые тупоносые катанки. Снег на них подтаял в храмовом тепле, и капли воды сверкали отражением свечного огня.
Михаил с трудом перекрестился.
Для него Бог был, и уже Бога не было. Как это могло так совмещаться? Он не знал. А раздумывать на эту тему было не то чтобы боязно – недосуг.
– Блажени плачущии, яко тии утешатся! – гремел архиепископ Гермоген.
Рядом с царицей стояла баба в огромном, как стог сена, коричневом шерстяном платке с длинными кистями. Когда архиепископ грянул: «Блажени кротцыи, ибо тии наследят землю!» – по щекам бабы потекли быстрые веселые слезы. Она грузно повалилась на колени и, быстро и сильно осеняя себя крестным знамением, повторяла шлепающими, лягушачьими, большими губами:
– Ох, блажени! Ох, блажени!
И все крестилась, крестилась. У Михаила замелькало в глазах, будто он на крылья мельницы глядел.
Нехорошо вокруг творилось. Народ все прибывал. Все душней становилось, дышать было невмочь. Народ тек и тек, трамбовался, груди прижимались к спинам, и перекреститься нельзя было, не то чтобы свечку горящую держать. Кто-то ахнул и упал без чувств; расталкивая локтями и коленями толпу, с трудом выдрались, вынесли на мороз, на солнце. Двери храма не закрывались. Гермоген служил, голову задирал, следил за паствой. Дьякон мельтешил, то подпевал, то кадило подавал, и курчавые завитки дыма обвивали повиликой торчащие из раструбов парчовых рукавов руки-грабли.
«И стреляют попы, и картошку копают, и охотятся. Все умеют. Не белоручки».
Мысли подо лбом вспыхивали насмешливо, гадко.
…Родители старались: молились, крестились, и дети крестились.
…Они крестились все по-разному. Как неродные.
Анастасия остро, будто клювом дятла – кору, клевала, била себя в лоб, грудь и плечи. Будто бы себя – наказывала. Татьяна медленно, нежно подносила щепоть ко лбу. Алексей крестился восторженно, ласково. Он ласкал себя, приветствовал. Возлюби ближнего, как самого себя, – а и самого-то себя любить не умеем! Ольга крестилась гордо и размеренно. Ее симфония звучала торжественно, как и требовало того торжество Рождества.
Мария крестилась незаметно. Широко, будто не рукой, а воздухом. Порывом ветра. Он чувствовал ветер, от нее доносящийся. Жмурился, как слизнувший сметану кот: брежу, спятил! Мария приподнялась на цыпочках, улыбаясь далекому, гремящему золотому Гермогену, и ее ступни оторвались от пола, она зависла над холодными выщербленными грязными плитами, повисела чуть – и плавно, очень медленно поплыла над полом, вперед, к амвону, ибо ее никто не теснил: вся толпа стояла и давилась за спиной, сзади.
«Умом я тронулся, мама родная. Богородица, помоги».
Вот сейчас он готов был поверить в кого и во что угодно.
В спину Лямина уперлась жесткая кочерга чужого локтя. Завозились, завздыхали.
– Ой, божечки! Вон они, вон они!
Конвойные теснились, ворчали. От Андрусевича крепко тянуло табаком. Смуглые ноздри округлял. Лямин видел: курить хотел, мучился. Сашка Люкин сплюнул, слюна попала на плечо царя, на его шинель без погон. Держалась за сукно утлой серой жемчужиной.
Архиепископ тяжко, с натугой пропел одну громоподобную фразу, вторую. У Михаила заложило уши. Панкратов презрительно поднял плечи, и погоны коснулись его ушей, отмороженных красных мочек.
Дьякон вдруг выше, высоко поднял горящую свечу. Гермоген раскинул руки – в одной дикирий, в другой трикирий. Перекрестил руки; огонь заполыхал мощнее на сквозняке, морозным копьем пронзающем толстую плотную духоту.
Дьякон, широкогрудый, мощный, как баржа по весне на Иртыше, груженная углем, набрал в легкие щедро воздуху.
– Их Величеств Государя Императора и Государыни Императрицы-ы-ы-ы-ы…
Сашка Люкин посмотрел на Лямина, как на зачумленного.
– Што, сбрендили? – беззвучно проронил Мерзляков.
– Их Высочеств!.. Великих Княжон Ольги, Татианы, Марии, Анастасиии-и-и-и…
Буржуй дернул плечами и заверещал:
– Эй ты, стой! Заткнись!
Куда там! Вокруг вся могучая толпа странно, едино качнулась и празднично возроптала. Писк Буржуя угас в гудящем и плывущем пространстве. Сгинул во вспышках – в угольном подкупольном мраке – лимонных, прокопченных страданием нимбов и алых далматиков.
– Его Высочества Великого Князя, наследника Цесаревича-а-а-а… Алексия-а-а-а-а!
– Молчать! – беззвучно из-под висячих табачных усов крикнул Андрусевич.
– Многая, многая, мно-о-о-огая… ле-е-е-е-е-ета-а-а-а-а!
Конвой увидал то, что видеть было нельзя. Народ валился на колени, и его было с колен не поднять. Ни ружьем, ни штыком, ни прикладом.
Если бы они сейчас всех перестреляли, перекосили в этой проклятой вонючей церкви из пулемета – никто бы все равно с колен не встал.
Темный воздух резко, радостно просветлел. Лямин задрал башку: откуда свет?
«Будь проклят этот свет. Этот чертов храм!»
Старался не смотреть на Панкратова. Теперь комиссар ему задаст! Почему – ему, он и сам не знал. Старшим у них был Мерзляков, мрачный молчун. Лишь глянет – вытянешься во фрунт. Глаза такие, бандитские, собачьи, ножами режут.
Толпа качнулась вперед, назад. Толпа готова была подхватить царей на руки. Проклятье! Как мать.
Толпа – мать, и царь – отец. Как все просто. И пошло.
Как обычно устроен мир.
Но теперь мы его перестроим. Перекроим!
И никаким Гермогенам… в их ризах, в парче…
– …та-а-а-а-а…
Под куполом эхо умерло. И кусками слез и дыхания обваливалась, как штукатурка, тишина.
Гермоген счастливо перекрестил паству. А рука его дрожала.
…Мерзляков и Панкратов дождались отпуста и целования креста. Народ уходил медленно, нехотя, люди оглядывались; и глядели даже не на царей – на них, стрелков, на конвой, будто они были какие попугаи заморские.
Михаил зло скрипнул зубами.
При выходе из церкви постарался боком, локтем задеть Марию, прижаться. Она хотела шарахнуться, он видел; потом удержалась, дрогнула круглым, как репа, подбородком, губы расползлись в робкой улыбке.
– Извините. Я вас задела.
– Это я вас задел.
Снег капустно, хрипло хрустел, пел, пищал под сапогами, валенками, ботами, котами, катанками, лаптями, башмаками. Лямин знал: комиссар и Мерзляков остались в церкви. Они сейчас архиепископа и дьякона вилами, как ужей, к стене прижмут.
А может, и к стенке поставят. Сейчас быстрое время, и быстрые пули.
* * *
Лямин раскуривал «козью ножку». Свернул из старой газеты. Пока сворачивал, читал объявления в траурных рамках: «ВЫРАЖАЕМ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ…", «С ПРИСКОРБИЕМ СООБЩАЕТ СТАТСКИЙ СОВЕТНИК ИГОРЬ ФЕДОРОВИЧ ГОНЗАГО О КОНЧИНЕ ЛЮБИМОЙ СУПРУГИ ЕКАТЕРИНЫ…»
Смерти, смерти. Сколько их. Смерть на смерти сидит и смертью погоняет. В жизни нынче вокруг только смерть – а он все жив. Вот чертяка. Втягивал дым и себе удивлялся.
Ушки на макушке: слушал, что товарищи балакают.
И снова удивился: раньше так к их бестолковому, жучиному гудению тщательно, с подозрением, не прислушивался.
– А Панкратов-то у нас игде?
– Исчез! Корова языком слизала!
– Таперя гуляй, рванина!
– А чо гуляй-то, чо? Раскатал губищу-т!
– Да на Совете он.
– Как так?
– Как, как! На нашем Совете!
– На Тобольском, да-а-а-а!
– Срочно собралися.
– А чо срочно? Беляки подступают?
– Сам ты беляк! Заяц!
– Но, ты мне…
– Спирьку я посылал туды. Уж цельный день сидят. Спирька бает: так накурено, так!.. Насмолили, аж топор вешай. И грызутся.
– А что грызутся-то?
Козья ножка дотлевала, красная крохотная звезда пламени медленно, но верно добиралась до Михаилова рта. Искурил, на снег горелого газетного червяка бросил. Сапогом прижал.
– Да то… Спирька-то глуп, барсук, туп… а запомнил. И мне донес. На комиссара бочку катят. Обличают. В мягкотелости! Добр, кричат, ты слишком. Велят с бывшими энтими, с царями, обходиться суровей.
– Дык куды уж суровей. В голоде держим их, кисейных, в холоде. К иному ведь привыкли.
– Ну да. К перламутровым блюдечкам, к чайку с вареньицем из этих… этих, ну…
– Баранки гну!
– Из ананасов.
– Они и вишневое небось трескали, и яблочное. Чай, в Расее живем, не в Ефиопии.
– И чо хотят-то? Штоб мы их… энто самое?
– Дурень. Спирька тебя умнее. Сдается мне, за решетку их хотят затолкать. Дом – одно, тюряга – другое, понимай.
– Врет он все, твой Спирька! Брешет!
– Это ты брешешь, кобель блохастый.
Беззлобно перебранивались, кашляли, под нос песни гудели. Всяк скучал по дому. А он, Михаил, по Новому Буяну – скучал?
Спросил себя: тоскуешь, гаденыш?
Отчего-то себя гаденышем назвал, и стало смешно до щекотки.
– А эти, эти! Попы, хитрованы! Вот кого надо удавить. Передавить всех, как вошей. К ногтю, и делов-то!
– А чо ты так на них? Попы они и есть попы. Были всегда.
– Газеты читай!
– Да я ж неграмотный.
– Врешь! Я видал, ты помянник мусолил.
– Да у меня матери година. Помянуть хотел.
– Видишь, читаешь, значит!
– А чо в газетах-то?
– А то. Патриарх Тихон на большевиков – анафему!
– Ана-а-а-фему?!
– Анафему, вон как…
– И чо? Велика ли сила в той анафеме? Сказки поповские все это!
Михаил отнял ногу от снега. Подошва сапога отпечаталась глубоко и темно, словно белую сырую простыню прожег утюг. Окурок лежал тихо и мертво, вмятый в снег.
«Сказки, сказки», – повторял про себя Лямин, все ускоряя и ускоряя шаг.
…Взбежал по лестнице в дом. В коридоре дверь чуть приоткрыта. Ввалился боком. Знал: там не пусто. Прасковья стояла у окна. Взгляд ее уходил далеко в морозную синеву, она будто нить тянула сразу из двух зрачков, а некто огромный, заоконный ту нить на холодный палец наматывал.
Обернулась, да уж лучше бы не оборачивалась. Ее лицо с широкими, косо срезанными скулами будто медной плошкой покатилось в лицо Лямина, и он отшатнулся от охлеста безжалостных глаз.
– Ну что ты, – шептал, как норовистой лошади, все-таки шагая к ней, себя превозмогая.
Женщина, он видел, сложила рот для того, чтобы смачно плюнуть. Ему в лицо.
– Плюй! – крикнул он.
Она неожиданно и круто повернулась к нему спиной.
Потом странно быстро наклонилась. Вцепилась себе в ремень. Истеричные пальцы не сразу справились с застежкой. Он изумленно глядел, как спадают с ног бабы солдатские порты.
Белизна ляжек ошеломила. Пашка наклонилась до полу, выставив белый крепкий зад. Ягодицы торчали незрелыми помидорами. Ладонями она трогала, ощупывала половицы, как если бы они были живые рыбы и уплывали, ускользали.
– Ну! – теперь крикнула она. – Что стоишь! Валяй!
Туман заклубился передо лбом, надвинулся на лоб плотной серой шапкой. Ноздри, раздувшись, поймали женский запах. Ноги уходили, а нутро оставалось. Качался, как в лодке посредине реки.
– Ну что! Давай! Трусишь? Или…
Он, заплетая ногами, подбрел к этому белому, круглому, жаркому, – знакомому, родному. И в этой унизительной, рабской согнутости она все равно стояла на расставленных кривоватых, кавалерийских ногах крепкой, гордой и сильной. Сила перла вон из нее, полыхала, уничтожала его, давила; он был всего лишь насекомое, и его прихлопнут сейчас, сдуют с ладони.
«Я возьму ее… возьму, она хочет!»
«Врешь: это не ты возьмешь, а тебя возьмут. И съедят. И выплюнут».
Уже прижимался животом к ее горячему, вздрагивающему твердому заду. Качался вместе с ней, терся об нее. Умирал, дышал захлебисто, ладони уже сами, не слушаясь, хватали свисающие под гимнастеркой тяжелые мягкие груди. А если кто войдет!
«Составят тебе компанию, и ее отнимут… выдернут у тебя из рук… повалят…»
Мутились пучеглазые, глупые рыбы-мысли
Вдруг Пашка вывернулась из-под него винтом, крутанулась, выгнула спину. Брякал ремень. Медно, звонко брякало о ребра сердце. Он ловил ее по комнате ошалелым медведем, голодным шатуном, а она уворачивалась, и на щеках вспыхивали ожоги – это она лупила его по щекам, да, ах, а он только что понял.
Пощечины звучали тупо и глухо, будто били в ковер палкой, выбивая пыль. Потом прекратились.
Гимнастерка поверх ремня. Лиф расстегнут. Пахнет лилиями от ее живота! В бане часто моется, не то что они, заскорузлые мужики. Он слышал свое дыхание, и оно такое громкое было, что – оглох. Тонким комариным писком зазвенел в висках далекий сопрановый колокол.
«Ко Всенощной звонят, в Покрова Богородицы», – билась кровь, разрывала мозг.
* * *
Вспоминать можно всяко.
Можно лечь спать, смежить веки, и под лоб полезет всякая чушь.
Можно бодро и упруго идти, а сапоги все равно тоскливо вязнут в нападавшем за ночь, густом, как белое варенье, снегу, – и то, что помнишь, будет летать перед тобой голубем, воробьем.
Можно курить на завалинке, долго курить: искурить цигарку, а потом новую свернуть, а потом, когда табаку не останется в кармане, делать вид, что куришь, посасывая клок бумаги; так выкроишь себе кус времени, а прошлое обступит, затормошит, не даст покоя.
И выход только один – идти к солдатам и еще табаку просить, чтоб одолжили.
…Когда прибыли сперва в Тюмень, потом в Тобольск – Советы сразу направили их сторожить царей. Пашка пожала плечами: сторожить так сторожить. Лямин еще подерзил: а казаков царских когда бить?! – да ему вовремя кулак показали: слушайся красного приказа!
Они оказались в одном охранном отряде – те, кто трясся без малого месяц в утлом вагоне от Петрограда до Тюмени: Лямин, Люкин, Андрусевич, Мерзляков, Подосокорь, Бочарова. Подосокорь тут же куда-то сгинул. Может, в Омск направили или в Тюмень обратно, или куда подальше, в Курган, в Красноярск, в Ялуторовск, в Иркутск, в Читу; а может, хлопнули где – свои же, за провинность какую. Сейчас провиниться и пулю заработать – раз плюнуть. Хуже, чем на войне.
А война-то, дрянь такая, идет себе, идет.
И что принят декрет о мире, что нет; вот тоже загадка диковинная.
И земля, кого сейчас земля?
Вот вернется он в Новый Буян – кого там земля будет? Народа – или опять не народа?
А кого? Кого другого?
…Вышли из дома, где Советы заседали, на мороз. Пашка закурила. Спросила Михаила сквозь сизый, остро воняющий жженым сеном дым: а что, они тут, в этих здешних Советах, какие, красные или другого какого цвета, эсеры, меньшевики или большевики? Лямин у нее прикурил. Стояли на крыльце, стряхивали пепел в вечерний, белизной и острой радугой сверкающий сугроб. Ответил: а пес их поймет. Смешалось все в России, и тот, кто сейчас палач, завтра сам встанет к стенке.
И мы встанем, хохотнула Пашка. Она всегда так хохотала – резко, сухой и яркой вспышкой.
Хохотала, будто стреляла.
…Они явились туда, куда им приказано было – и поняли, что не одни они тут стрелки, а есть уже в наличии охрана: с собою бывшим царям из Царского Села гвардейцев разрешили взять. Питерские гвардейцы косились на них. Они – на гвардейцев. Ребята простые; скоро подружились. Вместе курили, вместе в карауле стояли. Вместе пили, пуская бутылку с беленькой по кругу, сидя на холодных матрацах, на зыбучих, вроде как лазаретных койках.
…Вскорости после помещения их всех, из Петрограда прибывших бойцов, на охранную службу в бывший Губернаторский дом, а теперь Дом Свободы, где под арестом содержались эти клятые цари, да уж и не цари вовсе, Пашка уступила ему – слишком сильно и дико, как волк – волчицу, он домогался ее.
А когда все случилось – он уж без нее не мог.
А она – без него? Могла ли она?
Вопросы таяли и умирали, он растаптывал их окурками на снегу, сгрызал сосулькой, когда стоял на карауле у ворот и, как в пустыне, хотел пить.
…и вспоминал многое, досасывая во рту ледяную жгучую сладость, вспоминал все: и то, как на станции, забыл названье, вроде как Валезино, а может, и Балезино, Пашка вышла купить у баб снеди, а тут состав взял да и стронулся, и пошел; и пошел, пошел, паровоз задымливал, быстрее проворачивал колеса, тянул поезд все быстрей и быстрей вперед, и ухнуло тут у Мишки сердце в прорубь, и он рванулся в тамбур – а там, рядом с вагоном, уже отчаянно бежала, семенила ногами Пашка, и лицо ее плыло в дыму, а пальцы корчились, крючились, пытаясь достать Мишкину протянутую руку; и Мишка дотянулся, схватил, на ходу втащил Пашку в вагон, а она заправила волосы за уши и, тяжело дыша, вкусно, смачно чмокнула его в щеку; и то, как после Екатеринбурга в вагон впятился кривой гармонист и все ходил по вагону взад-вперед вприсядку, на гармошке наяривая, и дробно, четко сыпал изо рта частушки, одна другой похабнее; и Пашка хохотала, и все хохотали вокруг, а потом вдруг она присела рядом с маленьким, как гриб боровик, гармонистом, поглядела ему в глаза и громко, Мишка услышал, спросила его: «Хочешь, пойду с тобой? Сойдем с поезда, и пойдем?» А Лямину кишки ожгло диким кипятком, он не мог ни говорить, ни хохотать, хотя, может, это была такая Пашкина шутка; он только смог встать, шатаясь, как пьяный, и рвануть Пашку за руку от одноглазого гармониста. А она вырвала руку и крест-накрест разрезала его глазами. Ничего не сказала, ушла в тамбур и курила, и стояла там целый час.
И то вспоминал, как, уже на подходах к Тюмени, уже Пышму проехали, и Пашка уже расчесывала свои густые, что хвост коня, серо-русые, прямо сизые, в цвет груди голубя, волосы, к прибытию готовилась, вещевой мешок уж собрала, и тут состав внезапно затормозил так резко и грубо, что люди попадали с полок, орали, кто-то осколками стакана грудь поранил, кто-то ногу сломал и тяжко охал, а кто стукнулся виском и лежал бездвижный – может, и отошел уже, – и Пашка тоже упала, гребень вывалился из ее руки и выкатился на проход, и бежали люди по проходу, кричали, наступили на гребень, раздавили. А Пашка стукнулась лбом, очень сильно, и сознание потеряла, и он держал ее на руках и бормотал: Пашка, ну что ты, Пашка, очнись, – и губы кусал, а потом добавил, в ухо ей выдохнул, в холодную раковинку уха под его дрожащими губами: Пашенька.
А она ничего не слыхала; лежала у него на руках, закатив белки.
И то помнил, как на одном из безымянных разъездов – стояли час, два, три, с места не трогались, все уж затомились, – кормила Пашка на снегу голубей, крошила им черствую горбушку, голуби все налетали и налетали, их прибывало богато, и откуда только они падали, с каких запредельных небес, какие тучи щедро высыпали их из черных мешков, – уголодались птицы, поди, как и люди, – а Пашка все колупала пальцами твердую ржаную горбушку, подбрасывала хлеб в воздух, и голуби ловили клювами крохи на лету, а Мишка смотрел на это все из затянутого сажей окна, и сквозь сажу Пашка казалась ему суровым мрачным ангелом в потертой шинели, что угощает чудной пищей маленьких, нежно-сизых шестикрылых серафимов.
Вот именно тогда, глядя на нее в это закопченное вагонное окно, он и подумал – вернее, это за него кто-то сильный, громадный и страшный подумал: «Да она же моя, моя. А я – ее».
* * *
Пашка, если не в карауле стояла, часто сидела у окна комнаты, где жили стрелки. Она-то сама ночевала в другой каморке – ей, как бабе, чтобы не смущать других бойцов, Тобольский Совет выделил в Доме Свободы жалкую крохотную комнатенку, тесную, как собачья будка; но кровать там с трудом поместилась. В этой комнатенке они и обнимались – и Лямин смертельно боялся, что Пашка под ним заорет недуром, такое бывало, когда чересчур грозно опьянялись они, сцепившиеся, друг другом.
Никогда при свиданьях не раздевались – Михаил уж и забыл, что такое голая совсем, в постели, баба; обхватывая Пашку, подсовывая ладони ей под спину, жадно чуял животом то выгиб, то ямину, то плоскую и жесткую плиту ее живота.
Животами любились. Голую Пашкину грудь и то видал редко – раз в месяц, когда на задах, в зимнем сарае, где хранили дрова, разрывал у нее на груди гимнастерку и приникал ртом к белой, в синих жилках, коже цвета свежего снега. А Пашка потом, рьяно матерясь, собирала на земле сараюшки оторванные пуговицы, поднималась в дом и сидела, роняя в гимнастерку горячее лицо, и, смеясь и ругаясь, их пришивала к гимнастерке суровой нитью. Сапожная толстая игла мощной костью тайменя блестела в ее жестких и сильных пальцах.
И, когда свободный час выдавался, Пашка заходила в комнату к стрелкам и садилась у окна.
И так сидела.
Ей все равно было – толчется тут народ, нет ли; не обращала вниманья на курево, на матюги, на размотанные вонючие портянки на спинках стульев; на то, что, завидев ее, стрелки весело кричали: а, вот она, наша мамаша! пришла! явилось ясно солнышко! ну садись к нам поближе, а в карточки шуранемся ай нет?!.. – на эти крики она не отвечала, молчала, придвигала стул ближе к окну – и, как несчастная дикая кошка, отловленная охотником и принесенная в дом, к теплой печи и вкусной миске, в теплую и навечную тюрьму, тоскливо, долго глядела в лиловеющее небо, на похоронную белизну снегов, на серые доски заплота и голые обледенелые ветки, стучащие на ветру друг об дружку.
Сидела, глядела, молчала.
И чем громче поднимались вокруг нее веселые молодые крики – тем мрачнее, неистовее молчала она.
А когда в комнату стрелков входил Лямин, у нее вздрагивала спина.
Он подходил, клал пальцы на спинку стула. Она отодвигалась.
Все в отряде давно знали, что Мишка Лямин Пашкин хахаль. Но она так держалась с ним, будто они вчера спознались.
Он наклонялся к ее уху, торчащему из-под солдатской фуражки, и тихо говорил:
– Прасковья. Ну что ты. У тебя что, умер кто? Ты что, телеграмму получила?
Она, не оборачиваясь, цедила:
– Я не Прасковья.
– Ну ладно. Пашка.
Лямин крепче вцеплялся в дубовый стул, потом разжимал пальцы и отходил прочь.
И она не шевелилась.
Бойцы вокруг, в большой и тоскливой, пыльной и вонючей комнате были сами по себе, они – сами по себе. Крики и возня жили в грязном ящике из-под привезенных из Питера винтовок, забросанном окурками и заплеванном кожурою от семячек; их молчанье – в золоченой церковной раке, и оно лежало там тихо и скорбно, и вправду как святые мощи.
А может, оно плыло по черной холодной реке в лодке-долбленке, без весел и руля, и несло лодку прямо к порогам, на верную гибель.
* * *
– Подъе-о-о-ом!
Царь уже стоял на пороге комнаты, где они с царицей спали. Как и не ложился.
Бодр? Лицо обвисает складками картофельного мешка. Кожа в подглазьях тоже свисает слоновьи. Мрак, мрак в глазах. Рукой от такого мрака заслониться охота.
Михаил внезапно разозлился. И когда оно все закончится, каторга эта, цари? Устал. Надоело. Замучился. Да все они тут, все, тобольский караул…
– Все мы встали, дорогой… – Помедлил. – Товарищ Лямин.
Такие спокойные слова, и столько издевки.
Михаил чуть не загвоздил царю в скулу: рука так сильно зачесалась.
Был бы мужик напротив, красноармеец, – такой издевки б не спустил.
– Давай на завтрак! Все уж на столе! Стынет!
«Накармливай тут этих оглоедов. И раньше народу хребет грызли, и сейчас жрут. Нашу еду! Русскую! А сами, немчура треклятая!»
Уже беспощадно, бессмысленно матерился внутри, лишь губы небритые вздрагивали.
Царь посмотрел на него странно, длинно, и тихо и спокойно спросил:
– А почему вы, товарищ Лямин, называете меня на «ты»?
Было видно, как трудно ему это говорить.
А Лямину – нечего ему было ответить.
…Когда в залу шли, гуськом, чинно, девицы в белых передничках – расслышал, как странно, тихо и глухо, на собачьем непонятном языке, переговариваются Романов с Романовой.
Потом – будто нехотя – по-русски забормотали.
– От Анэт письмо. Боричка жив, здоров.
– Какой Боричка? Теософ?
– Друга нашего друг.
– А, понял. Дай-то Бог ему. Да ведь он пулеметчиком?
– Все, к кому прикасалась рука Друга, священны.
– Знаю. Он жениться на Анэт не собрался?
– Нет. Лучше того. Он скоро будет здесь. У нас.
– Вот как. И зачем? Зачем нам революционер? Это чужак.
– Ты не понимаешь. Он родной. Деньги нам везет.
– Деньги? Какие?
– Анэт собрала. Но я ему не верю. Я боюсь.
– Чего ты боишься, душа моя?
– Всего. Возможно, Боричка ставленник Думы. А может, и Ленина.
– Пфф. Ленин – странная оручая кукла. Гиньоль, Петрушка. Он сгинет, упадет с балкона и разобьется. Я не держу его всерьез. Аликс, верь Анэт, она не подведет.
– Я… – Тут они оба перешагнули порог столовой залы, она чуть раньше. – Я верю только Другу. Он из-за гроба ведет нас.
Войдя в залу, замолкли. На столе стыла скудная еда: гречневая рассыпчатая каша, куски ситного без масла, жидкий чай в стаканах с подстаканниками.
Расселись. Девочки разгладили передники на коленях. Как ненавидел Михаил эту их вечную молитву перед трапезой!
Он и сам так молился все свое деревенское детство; почему его с души воротило, когда цари вставали вокруг стола и складывали руки, и читали про «хлеб наш насущный даждь нам днесь», – он не понимал. Рты им хотел позатыкать грязным полотенцем.
«Я схожу с ума, я спятил. Я кощунник! Или уж совсем в Бога не верую? Спокойней, Мишка, спокойней. Это ж всего лишь люди, Романовы им фамилия, и они читают обычную молитву перед вкушением пищи. Что разбушевался, рожа красная?»
В зеркале напротив, в черном пыльном стекле с него ростом, видел себя, рыжий клок волос надо лбом, гневной дурной кровью налитые щеки.
Помнил приказ: за семьей досматривать везде и всегда, поэтому не уходил из зала. Бегал глазами, щупал ими все подозрительное, все милое и забавное. Все, что под зрачки подворачивалось: веснушки на Анастасиином носу, золотые, червонные пряди в темных косах Марии, гречишное разваренное зерно, как родинка, на верхней, еще безусой губе наследника. Желтую грязную луну медного маятника. Острый локоть бывшей императрицы, когда она подносила ложку с кашей ко рту, надменно и горько изогнутому. Она и ела, будто плакала.
Жевали молча. Отпивали из стаканов.
– Молочка бы. Холодненького, – тоскливо и голодно, тихо сказал наследник.
Царь дрогнул плечом под болотной гимнастеркой.
Мариин профиль тускло таял в свете раннего утра. По стеклам вширь раскинулись ледяные хвощи и папоротники. Михаил стоял у двери, и не выдержал. Отступил от притолоки, каблук ударился о плинтус. Шаг, вбок, еще шаг. Он двигался, как краб, чтобы встать удобнее и удобнее, исподтишка, рассматривать Марию.
Она почувствовала его взгляд и закраснелась щекой. Он ждал – она обернется. Не обернулась.
А жаль. «Поглядела бы, хоть чуток».
Тогда бы, смутно думал он, – а что тогда? Завязался бы узелок? Зачем? На что? Сто раз она глядела на него. Улыбалась ему. А все равно он для нее – стена. Бревно, полено, грязная лужа. И никакая улыбка не обманет.
А правда, кто тут кого обманывает?
…Словно яма распахнулась под ногами.
«Царь – нас обманывал. Ленин – нас обманывает? Охмуряет? Куда тянет за собой? Потонули в крови, а балакают о светлом будущем, о счастливом… где все счастьем – захлебнемся… Мы – красноармейцы – обманываем царей: ну, что охраняем их. Утешаем! Мол, не бойтесь! А что – не бойтесь-то?! Ведь все одно к яме ведет. К яме!»
И еще ударило, в бок, под дых: к яме ведут всех нас, идем – все мы.
«Так все одно все мы… там и будем… раньше ли, позже…»
Между бровей будто собралась тяжелая горючая тьма, величиной со спелую черную вишню. И давила, давила. А нас обманывают командиры, продолжал тяжело думать Лямин, да еще как надувают: отдают приказ, а мы и рады стараться; а они за спиной в это самое время…
Что – они за спиной, – он и сам бы не мог толком сказать; но понимал, что приказ – это для них, черных людей, а для господ большевиков – может, и не приказ вовсе.
Господа! Товарищи! Он еще вчера был царской армии солдат. И вот, вот ужас. Он – над своим царем – которому подчиняться должен, дрожа, от затылка до пят, от ресниц до мест срамных и потайных, – сейчас хозяин! Конвоир – уже хозяин. Ведет, сторожит, бдит, – а фигура на прицеле. На мушке. Не убежишь. Слюну без спросу не проглотишь.
Яма, думал он потрясенно, яма, и делу конец.
Приказ отдадут тебя расстрелять – и в расход как миленький пойдешь.
Беляки Тобольск займут – и царь первый тебя укнокать велит.
Первый! Потому что ты над ним был, ты порушил порядок.
«Это не я! Не я! Это так сложилось! Так приключилось! Не мы так все придумали! Сладилось так!»
Мария утерла рот кружевным носовым платком, обеими руками, тонкими и сильными пальцами приподняла тарелку над столом и опять поставила на скатерть. Михаил слышал свое сопение. Так он шумно дышал, и нос заложило. Ему захотелось, чтобы она отломила своими быстрыми пальчиками кусок ситного и дала ему. Скормила, словно бы коню.
Он уже и морду вперед, глупо, сунул.
А яма под ногами все чернела, и он боялся шагнуть и свалиться в нее.
Зажмурился, головой помотал.
«Вконец я ополоумел! Дров пойти поколоть…»
На дворе солдаты пели громко, заливисто:
– Там вдали, в горах Карпатских,
меж высоких узких скал
пробирался ночью темной
санитарный наш отряд!
Впереди была повозка,
на повозке – красный крест.
Из повозки слышны стоны:
«Боже, скоро ли конец?»
Мария первой из-за стола встала. Вот сейчас обернула к нему лицо.
Нет, эта не обманет! Не будет обманывать! Никогда!
Лучше даст себя обмануть.
«А если я ей прикажу – под меня… ляжет?»
Яма под ногами исчезла. Вместо нее желто, тускло заблестели доски вымытого поутру пола. Баба Матвеева приходила, намыла; солдатка, щуплая, худая, рот большой, галчиный. С ней охрана и не баловала: такая тщедушная была, кошке на одну ночь и той маловато будет, скелетиком похрустеть.
– «Погодите, потерпите», —
отвечала им сестра,
а сама едва живая,
вся измучена, больна.
«Скоро мы на пункт приедем,
накормлю вас, напою,
перевязку всем поправлю
и всем письма напишу!»
Песня доносилась будто издалека, из снежных полей. Солнце головкой круглого сыра каталось в снятом молоке облаков, в набегающих с севера сизых голубиных тучах. Цесаревич тоже поглядел на Михаила.
«Черт, глаза как у иконы. Хоть Спасителя с мальца малюй! Да богомазов тех постреляли, повзрывали. Яма… яма…»
В глазах Марии он видел жалость, и он перепутал ее с нежностью. В глазах Алексея горело презрение. Две ямы. Две темных ямы.
А Пашка? Кто она, где?
…его яма. И падает в нее.
Лямин развернулся, как на плацу, и, топая сапогами, выкатился из залы. Вон от пустых тарелок, от крошек ситного на скатерти. Пусть баба Матвеева скатерть в охапку соберет да крошки голубям на снег вытрясет.
* * *
…Она ведь никакая не старуха. А все тут ее и видят, и зовут старухой; и в глаза и за глаза; и она, скорбно и дико взглядывая на себя в зеркало, тоже уже считает себя старухой – ах, какое слово, ста-ру-ха, как это по-русски звучит глухо, вполслуха… вполуха…
Будто мягкими лапами кошка идет по ковру.
Нет, это она сама в мягких носках, в мягких тапочках сидит и качается в кресле-качалке. И все повторяет: старуха, старуха, ста… ру…
Муж подошел к ней, положил ей руку на плечо, и кресло-качалка прекратило колыхаться.
Как всегда, его голос сначала ожег, потом обласкал ее.
– Аликс, милая. Вот ты скажи мне.
Она подняла к нему лицо, и оно сразу помолодело, прояснилось. Зажглось изнутри.
– Что, мой родной?
Царь выпустил ее плечо, отошел от кресла, продел пальцы в пальцы, сжал ладони и хрустнул запястьями.
– Я вот все думаю. Думаю и думаю, голову ломаю. Мы ведь с тобой веруем в Бога. Так? Верую во Единого Бога Отца, Вседержителя…
Оба прочитали, крестясь, Символ веры – шепотом, быстро, отчетливо.
Слышали каждое священное слово друг друга.
– Чаю воскресения мертвых…
– И жизни будущаго века. Аминь.
Опять перекрестились. Перекрестили друг друга глазами.
– И что? Что? – Она не могла скрыть нетерпение, любопытство. – Что ты мне хотел сказать.
Царь пододвинул табурет ближе к креслу-качалке, сел на табурет верхом, как на лошадь. Хотел улыбнуться, и не смог.
Вздохнул и заговорил, заговорил быстро, сбиваясь, часто дыша, болезненно морщась, стремясь скорее, быстрее, а то будто опоздает куда-то, высказать, что мучило, жгло, давило.
– Вот Серафим Саровский. Батюшка наш Серафим. Преподобный… чудотворец. Отшельник. И пророк. Ты пророчество его помнишь, да, знаю, вижу, помнишь. И я все, все помню. Не в этом дело. И ту бумагу, что нам из шкатулки давали читать, ты же тоже помнишь. И я помню. Я не то хочу сказать. Я… знаешь.. долго думал, долго. Наконец вот тебе сказать решился. Мы веруем. И вся наша Россия, вместе с нами, веровала. В храмах – во всей нашей земле – молилась. Лбы все крестили. Посты соблюдали. Божий страх имели. Божий – страх! Это же самое главное. Нет Божьего страха – нет и человека. Нет человека – нет и… да, да… государства. Земли нашей нет без Божьего страха! Не может, не сможет она… выжить…
Царица слушала, боясь хоть слово упустить.
– И вот, милая, мы с тобой – веруем. Свято веруем! Молимся… каждодневно… и утром, и на ночь… и на службу нам разрешают ходить… иконы целуем… Вслух ты – детям – из Писания читаешь! Все, все делаем… как все русские люди всегда… Бог при нас… и что же?
– И что же? – неслышным шепотом повторила за мужем царица, надеясь, ужасаясь.
– Серафимушка… он предсказал будущее, да… и ты помнишь, ты же помнишь все, ну, что было в этом предсказании. Помнишь ведь?.. да?.. Он предсказал нам… смерть…
– Смерть, – шепотом повторила царица.
– Да, смерть! Но я… представь себе, я в это не поверил… не захотел поверить… Я… может, я святотатец!.. но я… не захотел поверить в нашу с тобой смерть, в смерть детей… Я верую в Бога, да… и ты веруешь… и дети наши веруют, да, да, мы так их воспитали, мы так их держали всегда, всегда, в страхе Божием… И я… вот сейчас, во все последние дни, и сию минуту, спрашиваю себя: и тебя, сейчас и тебя… спрашиваю: где же теперь Бог над Россией?
Царица хотела повторить: «Где же теперь Бог над Россией?» – и не смогла: губы не смогли вымолвить это. Царь смог, а она – нет. И опустила голову, голова внезапно стала тяжелой, чугунный пучок волос давил книзу, из него выпадали чугунные шпильки, чугунные волосы развивались и плыли по чугунной шее, по старым плечам, нет, ее плечи еще не старые, они еще красивые, она еще может носить декольте!.. старуха… ста… ру…
Он взял ее руки в свои, крепко сжал, и она чуть не вскрикнула.
– Где же? – повторил царь, весь сморщившись, покривив лоб, губы, и зажмурился, будто не мог перенести прямого, отчаянного взгляда жены.
– Я не старуха! – шепотом крикнула она ему прямо в лицо.
Ее зрачки медленно становились широкими и наполняли черной стоячей водой всю серую светлую радужку.
Он испугался, побледнел.
– Что ты, милая?.. что, хорошая моя?.. Да нет, ну какая же ты старуха… вспомни, сколько тебе лет… и я тебя… я тебя…
Он беззвучно шептал: люблю, – а она уже судорогой выгибалась в его руках, и он уже крепко обнимал ее, и, сильный, еще крепкий, хоть и исхудал на скудных харчах, брал на руки, грубовато, по-солдатски, как тащит солдат военную добычу, и вынимал из качалки, и нес на кровать. И целовал лицо, мокрое, уже страшное.