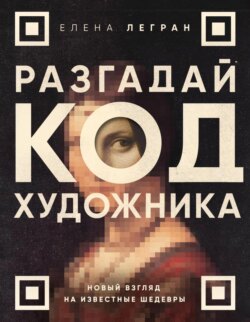Читать книгу Разгадай код художника: новый взгляд на известные шедевры - Елена Легран - Страница 11
Глава первая. Не то, что кажется: скрытые коды известных шедевров
Пророческие предчувствия Перова
ОглавлениеРусская живопись на пару с русской литературой в XIX веке берут на себя важную и несвойственную европейской живописи того же периода роль: они становятся проводником, маяком для теряющей опору нации. Церковь, от которой традиционно ожидаешь выполнения этой роли, с ней не справилась. Так что Красота – иными словами, эстетика, – которая, по мнению Достоевского, должна спасти мир, бросилась на спасение русского общества. Как ни в одной другой стране живопись и литература в России в это время сплелись в единый узел, расставляя акценты и давая ориентиры запутавшемуся человеку, которому сложно было отличить добро от зла, правду от лжи, спасение от погибели. Писатели и художники внимательно следили за работами друг друга, общались, собирались в общие кружки и группы: они чувствовали, что делают одно дело и служат одной идее – указать России путь выхода из того адского болота, в которое она постепенно погружалась.
Среди русских живописцев XIX века особым пророческим даром обладал Василий Перов [50], оставивший нам за свою короткую 48-летнюю жизнь несколько глубоких произведений, наполненных смыслами и предчувствиями. Смею предположить, что любознательным и интересующимся искусством читателям, которые держат эту книгу в руках, знакомы все три картины Перова, о которых мы сейчас будем говорить. Это «Сельский крестный ход на Пасху», «Тройка» и «Охотники на привале». Все они входят сейчас в собрание Третьяковской галереи.
Сюжеты этих картин кажутся незамысловатыми и легко понятными. Это своеобразные жанровые сценки с социальным подтекстом. Уверена, среди моих читателей есть те, кто, как и я, писали в школе сочинения на сюжет «Тройки» Перова. Но все же рискну самонадеянно предположить, что более глубокие смыслы этих картин и содержащиеся в них предчувствия будущего России поразят многих из вас.
Василий Перов. Сельский крестный ход на Пасху. 1861, Государственная Третьяковская галерея, Москва
Давайте сперва рассмотрим самую раннюю, и потому наиболее многословную из этих картин – «Сельский крестный ход на Пасху», написанную Перовым в 28 лет.
Что здесь происходит?
Странный вопрос, ведь автор объяснил нам содержание картины названием, которое дал ей сам! И тем не менее сложно назвать то, что мы видим, крестным ходом. Хотя бы потому, что все персонажи на переднем плане движутся совершенно в разные стороны! Да и вид их совершенно не соответствует происходящему.
На женщине – слишком короткая юбка, из-под которой виднеются спущенные чулки, в руках она держит икону со стертым образом Богородицы. Она не очень трезва, как и многие участники «крестного хода», и, горланя песню, направляется в сторону от следования процессии. За ней совершенно пьяный нищий несет перевернутую икону. Рядом прилично одетый мещанин, прикрыв глаза и распевая что-то на па́ру с женщиной, также отклоняется от маршрута.
Красный от пьянства священник, который еле держится на ногах, в грязной и ободранной на подоле рясе спускается с крыльца, раздавливая ногой пасхальное яйцо. Прямо за ним вдребезги напившийся дьяк, неспособный даже подняться на ноги, за чем-то тянется. Уж не за валяющимся ли в грязи раскрытым Псалтырем?
Справа от нас женщина орошает водой голову еще одному пьянице, желая немного привести его в чувство, и это выглядит как пародия на обряд Крещения.
Ожидается, что «крестный ход» выходит из церкви. Но вид героев картины и широкое крыльцо говорят нам о том, что перед нами обычный деревенский кабак.
Все на картине молодого Перова осквернено, поругано, растоптано. Группа людей, не имеющих друг с другом ничего общего, бредет куда-то, и создается ощущение, что не совсем понимает, куда именно. Кто-то ведет оживленную беседу, явно не соответствующую ситуации, кто-то читает бульварный журнал, а кто-то просто молча и обреченно шагает вперед и… вниз.
Куда же движутся эти молчаливые и покорные своей судьбе темные силуэты? Не туда ли, куда начала двигаться Россия с середины XIX века и куда она пришла к началу XX?
Прямиком в Ад, в бездну.
Есть на этой многолюдной картине один персонаж, которого сразу и не заметить, но который разительно отличается от остальных. Слева от зрителя – женщина в платочке, уже почти спустившаяся в бездну, зачем-то обернулась и то ли вопросительно, то ли умоляюще смотрит. На кого? На тех, кто идет за ней, в поисках поддержки? На Небо в поисках Бога? Или на нас с вами, смотрящих на нее через полтора столетия и знающих больше, чем она, о той России, которую сейчас, в этот конкретный момент, запечатленный пророческой кистью Перова, она и идущие с ней теряют?
Церковь на картине есть: вдалеке, там, где светлое небо и где летают птицы. В пространстве же идущих все замерло: редкие птички – и те притихли на единственном дереве, – ни ветерка, ни бродячей собаки, кормящейся у кабака. Здесь застыло время и застыла природа. И чтобы дойти до света, до птиц, до церкви, героям картины нужно пройти через Ад.
«Сельский крестный ход на Пасху» произвел сильное впечатление на российское общество: картину ругали и хвалили одновременно за антиклерикализм, социальную критику и отображение реалий жизни. Но в том ли заключался истинный замысел Перова? Не думал ли он, прежде всего, о том пути, что ждет Россию, теряющую Бога?
Василий Перов. Тройка. 1866, Государственная Третьяковская галерея, Москва
Пять лет спустя возмужавший художник создаст свое главное произведение, ту самую «Тройку», иначе именуемую «Ученики мастеровые везут воду». И здесь нам открывается совсем иное будущее – светлое. Представляю, как сейчас мои читатели с недоумением покачают головами и воскликнут: «Не может быть! Мы со школьной скамьи знаем эту картину! На ней несчастные дети с трудом тащат тяжеленную бочку с замерзшей водой по ледяной мостовой, и ничего светлого на этой картине нет!»
С тем, что перед нами маленькие жертвы нищеты, сиротства и плохого обращения, спорить бессмысленно: все так и есть. Деревенские ребятишки, отправленные родителями в город подмастерьями к сапожнику, для которых стать мастеровым – единственный способ выжить, имеют незавидную участь. Следы побоев, плохого обращения и абсолютного равнодушия к этим деткам налицо: выбитые зубы у мальчика в центре, голая шейка и тулупчик не по росту у мальчика слева от нас и рваное пальтишко девочки очень красноречиво описывают их жизнь. Их настоящее ужасно.
Но о нем ли речь, о настоящем ли?
Попробуйте посмотреть на картину так, словно видите ее в первый раз и ничего о ней не слышали. Если же получится посетить Третьяковскую галерею в Москве, встаньте перед «Тройкой» – так вы лучше, чем на иллюстрации, ощутите движение, я бы даже сказала натиск, который исходит от этого довольно большого по размеру произведения. Эта картина в буквальном смысле слова несется на вас, вернее, несутся дети, на ней изображенные. Бешеная скорость их движения подчеркивается бегом дворняжки рядом. Мостовая проносится под их ногами. Куда же несутся они через встречный ветер и метель?
Туда, где свет.
Свет этот освещает их куда сильнее уличного фонаря в левом верхнем углу картины. Они врываются, вернее, поднимаются в свет из темного оврага. Не тот ли это адский овраг, о котором мы говорили применительно к «Сельскому крестному ходу»? Этим детям не по пути со старым миром, спускающимся в бездну. Их ждет свет, их ждет будущее.
Многие слышали историю, рассказанную самим художником, о том, что мать маленького Васи, позировавшего для центрального мальчика, после ранней смерти сына приходила в Третьяковскую галерею и молилась у картины, как у иконы. Но мало кто обращал внимание на то, что в «Тройке» есть образ, который год спустя Перов использует в своей картине «Христос и Богоматерь у житейского моря»: это образ девочки. Юная Богоматерь нового мира – вот, кто перед нами.
Если в «Сельском крестном ходе» провидец Перов предрекает своей России Ад, то в «Тройке» новое поколение, неся на своих плечах все муки и страдания настоящего, врывается в яркий свет, в будущее, которое отныне принадлежит ему: истерзанному, битому, измотанному нищетой и побоями.
До Русской революции 1905–1917 годов оставалось всего 40 лет.
Василий Перов. «Христос и Богоматерь у житейского моря»
Но в 60-х годах XIX века сложное, пестрое, противоречивое русское общество еще не расколото настолько, чтобы брат пошел на брата, а сын на отца. Пока еще помещики кормятся иллюзиями, мещане этим иллюзиям верят, а крестьяне, недавно переставшие быть крепостными, не совсем еще поняли, как устроен мир.
Именно такой представил Россию и три сословия, ее составляющих, Василий Перов на картине «Охотники на привале», написанной ровно через пять лет после «Тройки».
Три человека – дворянин (слева от зрителя), крестьянин (в центре) и мещанин (справа) – присели покурить и выпить после охоты. Эти типажи можно было бы также обозначить как «врун», «балбес» и «простофиля»: дворянин травит небылицы, мещанин, открыв рот и забыв зажечь сигарету, им слепо верит, а крестьянин сидит себе да посмеивается, почесывая за ухом, не особо даже вслушиваясь в рассказ.
Василий Перов. Охотники на привале. 1871, Государственная Третьяковская галерея, Москва
Как оказались вместе представители трех миров большой России?
Ответ на этот вопрос, как и разбор других несостыковок на картине, не столь важен, ведь перед нами не жанровая сценка, а ясная и очень точная аллегория России последней трети XIX века, три ипостаси русского народа. И сидят они посреди бескрайнего, унылого и тревожного болота, которое к ним неприветливо и даже враждебно, готовясь засосать их в любой момент, сто́ит им только разойтись в разные стороны. Что и случится, когда 34 года спустя, в революционном 1905-м, они окажутся по разные стороны баррикад, чтобы в страшном 1918-м убивать друг друга.
Но на картине Перова они еще вместе, посреди этого кошмарного своей унылостью болота, которое вполне можно назвать четвертым героем картины. И пока мещанин верит дворянину, а крестьянин добродушно почесывает за ухом, Россия стои́т.
Василий Перов – художник, тонко чувствующий настоящее и чутко улавливающий будущее, часто воспринимается как жанровый художник и борец с социальной несправедливостью. Но достаточно погрузиться в его картины на глубину, которой они заслуживают, как перед нами предстают пророческие тексты и визионерские образы.
50
Василий Григорьевич Перов (1833–1882) – русский живописец, первостепенная фигура реалистической школы второй половины XIX в., художник-передвижник, один из членов-учредителей Товарищества передвижных художественных выставок.