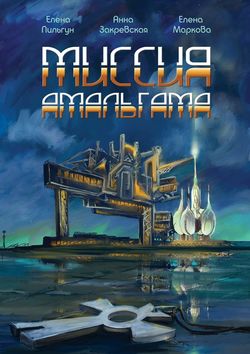Читать книгу Миссия Амальгама - Елена Пильгун, Анна Закревская - Страница 10
Глава 7
Оглавление– Кто-нибудь будет выдвигать обвинение? – тихий голос лингвиста-историка Насти Ветер мягким волчьим пледом окутал собравшийся в ее комнатке «научный сектор» и залетного борт-инженера Дамира.
Колыхнулись голографические карты настолки, превратившиеся вынужденно в «накроватку», и сделали оборот вокруг своей оси, до смешного напомнив игрокам рождественские гирлянды со светодиодами. Разместиться по-человечески в небольшой комнатке общежития Насти было попросту невозможно, поэтому хозяйке отвели почетное место в потрепанном компьютерном кресле, а Тимка Лапшин и Тошка Хлебников в живописных позах разделили узкий прямоугольник кровати. Дамиру, как случайно зашедшему на огонек, досталась циновка на полу, но у кавказца очевидно не хватило бы сил даже на протесты. Как говорится, «не очень-то и хотелось». Наоборот, было что-то необычайно приятное и легкое после бесконечного дня часов этак в восемнадцать вытянуться на твердом полу и смотреть на кружащиеся под потолком карты. Будто в планетарии. Наконец-то зритель, а не игрок… Хотя нет, игрок настолько, что уже даже по ночам время убиваешь в «Криминалиста».
– Я попробую, – выдал Дамир в пространство и закрыл глаза, силой мысли выдергивая карты из стройного ряда. – Улика – след на теле. Плюс убийство произошло «романтичным предметом», ночью, в не предназначенном для этого месте. Хотел бы я знать место, предназначенное для убийства, конечно…
– Застенки инквизиции, – подал голос Хлебников.
– Языческое капище, – быстро добавил Тимка Лапшин.
Слишком быстро.
Дамир выдохнул. Надоели игры. Нет, даже не так, – надоело напоминать самому себе, что это все игры, пляски смерти под режиссерским кнутом. Чтоб не заиграться. Не сорваться с нитки реальности…
– Я обвиняю Тимофея Лапшина, геолога миссии «Амальгама», что он убил свою жертву в неподходящем месте на борту «Харона», – голос Дамира громыхнул железом, – использовал он «романтичный предмет» – свою гитару, а след на теле – укус.
Тимка Лапшин обиженно взвыл, Хлебников рассмеялся, Настя хлопнула в ладоши.
– В десятку, Дамир.
И карты опали в темноту искрами петарды, взорвавшейся чуть глубже, чем грань раздела реальности и виртуальности. Дамир закрыл глаза и с бесконечно нежной улыбкой ловил прикосновение падающих сверху несуществующих искр. Технологии рванули так далеко, что специалисты-визуализаторы метапространства могли позволить себе почти любую шутку с пользовательскими ощущениями в рамках закона, а иногда – и за ними.
– Как… догадался?.. – сложно вычленить из возмущенной речи Лапшина алую ниточку смысла, задача под силу только анализатору обсценной лексики, что запикает всю эту красивую тираду в эфире. – У Хлебникова же вообще сачок для бабочек и царапины на теле!
«Я лучше представляю, как ты бьешь гитарой, чем как Хлебников душит сачком». Дамир сглотнул с языка ненужную остроту в духе Заневских и покосился на маленький красный огонек скрытой камеры чуть по диагонали от кровати. Под прицелом. Даже здесь. А воображение, получившее импульс, все-таки попыталось вообразить убивающего Лапшина и убивающего Хлебникова.
Один другого краше, святые предки. Лапшин – глиста в обмороке, тощий, кадык что птичий клюв, русые волосы, стянутые в бардовский хвостик. Вообразить себе, как этот дохляк с гречишными глазами закидывает свою гитару к потолку… Нет. Воистину невозможно. Хлебников – вообще цирк. Биолог такой биолог, совсем не Жак Паганель, скорее Санчо Панса от науки. Маленький, кругленький, рассеянный до жути… И с сачком. Душит. Пфффф.
– Направление голоса Насти, – сдал козыри Дамир. – И твой шорох, Тимка, когда ты ерзал и выбирал карты.
– Музыку надо включать с такими игроками, – прокомментировал Хлебников, но Настя уже свернула приложение на своем планшете.
Новая партия игры отменялась. Парни не протестовали – весь день и весь вечер Настя, светлая искорка в команде, держалась особняком и откровенно пряталась от камер, словно ее подменили на арктически-взрывную смесь юзу и водяных лилий, в один флакон статного историка с Вечностью в глазах вбросили львиную долю волчонка-Жени и недотроги-Риты. А сейчас либо она выгонит их взашей по своим каютам, либо расскажет причину. Лапшин прищурился в темноту. Дамир здесь явно лишний. При этом кавказце любая исповедь превратится в лезгинку на сковородке второго смысла. А потом будет рассказана Рите при очередной попытке «химического соединения» на алых простынях, ночном кошмаре капитана.
– Ну, наверно, пора баиньки, – Тимка показушно зевнул, осторожно толкая лежащего рядом биолога локтем в бок. – По домам нам все равно нельзя теперь, так хоть выспимся.
Хлебников, который понимал в человеческих отношениях чуть меньше, чем в геологии, предпочел промолчать. Сейчас люди разыграют очередную сценку, спрячут маски в сундуки и снова отправятся восвояси. Нет, он не был тупым и не страдал социофобией, но проведя полжизни в логике биогеоценоза и правил пищевой цепочки «волк ест зайца» и «волк не ест волка», врубиться в хитрости телевизионного дурдома было очень трудно. Недаром еще позавчера Порожняк привязался со своими подозрениями, что за Антона Хлебникова голосуют все самки богомолов на земле – стабильный рейтинг в середине списка без особых стараний. На вопрос «почему» Хлебников так и не ответил. Сам не знал.
– На том свете отоспимся, Тим, – отрешенный голос Дамира добавил в ночь каплю мрачной романтики. – Я никуда не спешу. А дом слишком далеко, чтобы туда бежать.
– А у кого-то и дома нет.
Мрачная романтика мигом трансформировалась в болотную гнильцу. Дамир приподнялся на локте, всматриваясь в тусклый силуэт сидящей в кресле Насти. Было в отпечатавшемся на сетчатке кадре что-то от знаменитого портрета Ахматовой, только в негативе. Белая Настина кожа в неверном свете из окна отчаянно напомнила Дамиру снег в горах, но ассоциативный ряд упорно не хотел сворачивать в родной аул. Перед ним была уже не Анастасия Ветер, историк и лингвист. Был призрак прошлого, сотканный из сизых болотных испарений чего-то, что не отболело по сию пору.
«Так отлетают темные души – я буду бредить, а ты не слушай29».
Но прошило этим скрипучим, как половица, и горьким, как первосортная безответная любовь, голосом не одного Дамира. Тимка Лапшин на импульсе стек с кровати, но дотронуться до белой безвольной руки не рискнул. Так и замер возле историка темной смущенной тенью.
А вот Тошка Хлебников, судорожно перебравший варианты собственного поведения, выдал в пространство не самое удачное:
– Ну у тебя же была квартира в Хамовниках…
В темноте кто-то сдавленно простонал сквозь зубы про «правду говорить легко и приятно», но болото уже всколыхнулось.
– Квартира. В Хамовниках. Есть. Только дом – это не там, где упадешь без вызова скорой. Не там, куда заваливаешься только переночевать. Не там, где мышь в холодильнике повесилась! – почти выкрикнула Настя, и тем страшнее был этот крик, не вязавшийся с замершим неподвижно телом. – Да я в институте своем прожила больше, чем… Сколько тебе лет, Антон?!
Вопрос был настолько внезапный, что биолог потерял дар речи. Но ответа никто и не ждал.
– Двадцать шесть, знаю. И все вроде хорошо, правда? Незачем в космос переться. Вся жизнь впереди… Женька у нас совсем малявка, двадцать и пара вишенок. Заневские постарше ее, вы все – погодки. Из стариков только капитан, Лис, Мессершмитт… – тирада оборвалась, – и я.
Цветной видеоряд под веками с прицельным зумом. Дамир, мельком напомнивший себе, что да, ему уже тридцать – все время забываешь, – мигом выцепил с лица Насти Ветер и паутинку морщин под глазами, и чуть дряблую кожу на шее, всегда закрытой платком. В принципе, у Риточки при ближайшем рассмотрении тоже все оказалось не первой свежести, но, святые предки, дело-то не в этом. И даже не в квартире в Хамовниках, наверно. А главный источник раздрая или в дне вчерашнем, или в дне завтрашнем.
– Что тебе сказал режиссер? – выстрелил наугад Дамир, вставая рядом с Лапшиным.
И вовремя, ибо Настю словно подорвало с кресла. Нечленораздельный рык завяз в крепкой сцепке из четырех мужских рук. В лицо Дамиру пахнуло алкоголем. Финиш. И где ж найти умудрилась в этой околокосмической дыре…
– На меня смотри, – встряхнул Дамир мечущуюся женщину, едва удерживаясь, чтоб не вцепиться ладонями в бледные щеки. – Говори. Что? От тебя? Хочет? Режиссер?
Дыша как зверь, погнанный на флажки, Настя смотрела Рамазанову в глаза, не замечая уже ни крепкой хватки Лапшина на собственных запястьях, ни мягкого воркования Хлебникова на границах слышимости. Переливчатая невнятность его говора без глубинного смысла была белым на черном фоне Дамировых вопросов и вытягивала, держала, не давала скатиться в истерику. «Может, биолог так и нерп своих заговаривал в ветклинике, когда их от мазута отмывали…» – тупая, но первая связная мысль стукнулась в Настиных висках и отскочила обратно в гулкую пропасть черепушки.
– Медосмотр. Не успел отснять. Завтра меня там… – выдавил скованный кривой судорогой рот, но слез не было. Не было их, черт побери. Сколько там она нашла этого медицинского спирта? Развела минералкой и к лешему все эти пляски в роли правильного лингвиста с идеальной репутацией.
Дамиру понадобился еще вагон наводящих вопросов, тележка смекалки, чтобы сложить паззл, и маленькая капля терпения, когда Лапшина с Хлебниковым уже не хватало на этот сумасшедший дом. Парни трижды подрывались идти «бить морду» режиссеру. Оставалось лишь благодарить киношников за недальновидность: они поставили в комнате Насти только камеру, да и то без инфракрасного модуля.
– Давай еще раз сначала, – тихо произнес Дамир, осторожно ведя рукой по спутавшимся кудрям женщины и машинально отмечая, какая пакля по сравнению с ними синяя шевелюра Риты. – Прошлый медосмотр ты каким-то образом закрыла на стороне. Киношники его вообще продолбали, ибо не знают, что мы по-настоящему… Ладно. Завтра он хочет видеть тебя одну у медиков. Почему именно тебя, Настя?..
– Это мое задание, – прошептала историк, чувствуя, как к горлу подкатывают долгожданные слезы. – Раздеться… перед камерами.
Лапшин и Хлебников едва сдержали снисходительный фырк, но для Ветер это было явно что-то из ряда вон. Дамир мысленно извинился перед небом, но плох тот борт-инженер, что жалеет винтик со сорванной резьбой.
– Что ты должна показать зрителям?
Молчание.
– Что им скажут, если ты не сделаешь этого?
Дрожь по телу. Разрядный ток, бегущий через каждую клетку. Я не знаю, что ты скрываешь, Настя, не знаю, почему у тебя сорвало самоконтроль, не знаю, чем могу заслужить твое доверие сейчас…
– Какую-нибудь порнуху придумают, «та, что любит пожестче», – выбила из себя Настя, каменея в Дамировых руках и отдавая тишине жалкую театральную паузу. – А это на самом деле… С детдома осталось.
«А у кого-то и дома нет»… Не при чем здесь Хамовники, ей-богу. А возраст оказался просто критерием отбора. Чем старше, тем сложнее отпустить прошлое и сказать «будь что будет, подыхать так с музыкой». Дамир вдруг рассмеялся, кожей почувствовав удар трех удивленно-возмущенных взглядов. А смех уже окопался в диафрагме. Нет, в нем не было превосходства человека, который уже битых три недели имитирует половой акт – один, затянувшийся такой, – с женщиной-мокрый-сон-миссии-Амальгама. Нет. Это просто последняя стометровка на выходе из лабиринта. Прекращение бега загнанной жертвы.
– А мы сейчас отрепетируем, – выдал Рамазанов и отступил на шаг. – Отойдите от нее, ребята. Тим, вот тебе изолента, знаешь ведь, если не можешь починить – ты использовал мало изоленты, а-аха… Сигай на стул и заклей глазок у камеры. Вон там, чуть по диагонали. Да. Ну что, Анастасия Павловна, жги!
– Ты охренел, – припечатал Лапшин, спрыгнувший со стула, но Настя уже крутнулась на каблуках, встав спиной к зрителям и мерцанию Москвы-2 за окном.
Игры кончились.
– Свет!
Ты закрываешь глаза. Полыхает холодным ртутным какое-то мраморно-зеркальное помещение. Допустим, м-м-м… Томограф. Или операционная. Или кабинет дообследования с неприличным количеством инквизиторских приборов в шкафах. Неважно. Секунды – каждая, как последняя сороковая миля. Ждут. Шприцы ждут. Ждут металлические окуляры. Ждут люди в белых халатах.
– Камера!
Ничего не значащая болтовня, что воркование биолога. Запах спирта – зарекаюсь эту гадость пить больше. Финальный аккорд: «Раздевайтесь, проходите!» И режиссерская ухмылочка, когда он баюкает в правой руке…
– Мотор!
Разрывающий барабанные перепонки хруст молнии на куртке. Рывок. Рукава, которые никак не хотят быть ненужными, заламывают назад руки, но картина неполная. Еще пара секунд. Освободившиеся ладони рвут с тела милую футболку цвета небесной лазури… Ты не носишь нижнее белье, не придумали еще такого на размер «А-минус-один». Зато в легких уже формалин, а под тусклым светом ночи и ртутных ламп стремительно приближающегося завтра полыхает шрам, что тянется через всю спину.
В руке режиссера кнут. Не тот, который был у воспитателя в детдоме, да и бил наискось, с оттяжкой, до мяса, тогда не он. Обывательская масса поверит, конечно, в БДСМ и грязное прошлое Насти – они просто не знают, что любимых, даже очень своеобразно любимых так не бьют.
– Снимешь – они просто будут гадать, – шепчет Настя слова режиссера, и судорога прошивает обнаженное тело навылет, – не снимешь – узнают то, что мне вздумается, а фантазия у меня, сама знаешь, ого-го… И какая тебе потом лингвистика, если для публики Настенька станет всего-то внештатницей-развратницей…
Прижимается к спине ткань сорванной футболки, но даже через нее тепло Дамира пробирается к заледеневшему сердцу, пропускающему удар за ударом. Все молчат, но приказ темноты однозначен.
Говори. Говори, пока можешь.
А хочешь – кричи, если так легче.
– А теперь ты представь, что всё это было зря… даже самые пессимисты не в корень зрят. Пр-р-р-росыпается новый день, догор-рит заря, только новой уже не будет, не будет, вовек не будет…30
***
Оставшись в одиноком пространстве узкой каюты, Антон снял рубашку, вздрогнув от свежих воспоминаний о репетиции Настиного стриптиза, скинул ботинки и встал на весы. Тонкая сенсорная панель едва заметно прогнулась под весом биолога, словно размышляя, выдать ему правдивый или утешающий вариант ответа, и Тоха вновь вернулся мыслями к той, с кем он проработал бок о бок пять институтских лет. Воображение парня, воспитанного в атмосфере нежной и бережной родительской любви, отказывало напрочь при попытке вообразить, за что жестокий воспитатель мог отлупить кнутом светловолосого ангела с милыми ямочками на щеках, которым была рождена Анастасия Ветер.
Весы пискнули придавленным ополовником и выдали результат. Минус полтора кило, однако. Даже с поправкой на ухищрения типа задержки дыхания результат можно признать статистически значимым…
Сплюнув в сторону кандидатской и помножив на ноль все индексы цитирования вместе с высоконаучной терминологией, биолог покинул площадку весов. Ну, хоть какой-то прок во всем этом есть для тебя, пай-ботан, спокойно и без борьбы шагнувший из прянично-кружевного мирка интеллигентной семьи прямиком в чистые и гулкие коридоры академической науки.
Давай уже Истину, товарищ Хлебников. Пороху ты не нюхал. Огонь и воду, как Лисов, не проходил. Жизнь рогом изобилия, как у богатеньких спиногрызов, не была, но и не била она тебя, Тоха. Берегла, как консерву в холодильнике. А это значит – не жил ты совсем. И, пока твои сверстники набивали синяки, взлетая под облака на скейтах, и отчаянно целовались по подъездам, ты читал о том, почему кожа от удара становится фиолетово-желтой и о том, какие инфекции могут передаваться половым путем.
По-хорошему, в проекте тебя быть вообще не должно, но ты случайно вперся в кабинет, когда Орлов беседовал там с Настей и Тимкой. И тихий ультиматум Настиного «вы берёте нас втроём, капитан, или я отказываюсь участвовать» ты не забудешь никогда. Но если геологу, который при любой возможности готов был рвануть куда-нибудь, где ещё не ступала его нога, сама судьба подкинула козырного туза, то тебя-то, Тоха, какая пиявка в афедрон тяпнула, что ты толкнул перед Орловым такую пламенную телегу о своем желании участвовать в проекте, какой от тебя не услышал даже ученый совет на защите пресловутого диссера?
Так было в твоей жизни лишь единственный раз. Поезд «Москва-Казань», первая самостоятельная поездка на какой-то фестиваль юных гениев. Ты страшно опаздывал, но с боем взял стометровку платформы и запрыгнул в вагон уже на малом ходу, оттолкнув проводницу, которая не хотела пускать тебя без билета. Был билет, был ведь, как положено, только оказался упрятан мамой от риска «а вдруг потеряешь» в самый дальний угол сумки. Просто вдруг не оказалось времени на жизнь по линеечке, просто ты дал себе право догнать мечту. И на ту жалкую минуту зашкала пульса и гонки с ветром ты смог стать настоящим.
Билет все еще при тебе, Антон, жжет под ребрами, ждет своего рейса. Быть может, уже дождался.
***
Похмелье от медицинского спирта накатывало тошнотворными волнами, укачивало Настю в сизых объятиях. Хорошо, что хоть в туалетах не догадались поставить камеры, иначе на всю страну сейчас светилось бы ее измученное лицо, обрамленное водорослями волос, склонившееся над унитазом. Идея Дамира показалась бы ей негуманной в любой другой ситуации, но несколько часов назад именно эта репетиция проклятого медосмотра стала ее, Настиным, спасением. Боль разделенная теряет градус, как теряет градус и смысл алкоголь, распадаясь в организме и выходя наружу царапающей горло жидкостью.
Настя добрела до своей кровати и рухнула лицом в подушку, провалилась в ватный похмельный сон.
Она сидела у костра на поляне и слушала, как весело потрескивает хворост и пляшет необычное пламя с лиловатым оттенком. Лес вокруг, но пахло в этом лесу незнакомо, странно и чуточку пугающе. И на темном полотне неба над головой растянулись чужие созвездия, нет их ни на карте Северного, ни на карте Южного полушарий.
Куча меховых шкур рядом с Настей зашевелилась, из нее высунулась вполне себе человеческая рука, схватила палку и подпихнула к костру выкатившиеся головни. Вслед за рукой вынырнула и голова, пронзительные черные глаза уставились на историка. И, словно продолжая некогда начатый разговор, из недр меховой кучи зазвучал глухой голос – то ли мужской, то ли женский – не разобрать…
– Ждут боги явные, когда боги небесные придут и разбудят Изгнанницу. Окружат ее заботой и покровительством своим. Бог темный с сердцем хрустальным да бог светлый с сердцем горячим, с ними человек-зерно да сосуд неприкаянный, Изгнанницу ожидающий.
Настя не перебивала шамана, силясь понять, где она оказалась и почему ей все это говорят. А тот повернул лицо к огню, и стало понятно, что это все же мужчина с глубоко посаженными темными глазами, острым птичьим носиком и давно немытым лицом.
– Слушай, дитя. Слушай и запоминай, храни знание, тебе не привыкать. И запомни – к тебе пойдут они за знаками, за помощью, протяни им руки навстречу и открой сердце, как сделали для тебя друзья, – Настя не поняла, как шаман успел оказаться на ногах и как ее щеки оказались в его горячих ладонях. – Не бойся ничего. Они чувствуют в тебе правду и поверят, когда ты озвучишь ее.
– Что вы от меня хотите? Какая правда? Кому и что я должна сказать?
По непредсказуемой логике сна поляна завертелась перед глазами, как клятая центрифуга, и Настя услышала тающий вдали глухой голос: «Вспомнишь. Почуешь их. Вспомнишь…”, – и проснулась от трезвона будильника в своей постели на липкой, насквозь пропитавшейся потом простыне…
***
– Ты будешь хотеть меня, орел ты драный, – шепот Риты ввинчивается в ухо и сопровождается очередной порцией свежих царапин на голой спине.
– Аааргх, – приходится стонать и изображать страсть, но выходит неубедительно.
Как он только мог хотеть эту холодную целлулоидную куклу в самом начале подготовки к полету?
– Давай, шевелись. Если не будешь стараться, режиссер быстро найдет более горячего парня, а ты вылетишь отсюда пробкой, – Рита никак не успокоится, ее самолюбие задето сегодняшней инертностью Дамира.
Играть героя-любовника под прицелами камер, на глазах Орлова и режиссера оказалось невыносимо. Сначала Дамир посмеялся, когда ему предложили эту роль и согласился без колебаний. Думал, будет легко. Думал, опрокинет красотку пару раз и гордо удалится, и все будут довольны. Ан нет – Пурге страсти подавай, Рите – удовлетворение, а себе самому – чистую совесть…
И эта совесть вставала каждый раз алой пеленой перед глазами, когда Дамир входил в покои навстречу пурпурным шелкам, черному пеньюару и неестественной, хищной улыбке Риты. Совесть. Память. Эти два слова отменяли действие любой виагры, заботливо подсыпанной медичкой в бокал красного. И вставало перед глазами милое лицо с глазами лани, пушистыми ресницами, доброй улыбкой. Альфия.
Ты ведь свататься к ней хотел, приехал из столицы с деньгами и пошел к отцу с новостью – мол, хозяйку в дом берем, собирайся, пойдем договариваться о выкупе. Да отец взглянул на тебя печально и сказал, как припечатал:
– Опоздал ты. Сговорили Альфию в прошлом году за богача в Горячий Ключ.
– Как? Дай мне адрес, поеду к ней… – сердце горячее билось в ребра, отказывалось верить. – Поговорю с ее мужем.
– Сын, – рука отца на плече тяжела, как камень. – Некуда тебе ехать, остынь, говорю. Ко вдовцу поедешь рану бередить.
– Так она… – голос оставил тебя, и ты мог только дышать да смотреть в пол.
– Бросилась она с моста в реку наутро после свадьбы, даже записки не оставила. Похоронили здесь, на горе. На могиле черешню молодую посадили.
Все видят, все прощают тебе глаза мертвой возлюбленной, да не можешь ты сам себе простить этот цирк с нелюбимой на камеру, хоть и выкупаешь так свою свободу. Стисни зубы. Расслабься. Позволь умелым рукам ласкать тебя и улыбнись Рите в ответ. Может, не вылетишь так скоро…
***
Потерпев неудачу в попытках слепить устойчивое химическое соединение из Дамира и Риты, режиссер переключился на тех, у кого, кажется, всё получилось само собой. Оставалось только выбрать ракурс и… не мешать. Орлов, вместе с Лисовым опиравшийся на перила на антресоли реактора, беззвучно рассмеялся. Само собой, как же. Только этой ночью двое «отстающих» – Женя Симань и Никита Лосев, безнадежно последние в рейтинге реалити-шоу «Амальгама» и первые кандидаты на вылет из проекта, сидели в комнатке Орлова на последнем этаже общежития космогородка и внимали прочувствованной речи о важности их участия в экспедиции. Внимали с кислыми лицами и скептицизмом в изломанных линиях бровей. И Орлов вполне отдавал себе отчет, что если бы не Лисов, вдруг на полуслове оборвавший очередную торжественную тираду, – нечего режиссеру было бы снимать сейчас.
– Что ты хочешь от них? От девчонки, которой никто в жизни не сказал, что она красивая, и от парня, который, судя по прыщам на подбородке, целовался только один раз в школьном туалете, и то на спор?
Грубо? Да. Но сразу куда-то подевался высосанный из пальца, а оттого еще более фальшивый романтический налет в сценарии для двух белых ворон. И все перешли на уровень конкретных действий. Даже под шутки-смех двух стариков ребятня отрепетировала пару поцелуев.
Но спрашивать и интересоваться глубиной истинных чувств уже нет времени. «Я – твой вечный дедлайн», как однажды верно заметил Оникс, выползая из ночной центрифуги.
– Женя, ты стоишь к камере спиной, – приказ режиссера, отрывистый и громкий, родил эхо под потолком реакторного отсека. – Ну там, делай что-нибудь за своей установкой… На счет «три» оборачиваешься, потому что кто-то вломился в реакторный отсек и надо бы его выгнать. Никита, на счет «три» протягиваешь розу. Женя, у тебя пять секунд, чтобы сменить гнев на милость и принять подарок. Камера…
Мишка Пурга, стоящий в темноте за плечом кибернетика, молча кивнул. Второй оператор скрылся за приборной панелью.
– Мотор!
Прищурившись на показания приборов, Женя нарочито медленно переключилась с режима отображения температуры в цельсиях на фаренгейты. Воспоминания о ночном разговоре в комнате капитана кольнули под сердцем. Да, с показухой у специалиста по фотонной тяге всегда были нелады, даже поцелуй какой-то совсем неумелый получился. Вот если бы ей дали хоть какую-то мало-мальски стоящую задачку – не пришлось бы корчить глубокомысленную рожу, если б не твердили с детства «кому ты такая уродина, да еще с таким характером, нужна будешь» – целовала бы парней до остановки сердца, а так…
Шорох раздвигающихся лепестков гермодвери заставил девушку еле заметно вздрогнуть. Сведя для приличия тонкие брови, Женя резко развернулась и шагнула к свежеиспечённому Ромео, прикидывая, как бы поубедительней его вытолкать, но парень внезапно протянул ей большущую синюю розу.
– За пропуск сойдет, товарищ Си…
Оглушительно грохнула тяжелая гермодверь, стальными челюстями зажав руку Никиты.
Отчаянно завопила Женя, царапая заклинившие створки.
Опали на пол синие лепестки, залитые кровью кибернетика Лосева.
«Дверь. Открыть дверь. Открыть…» – отчаянным нордом свистело в голове Женьки, пока трясущиеся пальцы, выпачканные в чужой крови, загоняли в импланты карту беспроводного доступа. Ну же, ну пожалуйста, быстрее! Подключение к системе безопасности. К черту авторизацию. К черту крики о том, что надо позвать Оникса, надо позвать Риту, надо ребят покрепче, Дамира с Порожняком найдите… Внаглую проскочив через огонь фаерволла, Симань ныряет в лабиринт Минотавра, накрученный каким-то программистом-неумехой. Блокировка на блокировке, коды допуска – в кучу, и отчаянно не хватает времени на поиск той-самой-двери. А в реальности грохот подошв по лесенке реактора – спускаются на грешную землю капитан и врач, шум, в темноте за стальными челюстями «Харона» кричит Лосев, и кто-то скрипит зубами, сдерживая смыкающиеся створки.
Не можешь выбрать – не выбирай.
Открыть. Все. Двери.
Свободен.
– Медотсек «Харона»! Быстро!
Крик Валерия Лисова вывел всех из ступора, который стал неизбежен, когда в коридоре к реакторному отсеку включили свет. Толпа из членов съемочной группы и команды «Харона» отшатнулась и застыла. Рука, почти оторванная от тела. На мелкие осколки разбитый локоть. И кровь: из распоротых вен, из прикушенных губ, из имплантов, очевидно не выдержавших импульса болевого шока.
– Но, Валер… – Орлову, растеряно замершему над раздавленным кибертехником, очень хотелось назвать хирурга еще и по отчеству, так хищно и командно выглядел сейчас старый врач.
– До больницы не довезем, потеряем парня, – тихо выплюнул сквозь зубы Лисов, и уже громко, – Рита! Дамир! Ивашин! В ассистенты! Найдите Мессера!
– Ааа… эээ… Крупный план! – до режиссера, кажется, дошло, что к нему в руки «само собой» попало нечто выдающееся.
Выберем лучший ракурс? Почти все равно какой, ибо боль прекрасна. Боль, настоящая, хрипящая, достойна десятикратного зума и грифа в 18+. Мишка до одеревенения напряг мышцы, удерживая под невозможным углом камеру, сохраняющую на матрице сейчас белые от усилия пальцы Дамира, зажимающего артерии у плеча Лосева. Все живут ради боли. Одни ее приносят, и им это нравится. Другие эту боль лечат, и им это нравится. Третьи ее хранят, и им…
[А Михаил Пурга ее снимает, потому что не взяли спецкором в выпуски новостей. и ему это нра…]
– Простите, я нечаянно, – оскалился Лисов, резким движением поднявшийся с колен и плечом сбивший прицел Мишкиной камеры. Мишка мотнул головой – мол, припомню тебе еще, – а врач, вынырнувший из толпы, что-то отчаянно искал, но взгляду не за что было зацепиться в гладком реакторном отсеке. Железо. Спектролит. Заклепки кожуха, и все не то, не так.
– Это ищешь? – голос Мессера, до неприличия спокойный, будто у него на руках уже сотня таких Никит Лосевых сдохла, подорвал врача похлеще той единственной дороги в Чечне, где все русские совершенно случайно ловят фугасы под днищем своих авто. А Мессер стоял в пяти шагах, прямой, даже светлый какой-то и… с мантией из хромакея через плечо.
Остальное было уже делом техники. Под вопли режиссера о порче имущества киностудии зеленое семиметровое полотнище, на три долгих дня пропавшее в чертогах Риты Лебедянской, свернули в некое подобие носилок. Лисов даже удивиться забыл, на чем он еще только раненых не вытаскивал, разве что волчья шкура осталась за бортом. А в голове уже крутились обрывки жесткого разговора. Разговора, который он то ли предвидит, то ли программирует на него сейчас реальность.
«Ну вот тебе, матушка, и Юрьев день, то есть ночь», – тупо подумал капитан, втискиваясь с носилками и наскоро образованной медицинской командой в грузовой лифт. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Вот она, проблема. «Харон», лодочник треклятый, моего новобранца на другой берег забрать решил?!
И сейчас все это снимает жучок в потолке. А в нем же датчик на звук и анализатор эмоций… Хрип Лосева, лося раненного, снова порвал душу и барабанные перепонки. Хотел настоящую команду, да? Ну так вот и команда, и корабль, и первые потери… Капитан быстро глянул на соседей. И первые открытия тоже.
Рита склонилась над разбитым в хлам парнем, тонкими пальцами сжимая запястье на уцелевшей руке. Кажется, она звала его все время, пока, натужно скрипя, лифт полз вверх по течению Харона. И куда, спрашивается, делась баба-позерша, виляющая всеми извилинами, даже той прямой пониже пояса, на любом занятии – от экзамена до подводной тренировки?
А вот господин Мессер, лишь мельком осмотревший спаленные Лосевские импланты, куда больше интересовался Ритой. Темные глаза его полыхали огнем джихада, прожигая женскую спину до состояния сыра Эмменталь. В памяти Орлова всплыла фраза из режиссерского досье: «Мессер. Смерть в лаборатории. Странное стечение обстоятельств…”. Интуиция завопила благим матом, что надо бы другого нейрофизиолога, но лифт, слабо пискнув, уже распахнул двери.
Дамир, Лисов и Ивашин с трудом выволокли покрывало с Лосевым из лифтовой кабины. Орлов, в руке которого трещало зеленое полотно, выполз из лифта последним, стараясь как можно меньше тревожить правую часть Никиты, которая ему впопыхах и досталась. За спиной топтались Рита и Мессер.
– Мы снова у одного операционного стола, Марго, – свистящий шепот Льва Виссарионовича был холоднее силикагеля. – И на этот раз не подведи меня…
Орлов закаменел спиной. Рита молчала.
А двери медотсека уже были распахнуты – не вошедшие в санвзвод члены команды поднялись на верхний уровень быстрее грузового лифта и сделали все, на что хватило смелости: то есть открыли двери, вытащили из шкафов все инструменты, запустили антисептическую установку и разбудили киберврача. Лисов громко выдохнул. Все эти экзамены и тренировки не прошли даром. Конечно, зашить парня смогут только он, Рита и Мессер, да и то вряд ли поодиночке, но зато ассистентов хоть отбавляй…
Сглазил. Ивашин, который в лифте принял все возможные оттенки хромакея, все-таки нагнал собственную панику. Его ощутимо качнуло влево. Руки подвели, дрогнули носилки, и Никита сдавленно охнул.
– Пппростите… – выдавил из себя Ивашин, но Лисов уже не слушал.
Вот тебе и тренировки. Искусственная кровь и манекены.
– Слава, Ян, замените Ивашина и капитана.
От толпы отделились две тени, Ивашина увели куда-то за угол. Орлов, оставленный тупой галькой на берегу, свербил взглядом стенку медотсека, избегая смотреть на Никиту. А Лисов явно медлил, словно чего-то ему не хватало, чего-то он ждал, на что-то не мог решиться. Рита мелькнула на границе обзора в снежно-белом, Мессер уже вовсю гремел стеклом, подбирая анестезию. Даже Никита как-то стих, уходя все ближе к грани между жизнью и не-жизнью.
Секунды текли слишком медленно, и Орлов тратил их бестолково. Просто смотрел, как Лисов натягивает на руки перчатки. Палец за пальцем, священнодейственно, будто это чайная церемония. И во всем виноват капитан. «Капитан виноват всегда», говорили на кафедре. И главная его сила… В мозгах вдруг что-то заклинило, словно забылась главная фраза, но нет. Не забылась. Изменилась. «Главная его сила в том, чтобы принять ответственность за других».
В этом же его проклятие.
– Слушай меня, – перчатки вдруг оказались очень близко. – Слушай, Евгений Сергеевич Орлов, и запоминай. Дома будешь себя пинать. Запрешься от всех в туалете и пинай себя сколько влезет. А сейчас ты идёшь к продюсерам и меняешь баш на баш. Они достают нам протез с автоподстройкой под пациента и новые импланты. А я разрешаю им снимать операцию. Со светом, хлопушками и не скрытыми камерами.
– Но никто ради нас смету съёмок переделывать не будет, – нервно скривился Орлов, теряя последнюю почву под ногами. – Ставлю капитанский значок против всей «Амальгамы».
– Тогда скажи им, что мы все уйдем из проекта.
[Мы, конечно, не уйдем, но выбор есть всегда].
За дверьми медблока Женю уже держали в четыре руки геолог и биолог, не давая рыжей заполошной птице приблизиться к окровавленным простыням и телу Никиты под красным сканированием киберврача.
Пристальный взгляд Тимофея Лапшина – мол, не будешь творить глупостей, обещаешь ждать в коридоре? Молчаливый ответ травяной Женькиной зелени – обещаю. Тим кивнул и отправился в рубку, а девушка медленно сползла по холодной ребристой стене и обняла себя руками.
Она должна была совершить невозможное. Мгновенно разогнуть створки дверей силой мысли, по наитию сразу же найти нужный код допуска… И крики. Крики Никиты всегда будут эхом отдаваться у нее в голове в такой кромешной тишине, как сейчас, и ничем их не заглушить.
– Женька? – раздался над головой тихий голос Зосимова. – Что там у них сейчас?
Девушка пожала плечами и вновь уронила голову на руки. Ещё не хватало, чтобы этот физик-клирик сейчас увидел её заплаканную рожу и начал читать нравоучения пополам с молитвами о здравии…
– В общем, если ты тут будешь, поймай капитана или Мессера, очень тебя прошу. Скажи, что я отчалил за нейропротезом, чем быстрей поставим, тем лучше.
– Но… э-э… – у Жени никак не получалось связать в одной фразе резонный вопрос «откуда ты нейропротез возьмёшь?» и откровенное удивление тем фактом, что за установку ратует не кто-нибудь, а истинно верующий возрожденец, который, по всем канонам, не должен идти поперёк свершившейся божьей воли, да ещё и использовать при этом мракобесные порождения технического прогресса.
– Протез чистый, знакомые из хосписа продают почти за бесценок, – пояснил Димка. – Ликвидация у них. Может, судьба, что я сегодня утром об этом узнал. Пути господни всяко неисповедимы, но тупиками они не заканчиваются, а если закончились, то бес попутал, не иначе…
Тряхнув изрядно отросшими за год послушания волосами, физик взял первую космическую и исчез за углом, вновь оставив Женю бегать загнанной белкой в кругу собственных мыслей.
Зачем она согласилась на откровенно дурацкую затею с влюбленными неудачниками? А теперь розы-мимозы и романтика у двигателя обернулись для Никиты трагедией. Кибернетик без руки… Вот что бы ты, рыжая, делала, если бы это твоя рука превратилась в кровавое месиво? Ты и так никому не нужна со всеми целыми конечностями, а инвалидом – даже с современным протезом – тем более. Жалость к Никите захлестывала до макушки, лилась горькими слезами по щекам. Жалость, не любовь – на этой закваске могло бы возникнуть дружеское тепло, но для чего-то большего надо быть другим человеком. Все слишком усложнилось.
Если этому болвану режиссеру придет в голову разыграть любовь, основанную на жалости, пусть сам ее и играет. Невозможно так лгать себе. Камеры, может, и не заметят игру, публика, может, и съест остросоциальный кусочек и попросит добавки. Но как жить, каждую секунду предавая себя, объясняя, как маленькой, что это всего лишь цена свободы, Женя представить себе не могла. И так и сидела поникшим пламенем в коридоре у медотсека, пока двери не открылись бесшумно и не показались по одному усталые врачи и их помощники. За их спинами на койке застыл бледный как мел Никита.
– Иди отдохни, – горячая ладонь Дамира на плече. – Он поправится, а ты не ешь себя. Совсем серая стала, как стенка.
– Сначала… увидеть его.
Болезненное, невысказанное вслух «зачем сейчас?» застыло темной смоляной каплей на дне зрачков кавказца. Женю никто не остановил, когда она подошла совсем близко к Никите, спящему тяжелым наркотическим сном.
Можно было сотню раз повторить себе, что ничьей вины в случившемся нет, что «оно само», только вот колени подвели, и Женя медленно осела на пол, взяв раненого кибертехника за оставшуюся руку.
А за спиной у девчонки поднимали голову надоедливые призраки родителей, шепча набившее оскомину «сидела бы дома, ничего бы не случилось».
Да, это она со своей дурацкой жаждой свободы виновата во всем. Хочешь свободы – не привязывайся ни к кому, иначе угробишь и себя, и того, кто стал тебе близок.
И срывается с побледневших Жениных губ короткое:
– Прости…
29
Анна Ахматова
30
Дарина Stark