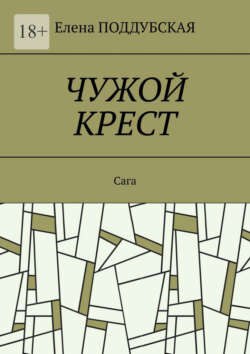Читать книгу Чужой крест. Сага - Елена Поддубская - Страница 11
9. Россия. 1542—1569. Владимир Старицкий
ОглавлениеПуть бывшего кузнеца Владимира домой был долог из-за внезапной болезни Ирины. Отвыкнув от холодных зим, в Киеве женщина сильно простыла и слегла. Священник из Печорской лавры, имя которого называл мулла в Константинополе, схоронив у себя на время кресты, поселил путников в своём доме и посоветовал переждать зиму. Однако ждать молодожёнам пришлось больше года; Ирина слишком ослабшая, вряд ли выдержала бы путь. Владимир не торопился вернуться в родной город ещё и потому, что всё это время присматривался к родичам. И чем больше видел, тем меньше принимал. В Константинополе на улицах приветствовали друг друга даже малознакомые люди, и каждый желал при встрече здоровья Аллаху, тебе и твоим ближним, приглашал войти в дом, делился с гостем куском. В Малороссии и на Руси даже соседи были часто молчаливы и неулыбчивы, избы людей открывались для чужих и даже своих лишь в дни родин или похорон, за стол пришлых не усаживали.
Весной 1942 года Владимир и Ирина всё же добрались до Опочки. Почти двадцать лет мужчина не был на родине, но город мало изменился за это время. Дом брата он нашёл всё на той же пристани. За годы Николай стал знатным купцом. Не сразу признал он Владимира: когда-то тот был высоким, теперь стал ещё и могучим. Половину лица его скрывала отныне светлая борода, как и полагалось почтенным мужам, кудри спускались до плеч, широкие кисти рук, как якоря, выпадали из рукавов дорогой накидки.
– Здоров будь, хозяин! – прорычал путник, непривычно складывая рот. До сих пор им с женой привычнее было говорить на турецком.
– Ты ли, брат? – удивился Николай, не торопясь распахнуть объятия. Прошло семь лет, с тех пор как Владимир, некогда кузнец из Опочки, вернулся из Константинополя на родину. Дом, где они жили когда-то с братом, сгорел в городском пожарище, и Николай перебрался в бывшую кузню на берегу реки, ближе к порту, а значит к воде. На этом месте он заново отстроил избу, не большую-не малую, как раз в пору ему и жене. Более пяти лет брака с полячкой, пленённой кем-то из проходящих через Опочку воевод, да брошенной из-за немощи, потомством не порадовали.
– Я, – коротко ответил бывший кузнец, удивляясь, что его держат на пороге.
– Значит, здравствуй! Кто это с тобой? – кивнул он за спину брату. Владимир обернулся, вывел на показ жену:
– Ирина. Знакомься.
– Жена или девка?
– Жена. Мне её сосватал сам падишах Сулейман, да будут благословенны его дни! – он обмыл руками лицо.
Николай словно очнулся:
– Так проходите же в избу! Вы, небось, устали?
– Полтора года в пути.
– Почему так долго?
– Ты про то вот так сразу знать желаешь? – впервые показал характер младший брат. Старший засуетился, кликнул супругу.
– Алиция, собери на стол! – шумнул он. Женщина, недовольная нагрянувшими незнакомцами, пробурчала:
– Нэчем потшэват. Только молоко йешт и каша.
Муж оглянулся, вскинул бровь:
– Я что тебе сказал? Брат это мой. Единоутробный. Из Царь-города прибыл. Иди за петухом, пировать будем.
Владимир, ощутив себя неловко, остановил:
– Не нужно, Николай. Хватит нам молока и каши. Баню ещё бы истопить, помыться с дороги перед вечерней зарёй.
Но брат уже доставал хлебосол: не просто так на плачах меньшого висела ладная кожаная кацавейка, расшитая шелками, а ноги его всунуты в ладные чёрные сапожки. Николай сам бы от таких не отказался. «Вот только не возьмёшь тряпьём плату за постой, так как всё одно не по размеру бобру наряды медвежьи. Поэтому лучше пока не зариться на чужое, принять братца с почестями и благостями. А там посмотрим решил он втайне.
Тем же вечером, помывшись и помолившись уходящей заре, Владимир и Ирина напросились жить не в доме, а в бане. Шёл апрель, ночи были не студёные. Да и взгляд свояченицы, как чёрное мыло с абрикосовой пудрой, сдирал кожу. Не по нраву пришёлся Алиции вечерний намаз гостей. «Кто из местных увидит, как падают ненужные родственники на землю и молятся Аллаху, ещё и дом подпалит. Мало ли люду досталось от подлости половецких и ногайских племён. Османцы – ничем их не лучше».
– Зря ты так про них, – остудил брата Владимир за то, что тот назвал его неверным: – Это здесь продадут и правду, и совесть. Восточные люди веру чтят и людей любят.
– Не знаю. По мне так лучше бы тебе крест носить и ходить по выходным в церковь, чем падать ниц за чужого бога.
– Бог для каждого один и в душе. А крест я ношу, – Владимир вынул из-под рубахи нательный знак и ладанку.
– Дивно пахнет. Сам ковал? – кивнул Николай на подвеску с маслом опопанакса. Разглядев, он попросил сделать такую же его жене.
– Сделаю. Только не теперь. Сначала мне нужно выполнить поручение Сулеймана, – ответил Владимир, но уже через время пожалел: взгляд, каким сожрал молдавские кресты его брат, хорошего не сулил.
За ужином женщины не перемолвились и пол словом. После кваса Николай стал добрее и попросил рассказать про далёкую восточную сторону, богатую и щедрую не только климатом. Он, по причине боязни большой воды, мало где бывал, но слышал от пришлых, что есть чему там поучиться славянским людям. Владимир, не торопясь, повёл беседу про красоты и обычаи османцев. Кроме Константинополя он ездил в Турции в Амасью, родину детей султана, где воспитывали и готовили к службе будущих наследников – шехзаде. Старинный городок широко простирался по скалистым холмам, в нём мирно текла река, отделяя изгибами понтийские деревни – кварталы, где жили представители какой-то одной национальности, дома утопали среди яблоневых и вишнёвых садов. Пение муэдзинов будило люд по утрам и напоминало о времени молитвы не раз в день. Многонациональный говор слышался на базарах. Муллы, имамы и муфтии уважали атрибуты всякого вероисповедания. Городские судьи кади брали налог только с торговцев, а за равные провинности одинаково судили армян и османцев, персов и грузин, боснийцев и курдов. В русских городах улицы, даже каменные, были грязны, дома перекошены и без дворов, сады сажали лишь в богатых усадьбах, да и то не все, звон колоколов радовал только в праздники, в будни он казался тревожным. Иноземцы на Руси не уживались, так как даже свои меж собой здесь не ладили. В церковь люди ежедневно не ходили. Наперстные кресты разрешалось носить только монахам и знатным. Налог уездным дьякам платили с души, суды решали судьбы не по закону, а по усмотрению. Всю жизнь проживши на реке, опочкинские мужики нищими ходили, как в приречье, куда ни товары, ни рыба не доплывут. Беднота людская прыскала в глаза, как тороченная молью шерсть, вызывая у приезжего недоумение.
– Про тех, кто торгует рыбий клей и икру я могу разуметь, им таможня не спускает. Но пошто, скажи, брат, царь обложил налогом ревень, если он сорняк и плетни подпирает в рост с лебедой? Ладно поташ, он для пороха недругам не нужен, и леса под него жгут, не щадя, но кисель и пироги чем народ не заслужил? – спрашивал Владимир у Николая. Тот, торгуя, в том числе и перечисленным, перхал в усы и зевал, широко разиня рот:
– Я, чай кумекаю, что царь, пещась о благополучии своём, про народ забыл.
– Пошто? Ведь не истинный он ворог Руси?
– Ха-хе… Как знать, что тут за нужда? Даст своим пожить, чужие тоже захотят. Нас и без доброй жизни германцы одолевают набегами: – рука брата спускалась к одной из ледвей оттянуть её для прохода наружу нутряного воздуха, что набрался в пузе после сытного горохового обеда. Подпустив так, что самому из избы хотелось прочь, Николай закруглял разговор: – Ты как не наш: испокон и издревле доходы питейные да соляные принадлежать казне.
Взяв пару холстов, что шли заместо простынь, шёл он на полати. Один стелил под себя, другим накрывался, стягивал портки и совсем от души пердел и кряхтел, засыпая.
Владимир покидал дом, но крутился на банной лавке всю ночь, несогласный с братом никак. Кроме беспорядков, цеплялся взгляд его и за одежды славян – холщовые, льняные, шерстяные. Красок в повседневной робе было мало, обувь – лапти или валенки – уродовали ногу, особенно женскую. От славянской еды он и жена отвыкли тоже: вместо отварной курицы или куска мяса на вертеле им хотелось бы непризнанных у восточных славян парной пшеничной крупы и молотого мяса. Свинину есть гости отказались наотрез. Брюква и репа, гречневая каша и гороховый кисель, ржаной хлеб и кислый квас вызвали у них тяжесть в животе и понос.
На третий день бывший кузнец решил ехать в Старицу. Жир на боках брата затопил и его доброе сердце, и светлый ум. Некогда пронырливый служака порта, теперь Владимира судил и поучал торговец, разжившийся, в том числе, и на восточных товарах от молдаванина Стефана. Да и Ирина вряд ли сойдётся Алицией. Одна – утончённая песнями и благами гарема, другая – надсаженная насилием панов и бояр. Эту разницу не перешагнуть. Как не поставить пока себе дом. Чтобы заработать на стройку придётся браться за прежнее ремесло. Николай эти мысли ох как поддерживал: кресты и украшения для Опочки баловство ненужное, и надеяться прожить с них, продавая на ярмарке, – бесполезная дума. Другое дело ковать подковы и замки, чинить корабли, править оглобли на телегах или санях, ставить решётки на окна и в клети, лудить бочки, паять сундуки.
– Вот доедешь до Старицы, там и будешь промышлять безделушками: к столице ближе, народ другой, побогаче здешнего, – сказал Николай сухо, но тут же испугался свои слов; зачем-то ему брат был нужен пока здесь: – Да ты погоди, Володька. Завтра вербное воскресенье. Сходим к боженьке на поклон, потом решим, что делать. Мне бы Вешнего Егория дождать, чтобы скотину выпустить из стойла, тогда я поёду с тобой. Нельзя тебе одному с женой по нашим дорогам, да ещё с таким грузом. Много развелось теперь разбойников и душегубов. Царь, хоть и юнец совсем, но в отместку за загубленную мать мстит боярам, а отыгрывается на народе. Так простой люд в городах давит, что он в лесах хоронится. Там, кроме коры, есть нечего, поэтому разбой царит вовсю. Ты вот по реке пришёл, а на воде беды не много. Не всяк решится на корабли напасть. А пеший – добыча лёгкая. Погоди малость, после Георгия поедем в Старицу с московским обозом. Торговцы по наземным дорогам под охраной путешествуют. С пищалями против топоров спокойнее.
– Хорошо, – согласился Владимир. Забота родного человека легла на душу пуховой подушкой. Да и на беглецов окаянных и в Молдавии, и в Киеве, да и в здешних местах, Владимир насмотрелся вдосталь. Голодный человек – хуже зверя. А у него дело важное. Нельзя не исполнить.
На следующий день спозаранок все люди вышли к лесу ломать ветлу. Голые прутья с едва заметными почками понесли в церковь. После освящения их в чанах со святой водой в каждой избе поставили свежие срезы в стаканы под образа. Прошлогодние вынули в сени, чтобы гнать ими скот на выпас в сто двадцать шестой юльев день. Снова сели есть и пить. И так – всю страстную неделю, вплоть до Пасхи. Хоть пост, хоть нет, а без хмельного квасу не жить.
Всё это время люди шатались без дела и забот. Праздники работу отменяли, и миряне христосовались, балагурили, угощались, тут же дрались на кулаках. Брань с площадей неслась за много вёрст, шли ли торги-вершились суды, шла ли расправа за прошлые или новые грехи. В полях, всё ещё скованных ночными холодами, городские жгли костры, прыгали через них, не дожидаясь Купавы. В реку шли, напившись и надравшись. Наморозив зады, бежали отмокать в бани. После снова бражничали, пели, бранно ссорились, дрались не понарошку – вусмерть.
Ирина смотрела на эти дикости, отворачиваясь и закрывая лицо: «Что за люди? Почему праведную жизнь они ведут лишь тогда, когда на грешную уже нет ни сил, ни здоровья? Что за карма у них, и как может помочь им бог, если они сами себе помочь не хотят?». Православной жизни в Киеве до того, как её в восемь лет взяли в плен, женщина не помнила, а столкнувшись с пугающей действительностью, рыдала на плече мужа каждую ночь. Не терпелось ей уехать из Опочки. Алиция поддевала, когда оставались они одни, называя дикаркой. Однако, когда настал пастуший день, Ирина первая сплела венок для самой дойной овцы из трёх в стойле, для заклинания над скотом, уберегающего от лесных ведьм, нечистой силы, волков и страшных болезней. Глядя, как молодая девушка водит руками над головами коровы и овцы и бормочет что-то непонятное, Николай и Алиция зачарованные молчали. Было в этом много языческого. Обряд Ирина помнила от бабки. В украинских сёлах день пастуха был тем особым праздником, что пропустить нельзя. Медленно возвращалась к девушке память о давней жизни. Принимать всё, как есть, она не спешила и постоянно говорила про Топкапы. Владимир тоже скучал по дворцу Сулеймана и пообещал жене, что как только отдаст крест князю Владимиру Андреевичу, вернутся они в Константинополь.
Выдоив после обряда овцу на треть и вылив молоко на зарю, Ирина уступила место хозяевам. Они стали махать по углам двора прошлогодними прутьями ветлы. Хлестали им скотину, приговаривая: «Господь, благослови и здоровьем награди! Благослови тебя, Господи, и здоровьем награди!». Скот и пашня позволяли выжить даже самым бедным, что в рабах.
Наконец наступил день, когда братья собрались в путь к Старицкому. Молодого князя Владимира и Евдокию выпустили из заточения в 1541 году по приказу Ивана IV. Ходатайствовал об освобождении узников Дмитрий Бельский, опекун царя, примечая, что «прежнюю челядь (при князе Владимире, Е.П.) царю угодно сменить, а свою, доверительную, ставить, дабы приглядывали за бывшим пленником, кабы не зачинил он какую смуту, али не стал с ворогами молодого двоюродного брата в сговоре, а то ещё хуже с намерениями худыми в сторону кузена…». Так сделано и было, о чём в Летописях отписали следующее: «… пожаловал князь великий Иван Васильевич всея Руси, по печалованию отца своего Иоасафа митрополита и боляр своих, князя Владимира Андреевича и матерь его княгиню Ефросинью, княже Андреевскую жену Ивановича, из нятства выпустил, и велел быти князю Владимиру на отца его дворе княже Андреевском Ивановича и с материю… вотчину ему отца отдал и велел у него быти бояром иным и дворецкому и детем боярским не отцовским».
Встреча кузнеца с князем Владимиром состоялась в Старице летом 1542 года. Девятилетний мальчик смотрел на приехавших из Опочки путешественников, оборачиваясь то и дело на мать. Ефросинья, узнав историю двух крестов, тут же приказала разместить дорогих гостей в тереме, что остался им с сыном от загубленного мужа. Всё имение князя Андрея вернули семье обратно не так давно. Глядя на кресты, женщина плакала и думала, как запоздало привезли их. Может и прав был молдавский шельмец, задумав освобождение её супруга? «Может и помог бы тогда этот крест, ох, не перепутать бы какой главный».
– Позовите мне кузнеца, пусть придёт один, – кликнула она дворне, а вошедшего мужчину попросила уточнить, где подлинник: – В красной тряпице, говоришь? А тот, что делал ты, в синей? Вот и ладно. Ступай! Я покамест подумаю, как быть с этим добром. Отцу не пригодилось, может сыну его станет подмогой, – Евросинья встала в угол перед образами, приложив всесильный крест к груди. А и просят ведь Старицкие всего ничего – чтобы оставили их разводить пчёл. Ввязываться в политические дрязги – последнее дело для тех, кто живёт по совести. Дак нет же, царские приспешники норовят проникнуть к Владимиру даже под одеяло, прослушивая, не чихает ли он там против кузена. Наверняка стоит отказаться от крестов. Вернуть гонца падишаха в Царь-город с его грузом, пусть Сулейман решает, топить ли кресты в Босфоре или расплавить их в печи.
От этих дум заснула Евдокия только под утро. А когда вернулась в горницу, где оставила кресты, красной тряпицы не обнаружила. Бросились искать, да тут же оказалось, что крест выкрал Николай и уже бежал в Опочку. Послали за ним погоню, но ничего это не дало: след свой ушлый купец запетлял, как косой на свежевыпавшем снегу. Владимир, младший брат вора, весь день был сам не свой. К вечеру его позвала в опочивальню хозяйка и, плотно закрыв за ним дверь, протянула синюю тряпицу.
– Ну-ко глянь, мастер, твоих ли это рук дело? – тихо попросила она, давая понять, чтобы и он не шумел. Владимир развернул ткань. А чем больше вглядывался в спасшийся крест, тем слабее становились его ноги.
– Как это возможно? – прошептал он губами, вскинув на княжну взор.
– Значит верно, – обрадовалась она: – Всё вышло, как задумано. Я нарочно поменяла кресты местами и оставила красную тряпицу с двойником там, где её было проще найти. Только не думала вот, что вором окажется брат твой. Ну да ладно: однажды каждому будет свой суд. А покамест пусть летят слухи голубями. Пусть трубят Ивановы глашатаи по всем дорогам о пропаже ценности Стефана Великого. Пусть думают, что нам осталась копия. А мне эта вещица для правосудия останется. Дай только, Господи, окрепнуть и возмужать сыночку моему Владимиру!
– Княгиня, я отныне твой слуга! – ювелир хотел преклонить колени, но от страданий, страха и только что испытанного стыда упал перед Ефросиньей.
Подняв его, женщина впервые за долгие годы улыбнулась:
– Что ж, я понимаю теперь, почему ты так не хочешь возвращаться в Опочку. Но всё же, и Константинополь – не твоя земля. Да и Ирине страшно будет потерять в дальней дороге драгоценный груз. Женщинам в её положении лучше не путешествовать. Что ты так удивляешься? Я могу понять, почему женам временами хочется то спать, то плакать: – высохшая от бед женщина похлопала ювелира по плечу: – Так тому, знать, и быти: станешь служить не мне, а сыну моему. Хорошие люди – всегда большая редкость.
Ювелирных дел мастер остался жить в Старице. Вскоре он стал знаменит и достаточно состоятелен. Поставил дом, соорудил себе мастерскую. Ирина торговала в лавке. У пары, один за другим, появились два сына.
Прошло более двадцати лет. Жизнь в стране менялась и не к лучшему. В 1564 году Московский царь создал для себя наёмное войско: «избранную тысячу», куда зазвал представителей наиболее знатных родов и потомков удельных князей, обозвав служак опричниками. Вместо платы им раздали земли боярские и посадские, разорив неугодных и разделив людей на государевых и земских. Вместо закона крамольникам сунули в руки палицы и мечи. Вместо доброго слова вложили в уста клич «Гойда!» в знак прославления и признания государя Ивана IV. Никогда не жил русский человек сытно и спокойно. Всегда находились те, кто хотели его ограбить и обозвать. Приходила беда, если нападали иноземцы. Но когда убивают и лишают нажитого сородичи, кроме как горем такую жизнь не назвать. И заступиться за люд было некому. Царь, помазанник божий, прав даже если крив. Поэтому народ в муках жил и в муках умирал, не уставая молиться о лучших временах.
В апреле 1564 года от бесправия Великого князя, при котором вошли в невозможный резонанс прославление одних и гнобление других, бежал в Ливонию русский боярин Андрей Курбский. Это бегство, расцененное в палатах Кремля и Александровской слободы, как предательство стало вызовом опричнине. Уже свершились к этому времени тысячи казней невинных, уже распростёр свой гнев российский государь до крайних границ великой своей страны, уже узнали про него то худшее, за что может и должна отвергнуть церковь. Вот только заступника от злодеяний у праведного люда не было ни в лице человечьем, ни в гневе божьем. Церковные служители, купленные с потрохами, закрывали глаза на беспредел царя, богатея от его греха к греху, ведь отмаливание предержатель власти оплачивал щедро. Многие понимали это. Потому и пришёл к Курбскому в Опочке купец Николай, брат бывшего кузнеца, чтобы не только поведать легенду о двух крестах, но и за свою шкуру просить. Как глянул Курбский на святыню молдавского Господаря Стефана Великого, что положил ему в руку Николай, так и замер: о славе этого распятия он знал. В подлинности изделия мог не сомневаться: золото горело, каменья сверкали. Ноги Христа накрест, прибитые одним гвоздём, и единственная надпись над головой I.N.R.I – «Иисус из Назарета Царь Иудей», подтверждали, что крест католический.
– Пойдём со мной в Ливонию, добрый человек, – предложил князь Андрей купцу. А тот стал торговаться: что мне там дашь да в какой чин определишь.
– Я сам беглец, поэтому не могу сказать, каковой будет жизнь моя в изгнании. Но обещаю не обидеть, – рек боярин великого рода.
– Тогда дай мне решить здесь все дела, и жди затем к себе, – ответил Николай, словно речь шла для него не о спасительном бегстве, а о коммерческой экспедиции.
Вечером мужи расстались, а уже на рассвете вломились в дом к купцу опричники. По следам гнались они за Курбским, потому и расспрашивали любого, кто мог хоть что-то сказать о придворном изменнике. Соседи, видевшие у крыльца Николая коней с богатыми сбруями, донесли. Кинув купца в яму, кишащую пиявками, кромешники пытали его, как найти беглеца. Так и умер он, ничего не сказав не потому, что кому-то предан был, не знал ответа.
Путь в четыреста вёрст от Опочки до Старицы слух о его смерти проделал за два года. В коротком послании, переданном брату Владимиру на бересте со случайным добрым человеком, Николай каялся за грехи и писал: «То, что взял я без твоего ведома, отныне мне не принадлежит». Так в 1566 году Старицким стало известно о том, что второй крест вывезен за пределы Руси.