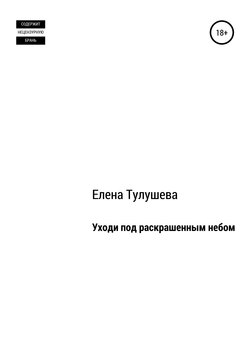Читать книгу Уходи под раскрашенным небом - Елена Сергеевна Тулушева - Страница 2
Глава 2
ОглавлениеДо обеда еще больше часа. Думается что-то плохо сегодня. Надо сосредоточиться на письме. На каком из них? Ответ Колину пока что кажется неподъемным. Он явно хочет поскорее все закончить. Что может она предложить? Лишь череду вежливо размытых писем.
Значит, надо этому писателю. Как его там – Петричкин? Удивительно бессюжетная фамилия. А размер письма – на роман тянет, как из прошлого века, боится, вдруг что не доскажет.
И что прикажете ему отвечать… Петричкин хочет предысторию, жаждет знать, когда она вдруг поняла свое предназначение. Какая банальность. Как сюда попала, так и поняла. Формально почти пятнадцать лет назад, сразу после двухгодичного «круиза» на корабле-госпитале. А если брать глубже?
В день, когда ей прислали итоговый офер на эту работу, она позвонила Виолке. Слабый конечно советчик, но за неимением других – хоть что-то. Или не совета хотелось, а как будто тревожно было, что подумает единственная оставшаяся подруга о такой работе. «Что думаю? Да я б всю свою семью эвтанизировала, если б можно было! Нормальная работка, полезная. Платить-то будут или как на корабле – на добровольных началах облегчать мир?» – Виолка ответила в своем духе, чем несказанно обрадовала. Да уж, семейка у подруги на тот момент была не похожа на картинки журнальных обложек: младший на двадцать лет брат – наркоман, отец – алкоголик, мать – психопатка, с детства такие устраивала закидоны, что даже по телефону страшно было это слышать. Единственные Виолкины бабка с дедом завещали свою квартиру брату, хотя на момент их ухода он был еще мелким школьником, а Виола с трудом тянула ипотеку на однушку в Раменском. Наверное, с годами они стали еще ближе именно из-за этого негласного понимания, что жизнь вообще-то не самая легкая и радостная штука.
В общем, Виолка с работой очень поддержала. Хотя писателю это вряд ли будет понятно: сорокалетняя одинокая женщина решилась работать в сфере эвтаназии, потому что ее саркастически-завуалированно поддержала такая же сорокалетняя и такая же одинокая подруга из той страны, где само слово «эвтаназия» в рейтингах популярности поисковиков занимает место где-нибудь между «ономастика» и «кроссинговер». Объяснять Петричкину саму историю с работой нет никакого желания, да и не просто так она свалилась. Это был путь. Определенно долгий, хоть и не очень осознанный, но путь.
Она отлично помнила и не раз в своей жизни разворачивала эту ниточку событий к глубинным истокам своего выбора. Но этот писатель – какой-то он дурковатый, как любил говорить папа. Стоит ли ему рассказывать, раз такой недалекий? Читать его волшебно-гениальный роман, чтобы судить, вдруг там действительно шедевр, у нее не было никакого желания.
Сама идея книги звучала абсурдно. Элизабет уже давно не жаждала внимания, снисходительно смотрела на стремящихся к публичности людей. Все эти истерические порывы и страсти были успешно проработаны за шесть лет сеансов у психоаналитика. И вот теперь снова по кругу…
И кто ее дернул обмолвиться Маркусу о нелепом письме с далекой родины? В понедельник на террасе цюрихского кафе к западу от Бюрклиплатц, она любовалась, с каким неиссякаемым аппетитом шеф поглощал утренний pain du chocolait, потом перевела взгляд на паутинку морщинок, расползающуюся год от года по его белой коже. Следы старения ложились на его лицо ровно и неизбежно, как вечерняя тень.
Маркус любил поесть вкусно и с изыском. Трапезу он считал безусловным даром нашей жизни, слишком ценным, чтобы портить его чем бы то ни было, тем более профессиональными дискуссиями, потому разговоры о работе во время еды были категорически запрещены. Но за столько лет уже, казалось, не осталось тем, которые они бы не обсудили, потому так искренне делились любой новой мыслью о чем угодно: будь то прочитанная еще в детстве и случайно вспомнившаяся книга, или ожидаемая премьера, очередная война или новый рецепт.
Те щекотливые сюжеты, которых обычно стараются обходить в общении с коллегами, во избежание ссор и разочарований, для них наоборот были самыми ценными. Когда в работе соприкасаешься с чем-то, что стоит выше людских разногласий, с чем-то, что практически не контролируется человеком, какой бы властью и деньгами он ни обладал, то поссориться из-за политических предпочтений собеседника было бы просто смешно.
Наверное, оттого она с легкостью, полушутя, рассказала ему про своего почитателя, готового написать о ней книгу. Рассказала со смехом, но, заметив сосредоточенный взгляд Маркуса осекалась: подумала, что все-таки затронула тему работы, а он был крайне щепетилен в вопросах границ, и точно теперь резко прервет ее. Маркус отер рот салфеткой и озадаченно нахмурился.
– Ты что-то ответила ему?
– Зачем? С такими лучше даже в диалог не вступать, потом не отлипнет. Пусть будет думать, что ошибся почтой или, что я не понимаю русский. А что ты об этом думаешь?
– Спасибо, что спросила. Ты знаешь, я не позволяю себе давать непрошенные советы. Так вот, как твой друг, я бы сказал, что это очень интересный поворот. На мой взгляд, все, что происходит случайно, бывает особенно значимым. Собственно, твой жизненный опыт тому отличное подтверждение, не правда ли? – все перипетии ее скитаний по миру ему были известны и обсуждены по кругу несколько раз. – Так вот, как друг, я бы посоветовал тебе рискнуть, поскольку ты ничего не теряешь.
– А не как друг?
– А не как друг… То есть, как твой начальник… Я бы попросил тебя принять предложение и сделать таким образом очень значимый и своевременный вклад в имидж нашего общего дела.
– Ты серьезно?!
Маркус подозвал официанта, и вместо счета попросил еще один кофе. В ее размеренной жизни удивлений сегодняшнего дня хватило бы уже на полгода. Шеф не просто решил обсуждать работу, но и продолжил при этом свой завтрак.
Да, в последние месяцы на них действительно написали несколько очень жестких статей, и возможно он думал о работе и дома, но не настолько же, чтобы отказаться от собственных ритуалов, которые были известны и беспрекословно соблюдались каждым работником компании. Для нее самой, они стали не просто рутиной для ублажения Маркуса, они стали ее собственными ритуалами, ее идеями, ее верой в ценность жестких границ.
Дальше она его слушала в пол-уха. Что-то про имидж, про угрозы, про загадочную смерть министра здравоохранения (найдена мертвой на велосипедной дорожке районного парка без следов насильственных действий, свидетелей тоже не нашлось). Той самой дамы, которая так активно лоббировала интересы эвтаназии. Смысл речи был понятен Элизабет, так же, как и план дальнейших действий.
Конечно, она сделает, как он просит. Конечно, она осознает возможную ценность этого шага. Что-то там про пиар, про международное внимание, про интерес из такой дремучей России, в которой (даже в ней!!!) понимают ценность их миссии и прочее, и прочее. Только она никак не могла прочувствовать, что же за всем этим стоит – что на самом деле происходит с Маркусом? Она что-то упустила, не заметила, в какой момент все поменялось?
Разве так сильно мог поменяться ее Маркус? Тот, который
Да, с годами стал более вялым, менее уверенным, в отпуск ездит чаще, смеется чуть реже, но все это такое естественное, нормальное что ли. Да и в принципе согласно его теории стабильными должны быть лишь регулярные перемены: с этим он продолжал справляться прекрасно. Новые костюмы, эксперименты со стрижками и бородой, новые путешествия, всегда авторские, с уникальным маршрутом. Последнее было в Исландию на джипах в компании абсолютно незнакомых мужчин со всего мира. Маркус рассказывал о нем месяца два, и ни разу не повторился.
Даже ей, искушенной бродяге-путешественнице, было завидно от описаний диких безлюдных бухт и безымянных водопадов, обрядов посвящения с картофельным шнапсом и тухлым мясом полярной акулы. Ей всегда хотелось попасть в его истории, в его воспоминания, в его путешествия. Со-чувствовать, со-переживать, со-прикасаться.
О своих путешествиях она рассказывала сбивчиво и скудно, только с ним получалось разговориться, потому что он умел мастерски задавать вопросы. Это не раз выручало во время острых дискуссий по рабочим проблемам в департаменте или министерстве, во время переговоров с инвесторами или местными органами власти. Маркус умел так сформулировать вопрос, что собеседникам хотелось говорить, говорить много и в «нужном» направлении. Он был прекрасной иллюстрацией для сомневающихся в ценности докторской степени по философии: умение видеть по-другому, умение анализировать, умение строить дискуссию можно использовать в любой профессии.
Теперь же, глядя на стареющего Маркуса, она вспомнила недавнюю серию документального фильма про Меркурий, как он предположительно потерял свою мантию: ее просто выжгло солнце, превратило в пепел, который разлетелся по нашей галактике, оставив Меркурия с одним лишь железным безжизненным ядром.
. . .
From: Elisabeth Shneider elizabethshneider@…
To: Michail P. bestwriter111@…
Уважаемый Михаил!
Вчера кроме согласия не успела ничего написать по делу. Что ж, давайте сразу к сути. Итак, предыстория. Честно говоря, обдумывание того, как нужно говорить и с чего начать, так меня утомило, что я решила писать, как есть, а уж вашей задачей будет привести все это в соответствующую форму. Все-таки из нас двоих именно вы – писатель. Поэтому, чтобы не тратить время на условности и объяснения, просто буду писать отрывками, в свободное время.
Что ж. Думаю, что началось все с истории с соседом. Сосед был генерал в отставке. Из таких типичных. Высокий, вечно борющийся с приросшим пузиком и круглящимися щеками. Вообще мужчина незлобный, добросовестный. Когда-то был действующим военным, или как там у них называется, воевал по-настоящему, а к пенсии в кабинет перевели, вот и расширился, заскучал, наверное. Они с супругой мне как дядя с тетей были. Всегда дружелюбные, общительные. Уже через год, как переехали, весь подъезд их знал и уважал. Он веселый и громкий, она приветливая, интеллигентная, спокойная.
Потом он начал худеть. Ему удивительно шло. Черты лица стали острее, обозначились мужские скулы, мудрые морщинки. В какой-то момент его глаза превратились из китайски-заплывших щелочек в крупные карие, бархатные, глаза. В них появился блеск. Все мы думали: как похорошел, как идет ему эта жесткость и четкость черт, как приободрился он, взгляд стал острее, мужественнее, движения наоборот смягчились, ушла суета. Это длилось около полугода. А потом он продолжил терять вес слишком быстро. Щеки постепенно ввалились, под глазами легли коричневые тени, а тот принимаемый за задорный блеск превратился в лихорадочное свечение…
И все начали понимать, что это уже не про здоровье, что происходит что-то грустное, чего не хочется замечать, слышать, ощущать рядом. Как будто при расспросах ты сам мог ненароком коснуться этого… коснуться и уже провалиться туда, в чужую беду. Он угасал стремительно, а потом и вовсе перестал выходить из квартиры.
В тот день на лестнице я встретилась с его супругой. Она была подавленной: понятное дело, муж болеет, совсем дела плохи. И взгляд такой, что вот-вот заплачет, поговорить бы с кем. Сама стоит на площадке, выдыхает, домой не идет. Я ее только приобняла без слов, а она расплакалась: «Обезболивающее Мише сегодня не выдали, не хватило какой-то подписи на бумажке». Я-то девчонка еще, мне показалось, мол, не самое страшное, живой ведь пока, просто лекарство! Завтра сходит, получит, давай ей тараторить, что один день – это ничего, что все еще будет хорошо, обязательно. А она так смотрела на мое лицо, как будто искала чего-то, потом прядь волос моих за ухо завела и едва улыбнулась.
На следующий день наш подъезд был оцеплен. Генерал застрелился из наградного пистолета. Их, оказывается, не сдают, когда уходят на пенсию. Может, оно и к лучшему, что не сдают. После него было еще несколько громких случаев в тот же год, тоже военные, кто на шнурке повесился, кто из окна. Из пистолета, на мой взгляд, все же мужественнее, как-то по-военному.
А в тот день меня в подъезд после института пускать не хотели, куча людей вокруг, репортеры, комиссии… Человек просто хотел уйти, потому что ему было больно. Я попыталась представить, насколько же больно… И не смогла. В записке он винил законодательство или правительство в создании стольких препон для получения рецепта. Его родные вынуждены были постоянно отсиживать очереди ради нескольких подписей в рецепте, потому что он сам уже передвигаться не мог.
Как странно вспоминать это теперь, когда знаешь, что человек может уйти совсем по-другому, без злобы. Уйти, обняв своих близких напоследок, в красивом месте под нежную музыку.
Они закрывают глаза, ощущая мягкую почти воздушную перину. Мы используем матрасы, как в ожоговых отделениях: специально разработанные так, чтобы человек почти не ощущал прикосновений. Здесь включают кислород на полную мощность, чтобы мог надышаться. Здесь вводят максимальную критическую дозу обезболивающего, которое может посадить почки или остановить сердце в будущем… В будущем, которого не будет, которого они не успеют ощутить, корчась от боли. Им даже можно напоследок выпить кофе или пива, которого они может не пили уже много месяцев. Уходя, они чувствуют тепло и благодарность.
При желании они могут видеть небо на потолке своей палаты. Пять палат расписали под заказ разными оттенками. У нас есть утреннее едва розовеющее небо, есть яркое, почти космически синее, еще ночное с мерцающими звездами, и вечернее немного сиреневое. И, конечно же, серое с кучевыми облаками. Оно, как ни странно, пользуется большим спросом: многие хотят уходить под небом, напоминающим кому-нибудь его родную Англию или Сиэтл, а кому просто осень.
Вы знаете, что красивые картинки из космоса – они не совсем правдоподобные? Мощнейший телескоп, вращающийся вокруг Земли, передает изображение только в черно-белом цвете. А раскрашивают их специальные ученые. Они получают данные о составе веществ в этих сгустках газа и пыли, и, в соответствии с химическими элементами, окрашивают картинку. Сера – желтый, водород – голубой и так далее. Они раскрашивают для нас космос… А мы здесь просто раскрашиваем для людей их последнее небо.
Еще у нас у единственных есть сенсорная капсула. Японцы успешно презентовали ее всего пять лет назад на выставке в Гааге. Стоила невероятных денег, но люди в ней могут уйти как будто под настоящим деревенским небом. Или под морским… Полное сенсорное погружение: влажность, звуки, визуальные образы виртуальной реальности – все то, над чем у нас трудились отдельно дизайнеры и разработчики, психологи и соц работники, подбиравшие музыку, интерьеры и освещение. У них есть все это в одной капсуле, но еще и практически идентичные натуральным ароматы.
Знаете, в одном из гневных писем, которые мы получаем регулярно, некий господин вменял нам в вину, что мы превращаем смерть в бизнес и праздник. Он приводил в пример отрывок из рассказа Андрэ Моруа – отель «Танатос». Удивительно, но отработав к тому времени уже лет семь в сфере эвтаназии, я не была знакома с этим рассказом. Возможно, возмущенный господин хотел нас пристыдить, однако у него получилось лишь вдохновить меня и убедить в ценности миссии. Мне запомнилась оттуда фраза: «Мы гарантируем, что вы умрете счастливыми». Увы, мы такого гарантировать не можем, однако, это вектор нашего движения в работе – туда, в сторону максимального счастья, которое только возможно дать умирающему человеку.
Тогда, после похорон соседа, подслушивая долгие ежевечерние разговоры мамы с его вдовой, я думала о том, что это самое страшное – уходить так, как дядя Миша. Уходить с отчаянием, ненавистью и обидой. С тех дней может и начала зарождаться тоска о том, как все бессмысленно: институт, право, работа у нотариуса, деньги… Всё это и всё дальнейшее нелепо, когда невозможен достойный финал. А ведь финал может прийти намного быстрее, чем у дяди Миши, он может обозначиться уже через пять лет, год, два. Если всё может стереться и обесцениться под натиском боли и страдания – зачем тогда так много сил на ерунду…
С мамой говорить не получалось, она все вела к Богу, мол ему виднее. Но почему Бог дает одним радость, а другим страдания, мне было не понять. Почему люди могут усыпить едва дышащую собаку или искалеченную машиной кошку, и это называется облегчить, отпустить, а с человеком так нельзя? Подобные мысли – тяжеловатый груз в восемнадцать лет. Особенно, когда не с кем ими поделиться.
Наверное, в тот момент я поняла, что между верой и религией лежит пропасть. Сначала стало ужасно одиноко от этого понимания, что религия, какой-то конкретный Бог, его законы и тотемы – это у них, у масс, а вера – только у меня внутри, и мы с ней такие маленькие, одни…
Со временем это одиночество стало не таким холодным, а постепенно и вовсе сделалось своим, привычным. Когда не рассчитываешь на какого-то абстрактного Бога, то и винить за неудачи некого, просто больше думаешь о своих поступках, и принимаешь варианты, что может не получиться или не повезти, но только тебе отвечать за результаты.
С уважением,
Элизабет Шнайдер.
From: Elisabeth Shneider elizabethshneider@…
To: Colin Thompson colin-believeinscience@…
Уважаемый Колин!
Спасибо за ваше письмо. Прекрасно, когда человеку удается оставить столько значимого после себя. Увы, большинство из нас уходят не замеченными. Ваши труды не только спасли многие жизни, но и станут бесценным материалом для будущих поколений.
Ваш случай говорит о том, как ценна длинная жизнь, как много может дать не только молодость, но и зрелость. Возраст – действительно ваше богатство. Жаль, что вы уже не замечаете этого.
С уважением,
Элизабет Шнайдер
. . .
From: Michail P. bestwriter111@…
To: Elisabeth Shneider elizabethshneider@…
Добрый день, Елизавета!
Как приятно получать ваши письма! На днях поймал себя на остром желании пообщаться с вами вживую: так много вопросов возникает, пока читаешь ваше письмо, столько поводов для мгновенного диалога. И хочется тут же спросить, воскликнуть, уточнить, дать обратную связь – живого общения хочется! Тогда я вспомнил про видеозвонки. Мы могли бы созвониться по фэйстайму, я бы видел ваше лицо, замечал реакцию мимики на вопросы, вы стали бы намного объемнее для меня. Но потом…
Вы знаете, потом я представил, вот эти экранные отношения, плоские картинки, «недостаточный уровень сигнала сети», помехи, шуршания, зависания изображения и речи. И все это показалось настолько разрушительным для создания атмосферы, настолько искусственным, пластмассовым что ли.
Мои родители растили меня по программе Монтессори. Мама искренне считала, что натуральные материалы и минимум деталей в игрушках помогают развивать фантазию, да и папа видимо был согласен, он вообще мало озвучивал свои возражения, мама не одобрила бы его недовольства. Так вот полагаю, что она все же была права про Монтессори, поскольку фантазированием я отличался знатным.
Уверен, благодаря этому я и смог стать хорошим писателем: хорошим фантазером от правильного воспитания и мастером прекрасно вербализовывать свои мысли от природы. Додумывать, что кусок деревяшки – это трансформер, как у Витьки, представлять, что у него выезжают крылья… У Витьки, моего первого школьного друга, был трансформер, который за одиннадцать движений превращался из человекообразного робота в самолет. Одиннадцать движений по инструкции:
– сложить ноги,
– защелкнуть их красной дугой,
– развернуть ступни, как у балерины,
– наклонить вперед голову до щелчка,
– прижать руки к телу,
– расправить перчатки,
– вытащить из них сигнальные огни,
– через позвоночник достать два треугольника,
– разложить их на две стороны,
– из шеи робота вытащить острый самолетный нос,
– из живота достать шасси.
И вот перед вами реактивный бомбардировщик. Я помню до сих пор все эти шаги, хотя Витька давал мне подержать свою игрушку всего раза два. Тот еще жмот. В остальное время я мог только наблюдать. На переменках. А потом повторять руками все движения со своими деревяшками.
Я не ходил в детский сад, и жили мы преимущественно по семь-восемь месяцев на даче. До школы я практически не знал, с чем играют другие дети. Мои игрушки были деревянными или картонными. Редко – железными, такие конструкторы. Потом уже в школе мама моего одноклассника с восторгом воскликнула, глядя на мой самолет для классной выставки: «У моего папы в детстве был такой конструктор! Где вы его достали? Сейчас же нигде не продают, раритет!».
Кажется, это был единственный раз, когда одноклассники посмотрели на мою игрушку с интересом. Правда, через пару минут естественный интерес угас, но и эти пару минут дорогого стоили.
Знаете, при всей отсталости и простоте моих игрушек, при всей красоте и детализированности игрушек одноклассников, меня всегда отталкивал в них этот запах китайской пластмассы или дешевых красок, неизменный спутник практически всех машинок, Лего, пистолетов и прочих радостей. Даже их гаджеты пахли также. Мама замучилась со мной выбирать телефон в третьем классе, когда уже нужно было самому добираться в музыкалку. Продавцы давали нам в руки разные модели, а я их нюхал и отбраковывал одну за одной, не смотря на сочувствующие лица окружающих (наверное, думали, что я аутист).
Удивительно, как важны были для меня запахи. С годами стало чуть легче, я дифференцирую их блестяще, но это уже не мешает мне внутри них существовать, не отвлекает. А тогда, бывало, доходило до тошноты. Я с восторгом брал в руки игрушку друга, которую еще нужно было как-то выклянчить, и наслаждался ей несколько мгновений, пока вдруг не начинал как будто задыхаться. Фигурально выражаясь.
Нет, я не падал в обмороки (по крайней мере, в том возрасте и от таких мелочей), но запах этот как будто начинал нарастать, заполнять не только мои дыхательные пути, но и всю ауру вокруг. И вот я стою, как в дурмане, не зная, что лучше предпринять, игрушка неуютно замирает в моих брезгливых пальцах, а следующий ждущий одноклассник уже нетерпеливо тянет к ней свои руки. В общем, наблюдать со стороны со временем оказалось намного безопаснее и, вследствие этого, намного интереснее. Я, наверное, сумел себя приучить к этой созерцательной позиции, которая позволяет замечать намного больше. И опять же, фантазировать, фантазировать, фантазировать…
Так вот, представил я наше с вами общение по видео связи, и даже вдохновение улетучилось. Настолько теряется как раз вот это ощущение удивительно тонкой работы воображения: каждая строчка, каждое слово ваше я произношу с той интонацией, с какой его может произнести ваш образ в моей голове. Возможно, он ничего общего не имеет с вами настоящей, и потому еще более прекрасно так и остаться в неведении.
Будь моя воля, я бы писал вам письма от руки! Жаль только, что идут они теперь целую вечность. О, как бы вдохновляющее это было: по-старинке ходить на почту, покупать марки, запечатывать конверты… У меня есть прекрасный ретро-набор, дар моего литературного наставника: перьевая ручка с чернильницей и бронзовый нож для разрезания конвертов. Боюсь, нож никогда мне не доведется опробовать, так и останется он украшением стола.
В общем, подводя итог, я все-таки против общения по видео звонкам, уж извините. Хотя…Может быть, если вам так важно, чтобы ваш образ в книге был максимально приближен к вашей истинной личности, нам стоит подумать о варианте очных встреч. Это уже немного другое. По видеосвязи я смогу получить только какой-то осколок от общего изображения, лишь одну грань. Она вторгнется в мое воображение, уничтожит сформированный образ, а потом несчастная моя фантазия обречена будет заново адаптироваться, создавать уже новую картинку, опираясь на вот этот реалистичный обломок (голос, лицо, взгляд). А вот если бы полностью увидеть вас, погрузиться в активное наблюдение, заменить фантазийную картинку реальной… Вам конечно сюда в Россию ехать бессмысленно, да и времени наверняка нет. Но я сам бы мог вырваться, если ваша компания захочет принять меня для ознакомления с объектом моего, так сказать, литературного исследования. Было бы интересно увидеть вас в работе, всю вашу организацию, вдохнуть той самой атмосферы, проследить ваш ежедневный путь от дома до клиники, ваше любимое кафе, супермаркет, парк. Придется конечно уйти от изначальной концепции свободного созидания на основе нескольких ваших писем и сосредоточиться на реалистичной прозе, но это наверняка будет более интересно и вам и вашей компании – воссоздание максимально приближенного и подробного образа!
Так что теоретически я готов, только нужно будет обговорить все детали. У меня даже виза есть годовая шенгенская, так что вам не придется мучиться с приглашениями. Только с командировочными и жильем. Хотя жить я мог бы, например, прямо у вас в клинике – там же есть кровати в палатах? Наверняка, они не всегда заняты. А я бы мог прочувствовать всю атмосферу изнутри, почувствовать энергетику этих людей! Только вот больничную еду я не готов употреблять, вы уж извините. Нет, я понимаю, что у вас наверняка кормят лучше, чем в российских больницах, но все же я имею очень специфические пищевые привычки. Так что просто командировочные и билет! И я смогу написать именно такую книгу, какую вам мечтается!
С уважением и надеждой,
Михаил Петричкин.
From: Colin Thompson colin-believeinscience@…
To: Elisabeth Shneider elizabethshneider@…
Дорогая Элизабет!
Как вы все же молоды! Наверное, и половины моей жизни еще не прожили? А я самый старый житель Австралии. Намного старше Харбургского моста. И, кстати, живу в самом старом городе этой страны. Да-да, последние лет десять я только и делаю, что ищу с чем сравнить свою жизнь (с кем-то одушевленным, как вы понимаете, сравнить ее уже невозможно. Разве что какие-нибудь черепахи, деревья в расчет не беру, они достаточно быстро покрываются корой, так что к морщинам привыкают практически с юности). Правда, наш город старше меня всего на каких-то сто с небольшим лет, то есть он прожил две моих жизни, как я прожил уже две ваших.
Для города годы – это развитие и процветание. Мой город растет, перестраивается, облагораживается, он наполняется новой жизнью, спешит за прогрессом. Его болезни, изъяны и поломки исправляют, вылечивают, находят пути решения для всех его проблем. Заторы и пробки – вот тебе новые дороги и скоростные поезда. Плохая экология – вот тебе велосипедные дорожки и программы озеленения. Даже если б что-то взорвали, как когда-то у наших несчастных новозеландских соседей, это бы наверняка восстановили за пару лет.