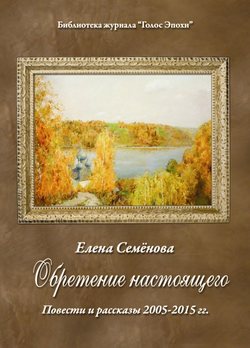Читать книгу Обретение настоящего - Елена Владимировна Семёнова, Елена Семёнова - Страница 6
Обретение настоящего
Глава 5. Встреча
ОглавлениеНадо сказать, что сама политика также не «исцелила» меня от более навязчивой химеры – тебя. В паузах между общественными делами и зарабатыванием на хлеб насущный я следила, насколько могла, за каждым твоим шагом. Твоя новая лента… Твоё интервью… Твой сайт… Знаешь ли ты, что на нём я тайно писала на форуме под вымышленным ником? Однажды, придя с очередного политсобрания и привычно включив телевизор, я аккурат попала на твоё интервью. Молоденькая ведущая с глупейшим выражением смазливого личика интересовалась твоими предпочтениями в области женщин.
– Ванесса Редгрейв! – с вдохновлённостью в голосе выдал ты.
Стыдно признаться: не дослушав остальной беседы, я ринулась к компьютеру, и «свет-зеркальце» века 21-го угодливо показало мне твой идеал, изучив который с придирчивым вниманием, я отправилась к зеркалу, дабы сравнить… Вывод мой был неутешителен:
– Ой, непохож, ой, халтура!
Да, где уж нам с нашим «русопятским» анфасом до их европейского профиля… И ведь, что греха таить, вызвал у меня этот вывод печальный вздох.
Каков бы ни был человек, чего бы ни мнил о себе, одно остаётся неизменным – человек не может быть один. Нет, может, конечно. Но одиночество никогда не даст ему полноты, а иллюзия не заменит живых людей, близкого человека. Было у меня две школьных приятельницы, с которыми мы виделись раз в полгода: домохозяйка Катя и менеджер Вероника. Никогда не были мы по-настоящему близки, но общались всегда легко и весело. С Вероникой мы вечно спорили. Это был своеобразный ритуал. Если одна говорила «белое», другая должна была тут же возразить – «чёрное»! При этом мы никогда не ссорились. В сущности, вполне «политические» отношения: спорить обо всём, но при этом дружески закусывать на совместных застольях. В очередную встречу мы не отступили от традиции. Сперва спорили о кино, затем о любви и одиночестве. Умничали, разумеется, вволю. Вероника с жаром доказывала, что только взаимная любовь может быть счастливой. Я утверждала, что любовь – в любом случае, счастье, потому что она обогащает того, кто любит. И аргументировала это тем, что все великие произведения рождены любовью. Причём, большей частью, отнюдь не взаимной.
– Вот, пошлют тебя подальше – тогда поглядим, какие великие произведения ты выдашь, – хмыкнула моя бывалая подруга.
Одиночество мы сравнивали с одинокостью, и я убеждённо доказывала, что это разные вещи. Одинокость – состояние души, образ жизни, выбор. Одиночество – несчастливое стечение обстоятельств.
В общем, всё как в песне:
И двое сошлись не на страх, а на совесть.
Колёса прогнали сон.
Один говорил: «Наша жизнь – это поезд!»
Другой говорил: «Перрон».
Наконец, устав от прений, обратились мы к нашей молчаливой Кате, с которой поспорить не удавалось никому и никогда, ибо она имела редкостный миротворческий дар. Та лишь удивлённо пожала плечами:
– Что же я могу сказать? Я люблю мужа и любима им – что же мне сказать о любви? У меня есть Бог, семья, дети – что же мне сказать об одиночестве?
В тот момент я поняла, что такое счастье. Счастье – это гармония. Гармония в отношениях с Богом, с людьми, со всем окружающим, с собой. Наконец, в гармонии заключается высшая красота.
Гармония – лик природы, не тронутый человеком.
Гармония – поэзия Пушкина.
Гармония – музыка Чайковского.
Гармония – семейный очаг…
Дом Кати для меня был образцом гармонии. Она, её муж, их двое малышей. Есть чудное русское слово – лад. Именно лад царил в их семье. И им лучилась вся атмосфера дома. Здесь на душе как-то само собой становилось спокойно и ровно.
И я позавидовала этому ладу, особенно остро ощутив пустоту собственного дома и жизни.
Как и во времена бабушки, я часто бродила по Москве, всё отчётливее напоминавшую мне человека, разбившегося в автокатастрофе. Лицо его изуродовано, но ещё своё. И ещё можно отчасти вернуть ему прежний вид – пусть и не без шрамов. Но берутся за дело молодые горе-эскулапы. Зачем восстанавливать родное лицо? Лучше порезвиться вволю, поупражняться – и сварганить лицо новое. И, вот, начинается кошмар… Конечный итог – лицо Майкла Джексона. Ничего не просто родного, но и вообще человеческого. Отторжение тканей. Проваливающийся нос. Что там ещё? Москва, правда, пока ещё не обратилась в «Майкла Джексона», но если измывательство над её обликом будет продолжаться, то такой результат неминуем.
Иногда я приходила к нашему дому, в бесчисленный раз представляя себе, как жили в нём мои предки, тоскуя о том, чего не застала, не видела, не знала. Всех людей в той или иной мере мучит ностальгия по детству и юности. Но есть такие, что испытывают это чувство в отношении детства и юности века, времен, которых не застали. К таким принадлежу и я.
Всё чаще заглядывалась я на резвящихся во дворах детей, и в душе вызревало одно большое, подавляющее все прочие желание: желание ребёнка. Желание сына. И здесь не только и не столько материнский инстинкт был, но и другое: потребность в наследнике. Семнадцать лет покойница-бабушка наполняла мою голову и душу всем, что несла сама. Неужто для того, чтобы со мной и кануло всё это? Не может быть! Должно её наследство быть передано кому-то, как эстафета, а не лежать грузом на моей душе.
Однажды утром я возвращалась с Дорогомиловского рынка, куда привыкла ходить за продуктами. Сумки были не тяжелы, но смутно знакомый голос всё же окликнул меня сзади:
– Позвольте вам помочь?
До сих пор этот голос говорил мне лишь «Здравствуйте!», когда случалось встречаться на площадке второго этажа.
– Спасибо, Юрий Николаевич, но мне вовсе не тяжело! – всегдашний мой ответ на предложение помощи – даже если на самом деле очень тяжело.
– Но, может, всё-таки позволите?
При свете дня мой сосед выглядит иначе, чем в тусклом свете подъезда. Даже моложе как будто. Сколько же ему? При том освещении можно было и пятьдесят дать. А так – лет сорок. Лицо немного странное… Но я не сразу понимаю, в чём заключена странность. А просто – нетипично оно. Сотни людей мимо идут – ни одного схожего. Ни красотой, которой объективно нет, ни особенностью черт, а чем-то глубоко внутренним. Духом. Мимо скучной вереницей текут лица нашего времени. А передо мной – лицо другой эпохи. Пролистни старые альбомы, групповые снимки художников, поэтов, философов – и непременно встретиться среди них такой или почти такой образ…
Я отдаю Юрию Николаевичу одну из двух сумок:
– Сделайте одолжение!
На немного смущённом, скрыто застенчивом лице – скрытая же радость. Всё-таки лица удивительно много говорят о людях. И много работая с фотографиями, с записями, всегда особенно сосредотачиваясь именно на лицах, я довольно неплохо выучилась читать их. Лицо же моего соседа оказалось особенно лёгким для прочтения. Оттого, должно быть, что смотрела я в него, как в зеркало…
– А знаете ли, Сима, что было здесь прежде? До войны?
Знаю и очень хорошо, но делаю вид, что ни сном, ни духом. Моё «неведение» воодушевляет моего собеседника, и он принимается рассказывать о тех незапамятных временах, когда где-то окрест стояли цыгане, дававшие представления для публики (позже их вышлют из Москвы), когда Москва-река ещё не была окольцована каменными берегами, а вокруг кучковались деревянные домики, из труб которых тянулись к небу струйки печного дыма. А в домиках этих царили простота и уют от белых подзоров на комодах и никелированных кроватях, от скрипучих полов, крашеных или натёртых мастикой, верёвочных ковриков… Возле домиков играли в лапту или в лото, разговаривали до глубокой ночи, пели под гармошку песни. И над всем этим плыл в положенные часы колокольный звон, а по выходным звучала музыка духовых оркестров.
От Дорогомилова рассказ перекочёвывает к бульварам. Яузскому, Покровскому, Страстному… Никитскому и Гоголевскому, полюбившимся влюблённым. К бесчисленным московским переулкам, одни названия которых согревают душу, и их хочется слушать, как музыку, катать во рту, как леденец: Скатерный, Молочный, Хлебный, Плотников, Малый Левшинский, Мансуровский… К загнанным в трубы речушкам Синичке, Серебрянке, Сосенке, Фильке и Хапиловскому пруду, что разливался от Измайлова до самой Яузы…
В какой-то момент я неосторожно вставляю какую-то уточняющую реплику.
Взмах ресниц, укоризненно-огорчённая, смущённая улыбка:
– Так вы знали?..
– Лишь кое-что, – успокаиваю я. – Бабушка в детстве рассказывала.
Кажется, именно в этот момент и случилось узнавание. Заблудившиеся в чужом измерении люди – мы не могли обознаться и органично вошли в жизнь друг друга
– И что же она рассказывала вам ещё?
– Многое. Она очень хорошо знала Москву.
– В самом деле?
Мы уже приближаемся к дому, и Юрий Николаевич заметно мнётся, явно желая что-то предложить, но не решаясь. Я же лихорадочно соображаю, как подтолкнуть, боюсь, что так и не решится он – а мне понравилась наша беседа и очень хочется продолжить её.
– Не верите? Я могу доказать!
Моя «провокация» удаётся:
– Тогда предлагаю вам прогулку: вы мне расскажете о своей Москве, а я вам – о своей.
– С удовольствием принимаю ваше предложение! Мне, признаться, давно наскучило гулять в одиночестве. Позволите ответное предложение? – это уже у самых дверей осеняет меня. – Не откажетесь от чашки чая с кексом? Вы помогли мне дотащить мою поклажу – я буду чувствовать себя неловко, если хотя бы не напою вас чаем.
Предложение моё было принято с радостью, и через четверть часа мы уже сидели в большой комнате и пили мятный чай с кексом, печеньем и прочей снедью, которая оказалась в доме и принесённых сумках.
Ловлю себя на ощущении тихой радости. Как же это хорошо всё-таки: просто сидеть и говорить о том, что любимо и дорого!
Сосед мой – историк. Кандидат наук. Мог бы и докторскую написать да забросил. Много теперь докторов стало… Пишет какие-то учебные пособия, статьи, читает лекции в разных аудиториях, куда приглашают. А, по крупному счёту, неприкаянность выходит, неудельность. Хотя многие ли нынче могут удельностью похвастаться? Одни профессионально недело делают, другие к своему делу не допущены…
– Мне пора идти, Сима… Там, понимаете, мама одна…
В голосе Юрия Николаевича проскальзывает усталость. Усталость печатью лежит и на его худощавом лице.
– А у вас так хорошо здесь… Уютно, тихо…
Хочется предложить остаться, отдохнуть. Но невозможно – мама не может надолго оставаться одна. Мы тепло прощаемся и договариваемся в выходные навестить руины своей Москвы. До выходных ещё целых три дня, и это кажется мне слишком долгим сроком.
В тот день я не стала заниматься срочным переводом, не читала несколько дней назад начатых и уже до середины дочитанных личутинских «Скитальцев», уносящих воображение-душу в некий полубылинный, полусказочный мир, в зачаровывающее сновидение о другой, давней и вместе с тем вечной России. Я лежала на диване и думала. А вернее сказать, скиталась мыслями по пространству, пытаясь понять себя.
Среди ночи вскочила и принялась лепить пироги – благо тесто слоёное купила аккурат днём. Кулинарные мои способности оставляли желать много лучшего, но я очень старалась, и в итоге к утру два противня румяных пирожков с грибами, капустой и яблочным вареньем радовали глаз и будили нечеловеческий аппетит своим ароматом. До полудня я пребывала в состоянии метаний, ругая себя на все лады. В самом деле, что ещё за блажь – заявиться к человеку, с которым, считай, день знакомы, с угощением? Сочтёт ещё, чего доброго, что навязываюсь.
Раз уж решилась писать откровенно, то признаюсь: всю жизнь одолевает меня маята – боюсь казаться навязчивой. До такой степени боюсь, что даже хорошо знакомому человеку, бывает, не решаюсь позвонить лишний раз.
Однако, два противня уже стояли на столе и требовали быть съеденными. И я решилась. В конце концов, я-то знаю, что никакой корысти у меня нет, а просто подумалось, что человеку, живущему с тяжело больной матерью, некому приготовить что-то порядочное. Да и не только приготовить, а просто позаботиться. А ведь это так нужно бывает – забота, участие. И что же, не проявлять их из-за предрассудков, неписанных правил хорошего тона? Да и с каких пор забота о ближнем выходит за пределы этих самых правил?
Всё же внутри меня всё вибрировало, когда я этакой Красной шапочкой с пирогами явилась на соседский порог. Промямлила, пряча глаза:
– Вот… Позвольте угостить вас. Я очень редко занимаюсь готовкой… Для себя, знаете ли, никакой охоты нет. А так ведь и всякую квалификацию можно потерять… Вчера налепила, вот, много, а одной же мне всё это никак…
Искоса отваживаюсь взглянуть на Юрия Николаевича. Отлегло от сердца: на лице его читаю выражение благодарности и радости. Почему-то так и чувствовалось, что к нему можно вот так просто прийти, оставив условности. К кому другому – никогда. А к нему – можно. Он – поймёт правильно.
А «по Москве» в ту субботу мы гулять не пошли. Слишком много машин, шума и грохота. Сквозь него к островкам Москвы пробираться – мука мученическая. Моя бы воля, так устроила бы в центре зону заповедную – сугубо пешеходную. И чтобы никакой в ней погани шопо-макдоналдсовского типа. Но куда там! Самая дорогая земля здесь – покупай-налетай!
Стало быть, идти надо туда, где всего этого нет. А Москва исконная-посконная – она же всё равно, прежде островков, в море смердящем тонущих, в наших сердцах и памяти.
Местом нашей первой прогулки стал Донской монастырь, в целости сохранивший, если не считать крайне неуместных раскрашенных танков, свой первозданный облик и атмосферу. Даже торговли никакой не велось здесь. Лишь в стороне от храма продавали свечи, не скверня перезвоном денег святых стен. Затруднюсь сказать, кто победил в нашей «олимпиаде», когда мы рассказывали друг другу всевозможные факты о нашедших на Донском кладбище последний приют более или менее именитых соотечественниках. Полагаю, Юрий Николаевич всё-таки обошёл меня, тем более, что я с самого начала незаметно поддавалась ему.
В свой «музей» я возвращаюсь в томительном состоянии: когда хочется танцевать и плакать одновременно. Танцевать – оттого, что чудо было. И плакать – потому что оно закончилось…
Играет музыка. Это мелодия из польского фильма «Прокажённая». Сам фильм в силу излишней женскости почерка мне в своё время не лёг на душу, но музыка очаровала, подобно тому, как очаровывают фонтаны Петергофа, брызги солнца и радуга после грозы… Я кружусь по комнате, скрестив руки на груди, вызывая явное недоумение расположившейся на серванте кошки.
Музыка заканчивается, я опускаюсь в кресло и в который раз за последнее время пытаюсь понять главное – кто же я? Где моё место? Мой путь? Мои знакомые давно определились с этим. У них – работа, пусть нелюбимая, но постоянная, профессия, семьи… У меня нет ничего. И никого. Крыша над головой есть стараниями бабушки. А сама я – что сделала? К чему я и для чего? Поиск естественен для человека, но когда он затягивается на годы – это уже ненормальность. Актёрство – определённо, не моё дело. Политика – тоже. Так что же – моё? Именно моё? Или я просто слишком много хочу от жизни, не довольствуясь стандартами?
В тот вечер я загадала: если Юрий Николаевич сделает мне предложение (мысль эта, между прочим, казалась мне фантастической до абсурда), значит, это судьба. Не может быть игрой случая встреча людей, столь созвучных друг другу и диссонансом выпадающих из авангардной музыки века.
С той субботы наши прогулки стали регулярными. Монастыри, усадьбы, уцелевшие уголки Москвы – мы ничего не обошли своим вниманием, дополняя свою память о невиденном рассказами друг друга. Мы знали, кажется, все лавки, кондитерские, ресторации, мастерские, редакции, некогда бывшие в Москве. Знали всех сколь-либо известных жителей её и места, с ними связанные. Каждый уцелевший дом имел для нас своё лицо и историю.
По московским островкам до сих пор ещё можно почувствовать, что был наш город когда-то, понять его контраст с тем же Питером. Питер – строгая вычурность линий, гранитный холод. Москва – теплота и радушие. Город-призрак и город-жизнь. Жизнь – синоним былой Москвы. И о жизни этой Юрий Николаевич знал, кажется, всё. Многое я слышала прежде, но никогда не прерывала его – мне доставляло удовольствие слушать, словно бы рассказывал он мне давно не слышанную, но с детства любимую сказку.
– Люди перестали понимать красоту. Для глаз им нужно что-то яркое, пёстрое, блестящее – чтобы ослепляло. Для слуха – нечто оглушающее… Как то, что называют теперь музыкой да ещё врубают на полную катушку. Ослепнуть и оглохнуть – вот, что они хотят… И объяснять что-либо совершенно бесполезно! Для того, чтобы понимать нечто большее, чем животный инстинкт, нужна работа души и разума. А работать ими людям всё более лень. И те, кто пытаются заставить их трудиться, вызывают у них раздражение. Подозрение. На таких смотрят, как на засланцев иной, враждебной цивилизации.
– Может, так оно и есть? – шучу я.
– Возможно…
– Тогда, может, стоит сбежать отсюда? В другую цивилизацию? Или основать её?
– Дело за малым: найти необитаемый остров для основания.
В сущности, мы только тем и занимались, что сбегали в другую цивилизацию. Окружающую населяли воры, политики, эффективные и не очень менеджеры, бизнесмены, брокеры… В нашей – жили Аксаковы, Станиславский, Цветаевы, Васнецовы, Тютчев, Бородин, Вахтангов… Несть числа им – великим Москвичам разных эпох, образовавшим для нас единую среду обитания.
Несколько раз мы бывали в гостях у живых свидетелей нашего общего сна. Глубокие старики, они застали все этапы разрушения Москвы, но вместе с тем и другое – её живое дыхание, её людей… И сами они – её люди, всем существом своим. В них, как в нетронутых ещё тупичках и переулках, сохранился дух её.
Наши прогулки, чаёвничания и разговоры продолжались месяца два. А затем случилось нечто едва не разрушившее наш странный союз.
Как-то часов в шесть утра меня разбудил пронзительный звонок в дверь. Кое-как прибрав волосы и закутавшись в халат, я побежала открывать, предчувствуя недоброе. На пороге стоял белый, как мел, Юрий Николаевич. Руки его заметно подрагивали.
– Сима, простите…
– Что? Что случилось?
– Там мама… кажется, она умерла…
Юрий Николаевич выглядел совершенно разбитым и растерянным. Растеряна была и я. Но нужно было срочно что-то говорить и делать, разделить груз…
– Вы проходите… Посидите у меня пока… А я к вам…
Никогда не умею найтись, что говорить в таких ситуациях. Любые слова – до тошноты фальшивы и казённы. В отношении себя предпочитаю молчание, но другие молчание могут воспринять иначе… Об этом я не подумала.
Его мать я тогда увидела впервые, уже бездыханную. Как-то сразу стало ясно, что Юрий Николаевич не готов заниматься всем необходимым, не знает, куда обращаться, как и что устраивать. Я знала немногим больше, но делать было нечего: человек пришёл ко мне за помощью – значит, надо помогать, а не рассуждать…
Не стану описывать, как в течение нескольких дней я занималась организаций похорон, попутно приглядывая за Юрием Николаевичем. Честно признаться, я не ждала такой глубокой скорби. Обычно, когда уходит человек, столь долго и тяжело болевший, то ходившие за ним, будь то даже самые близкие люди, бывают настолько вымотаны, что уход воспринимают больше как облегчение, нежели горе. Жестоко, конечно, но такова жизнь.
После всех скорбных мероприятий я собралась, было, немного прибраться в квартире Юрия Николаевича, где царил полнейший хаос. И тут-то мне было высказано с болезненным раздражением:
– Не трогайте здесь ничего, пожалуйста! Времени ещё мало прошло… И вообще… Вы так суетитесь, словно ничего не произошло. А ведь человек ушёл… А вы… Думаете только о внешних предметах, говорите только о том, как и что оформить… Как это всё… тяжело!
Эта отповедь немало задела меня. Хорошие дела! Я взяла на себя все самые тяжкие дела, дабы освободить от них его, слишком подавленного, чтобы ими заниматься, и я же ещё и виновата?
– Простите. Не буду вам мешать. Если понадоблюсь, позовите, – говорю сухо, подавив желание высказать своё недоумение, и ухожу.
Весь оставшийся день я не находила себе места, кляня себя, что ушла. Обижаться на человека, который сказал что-то не то с горя, не подумав – не глупо ли? Нужно было проявить больше доброты и сочувствия, нужно было слова утешения найти… А что сделала я? Бросила человека в тяжёлый момент…
Порывалась пойти к нему, извиниться. Но останавливалась – может, раздражает его моё присутствие? Может, такое излишнее вмешательство вызовет досаду? Несколько раз я на цыпочках спускалась по лестнице, вслушивалась в тишину за его дверью, облегчённо вздыхала, заслышав шаги или покашливание. Я искала уважительного повода, чтобы позвонить, но не находила.
На другой день мы столкнулись на лестнице, поздоровались, обменялись вежливыми фразами… Но сухо, как просто соседи. Это было больно: рушилось то, чем я дорожила всего больше в последнее время, и не хватало житейской мудрости остановить…
Внутренне я уже приучала себя к мысли, что очередному миражу не суждено воплотиться. Тягостно это было, но привычная душа не бунтовала.
Но, вот, однажды утром я обнаружила в почтовом ящике конверт, а в нём письмо, выведенное старательным почерком: «Дорогая Сима! Я не могу дольше выносить этой неопределённости. Вы молчите, а мне не хватает духу сказать Вам то, что следовало сказать ещё раньше. Сима, я скучаю по Вам. Вы нужны мне. Согласитесь ли Вы стать моей женой? Простите, если всё это глупо и неуместно… Если так, то просто бросьте это письмо мне в ящик, забудем о нём. Но, пожалуйста, как бы то ни было, давайте встретимся в субботу, как обычно».
Читая эти строки, я чувствовала, как по губам моим разливается широченно-счастливая улыбка. Недолго думая, я сбежала по лестнице и позвонила в квартиру Юрия Николаевича. Он открыл сразу, бледный от волнения, посмотрел вопросительно, но ни слова не произнёс.
Я улыбнулась и спросила шутливым тоном:
– Ну, а где ж мы с вами будем жить? У вас или у меня?
– Так вы… согласны? – голос всё ещё тревожно-недоверчивый, но бледность начинает сходить на глазах…
– Я же не бросила письма назад…
Жить мы решили у меня, а квартиру Юрия Николаевича после небольшого ремонта сдали. В ЗАГС расписываться не пошли. Странно: даже мысли такой не мелькнуло – пойти в ЗАГС. Позже отец Виктор обвенчает нас, но штампы в паспорта мы не поставили доселе. Да и к чему? Перед Богом мы единое целое, а всё остальное – бюрократическая суета…