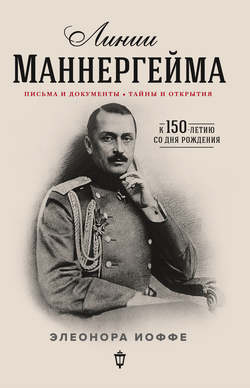Читать книгу Линии Маннергейма. Письма и документы, тайны и открытия - Элеонора Иоффе - Страница 4
Глава первая
Потерянный рай
ОглавлениеИстория рода Маннергеймов начинается, по семейным преданиям, с середины XVII века, но никто не может с точностью сказать, когда юнга Хенрик Мархейн, голландец, сошел с корабля в шведском торговом городе Евле (Gävle). Первое документальное упоминание о нем относится к 1645 году. Женившись на Маргарете Гаммаль, девушке из состоятельной купеческой семьи, Хенрик вскоре получил право вступить в купеческое сословие и даже какое-то время входил в совет магистрата. По-видимому, был он предприимчив и энергичен. Правда, удача впоследствии изменила ему: он обеднел и вынужден был в 1667 году пойти на службу бухгалтером первого в Швеции банка в Стокгольме.
Его младший сын Августин, родившийся в 1654 году, в начале своей карьеры служил управляющим поместьями шведского графа Оксеншерна в Эстляндии. Он настолько успешно исполнял свои обязанности, что вскоре арендовал эти поместья, к тому времени ставшие собственностью государства. Затем Августин Мархейн возвратился в Швецию, где в 1693 году король Карл XI произвел его в дворянское достоинство. Новоиспеченный аристократ изменил фамилию, чтобы она звучала по-шведски: Маннергейм. Четверо сыновей Августина стали первыми в роду военными[1]. В 1776 году двоих из них произвели в бароны, после чего герб Маннергеймов украсился военной символикой и элементами гербов матери и супруг обоих братьев. Родоначальником финской ветви Маннергеймов стал Карл Эрик, сын младшего из упомянутых баронов: в конце XVIII века он переехал в Финляндию, бывшую тогда частью Шведского королевства. Судьба его весьма характерна для дворян той бурной эпохи: приговоренный к смертной казни за участие в заговоре против короля Густава III, так называемом «Аньяльском союзе»[2], Карл Эрик был все же помилован. Вскоре после того он женился на дочери губернатора (похоже, что умение удачно жениться было фамильной чертой Маннергеймов). В 1795 году Карл Эрик приобрел поместье Лоухисаари (Вилнес) неподалеку от Турку, где через 70 с лишним лет родится его знаменитый правнук. История Лоухисаари сама по себе любопытна.
Первое упоминание о Лоухисаари встречается в документах начала XIV века. Почти четыре столетия, до 1789 года, им владел шведский аристократический род Флемингов. Главное здание усадьбы – один из редких в Финляндии дворцов в стиле позднего ренессанса – ремонтировалось и достраивалось в 1653–1658 годах, когда поместье принадлежало адмиралу, президенту камер-коллегии Герману Флемингу[3]. Одновременно в соседнем местечке Аскайнен возвели церковь, и от дворца к ней вела длинная, почти в три километра, березовая аллея. Трехэтажный дворец, красивейшее здание этого периода в Финляндии, хорошо сохранился до наших дней, и сегодня можно полюбоваться замечательной росписью деревянного потолка парадной залы, созданной в 1661–1664 годах немецким художником Иоахимом Лангом.
Вокруг усадьбы и ее обитателей, баронов Флемингов, рождались многочисленные легенды. Согласно одной из этих легенд, последний в роду владелец Лоухисаари Герман Флеминг (1734–1789), обладавший мрачным, вспыльчивым и ревнивым нравом, якобы замучил до смерти жену, замуровав ее в стену одной из комнат третьего этажа. В сводчатых подвалах дворца, где обыкновенно хранились продукты и утварь, по преданию, была когда-то тюрьма, в округе рассказывали о потайных лестницах и подземном ходе, проведенном из господского дома до отдаленного монастыря. Как и во всяком порядочном дворце, там до сих пор обитают привидения – по крайней мере, два: жестокого Германа Флеминга, прозванного в народе «чертом», и его несчастной жены. Достоверно известно лишь, что именно этот человек вложил немалые средства в ремонт и реставрацию дворца, придав ему тот облик, который здание носит и по сей день. В результате Флеминг разорился, поместье после его смерти несколько лет переходило из рук в руки и, в конце концов, было куплено Карлом Эриком Маннергеймом.
В 1823 году на церковном кладбище возводят фамильную усыпальницу Маннергеймов. Проект здания Карл Эрик заказал немецкому архитектору К. Л. Энгелю, создателю архитектурного ансамбля центра Гельсингфорса. Новый хозяин Лоухисаари мог себе это позволить: после того как в 1808–1809 годах Россия завоевала Финляндию и страна была присоединена к Российской империи в качестве Великого княжества, Карл Эрик оказался одним из влиятельных должностных лиц. В числе нескольких аристократов бывшей шведской провинции он был делегирован к Александру I во время пребывания императора на открытии первого сословного сейма в Борго (Порвоо). В своей приветственной речи он заверил нового монарха в верности финляндцев. Это благоприятно сказалось на его карьере: со временем К. Э. Маннергейм стал губернатором, а в 1824 году был пожалован графским титулом, который с тех пор переходит к старшим в роду сыновьям (остальные дети остаются баронами и баронессами). Родившийся уже в Финляндии сын его Карл Густав, тезка своего прославленного внука-фельдмаршала, занимал высокую должность президента Выборгского надворного суда. Вдобавок он смолоду увлекался естественными науками и снискал международную известность как ученый-энтомолог, специалист по жесткокрылым.
Отец героя нашего повествования, граф Карл Роберт, оказался «белой вороной» в ряду честолюбивых и целеустремленных финских Маннергеймов. Одаренный разнообразными талантами, он в студенческие годы эпатировал университетское начальство вольнодумными пьесами и политическими сатирами. Скандал кончился для него отчислением из университета, а для ректора – увольнением. Радикал и атеист, Карл Роберт и в зрелом возрасте оставался оригиналом. Например, он сочувственно отнесся к дрейфусарам: во время скандала вокруг дела Дрейфуса живший тогда в Париже граф Маннергейм послал на родину свою фотографию с газетой «Аврора» в руках, чем шокировал своих родственников и консервативное финское общество[4]. Его сын Густав, служа в ту пору в царской кавалергардии, напротив, вполне разделял антисемитские убеждения, бытовавшие в офицерской среде. Карл Роберт пробовал свои силы на многих поприщах: играл в театре, писал пьесы, стихи и статьи, увлекался поэтическим переводом и собирал произведения искусства. Впрочем, ни в одной области он не добился прочного успеха. После женитьбы в 1862 году он стал промышленником и коммерсантом. Жена графа, Хелена, происходила из богатой и влиятельной семьи фабрикантов Юлин; значительное приданое и полученные ею в наследство несколько поместий, каменный дом в Турку и доля в промышленных мастерских в Гельсингфорсе дали Карлу Роберту возможность развернуть бурную деятельность. Именно с этих мастерских и началась в 1866 году деловая карьера Карла Роберта, приведшая семью к разорению и краху. Продав ставшее весьма доходным предприятие в 1871 году, он на паях основал винокуренный завод. Когда завод начинает приносить немалую прибыль, он оставляет дело компаньонам и переключается на деревообрабатывающую промышленность. Его беспокойная душа жаждала перемен и риска. Как будто подгоняемый злым роком, граф бросал дело, как только оно налаживалось, и затевал новое. Когда основанная им бумагоделательная фабрика стала наконец успешно действовать, он в конце 1878 года внезапно уволился с должности директора-распорядителя и, спасаясь от кредиторов, уехал в Париж – якобы для того, чтобы получить патент на какое-то свое изобретение. Жену и детей он бросил на произвол судьбы, предоставив родственникам разбираться в финансовых делах. А дела эти к тому времени запутались безнадежно. В довершение всего, граф Маннергейм оказался страстным и неудержимым игроком: картежные долги составляли боvльшую часть из восьмисот тысяч марок, за которые он был в 1880 году объявлен банкротом[5].
Густав, третий из семерых детей Карла Роберта и Хелены Маннергейм, родился 4 июня 1867 года. Всего за шесть лет до того в России было отменено крепостное право. Это были годы правления Александра II – монарха, проводившего в отношении Финляндии мягкую политику и оставившего там по себе добрую память. И в то же время середина 1860-х годов – один из самых трагических для Финляндии периодов, оставшийся в народной памяти как годы «великого голода». Особенно страшным был именно 1867-й: лед на озерах держался до середины июня. За предыдущим неурожайным годом неизбежно последовал еще один. Вдобавок начались эпидемии тифа и холеры: за два года вымерла шестая часть населения Великого княжества Финляндского. Так что появлению Густава на свет сопутствовали не слишком добрые предзнаменования. Было в семье и свое горе – незадолго до рождения сына Карл Роберт потерял любимую сестру, умершую в родах.
«…Мальчика крестили в Иванов день. Сюда заезжал пастор, и поскольку Карл не хотел никого приглашать на крестины, крестили тихо. Матушка была восприемницей ребенка, которому совсем никто не радовался. Его имя – Карл Густав Эмиль»,[6] – писала Хелена своей сестре Ханне Ловен в Стокгольм.
И все же детство Густава и его братьев и сестер до 1879 года было счастливым. Размеренный, благоустроенный быт семьи описывает в своих воспоминаниях младшая сестра Густава, Ева Маннергейм-Спарре: «Лоухисаари был нашим большим миром. Все остальное казалось нам невзрачным и бедным по сравнению с тем богатством, которое являл наш дом. Центром этого мира была мать. Ее теплота и нежность обнимали всех нас одинаково любовно и ласково»[7].
В конце длинной березовой аллеи стоял огромный дом, полный красивых вещей, книг и произведений искусства; его окружал старинный парк. В Лоухисаари были свой скотный двор и конюшня, многие продукты производились прямо на месте. Господ обслуживали жившие неподалеку ремесленники: сапожник, изготовлявший обувь для всей семьи, портной, столяр, кузнец. Была даже своя ветряная мельница. Дети пользовались всеми преимуществами деревенской усадебной жизни: лазили по деревьям в парке, бегали на ходулях, ездили верхом, собирали в лесу чернику, катались на парусной лодке по морю. Отец привозил им из заграничных поездок диковинные подарки. Он был любителем всяческих новшеств: сыновьям даже купили один из двух первых появившихся в Финляндии велосипедов, хотя детей в семье не баловали и часто наказывали даже за небольшие провинности.
Графиня Хелена увлекалась английской системой воспитания: детей закаляли как физически, так и нравственно. Круглый год – обливания холодной водой, летом – купание в озере в любую погоду чуть ли не с годовалого возраста (купание в холодной воде осталось одной из неизменных привычек Маннергейма до преклонных лет); спали дети на жестких матрасах и волосяных подушках. Им прививались сдержанность и умение владеть собой, жалобы и проявления слабости считались постыдными. Так что кое-какие навыки самодисциплины и спартанские привычки будущий фельдмаршал приобрел уже в детстве. Правда, с Густавом, с малолетства самостоятельным и упрямым, все время что-то случалось, и он доставлял матери больше волнений и забот, чем все остальные дети. Склонный к приключениям и опасным играм, он уже в раннем детстве проявлял бесшабашную смелость: то убегал, забредая далеко от дома, то вываливался из лодки в море. В десятилетнем возрасте, прыгая по балкам строящейся крыши скотного двора, он упал и серьезно поранился, после чего время в семье делилось на эпохи: «до и после падения Густава с крыши»[8].
Регулярно обучать детей, живя в отдаленной усадьбе, куда даже почта приходила из-за плохих дорог раз в неделю, а то и реже, было не просто. Гувернантки и домашние учителя часто менялись, и Хелена без конца занималась поисками подходящих для этой роли иностранок, владеющих несколькими языками – обучение иностранным языкам родители считали первостепенной задачей, и дети должны были говорить по-французски и по-немецки. Домашним же языком Маннергеймов, как и многих образованных жителей Финляндии в конце XIX века, был шведский. Говорить по-фински не считалось в семье необходимым, и даже в 1905 году Густав относился к этому «языку простонародья» с пренебрежением и подтрунивал над сестрой Софией, собиравшейся учить финский. Ему самому пришлось все же осваивать этот язык дважды: в юности – чтобы сдать экзамены на лицейский аттестат, и позднее, в зрелом возрасте – чтобы завоевать популярность в армии и стране. Правда, он так никогда и не овладел финским в совершенстве.
Помимо домашнего, детям необходимо было дать и школьное образование. Поэтому зимой 1874–1875 года старшие мальчики, 9-летний Карл и 7-летний Густав, поселились с отцом в Гельсингфорсе, чтобы ходить в школу. Мать писала туда маленькому Густаву: «…и называют ли девочки тебя по-прежнему Патрон – Манная Крупа? Я надеюсь, что ты пользуешься своими сильными кулаками только для защиты своих более слабых товарищей»[9]. Вряд ли ее наставления помогали: в детстве он не мог совладать со своим буйным темпераментом и независимым характером.
В 1877 году вся семья, с прислугой, роялем и собственной коровой, переезжает на зимние месяцы в Гельсингфорс. В это время благополучная жизнь семейства Маннергейм кончается. Финансовые дела Карла Роберта стремительно ухудшаются, ни один из его многочисленных проектов не приносит прибыли. Он все реже бывает с семьей, и Хелене приходится одной нести все заботы – и хозяйственные, и воспитательные. Летом она возвращается в поместье, но собрать всех детей под одной крышей ей больше не суждено. Старшие учатся вдали от дома: Карл и Густав – в Гельсинфорсе, дочь София – в Стокгольме. Младшим по-прежнему пытаются подыскать домашних учителей, что совсем не просто: в те времена уже редко кто соглашался на жизнь в отдаленном имении. Кроме того, к осени 1879 года семья стояла на пороге полного разорения, и денег на оплату учителей и гувернанток больше не было.
Четверых младших детей отправляют к родственникам Хелены, а сама она остается коротать зиму в опустевшем Лоухисаари вдвоем с Густавом; в эти месяцы он не учится нигде – в ноябре его исключили из школы за серьезные по тем временам шалости: битье окон в компании еще нескольких сорванцов.
Покинутая мужем, больная, Хелена геройски пытается бороться с судьбой и даже начинает переводить с французского статьи для газет, чтобы заработать хотя бы немного денег. Она всерьез озабочена будущим Густава и тревожится за него более, чем за других своих детей. В декабре 1879-го она пишет сестре в Стокгольм: «…Мальчика невозможно заставить заниматься ничем, кроме игр с вырезанными из бумаги санями, лошадьми и тому подобным. Это дешевое домашнее производство, которым крестный Беккер смог увлечь мальчика, много раз спасало настроение. С ним все-таки гораздо легче справляться, когда он один, а не с братьями… Конечно, он часто виноват в серьезных проступках, но гордость не дает ему признаваться в этом, если я не больна и несчастна… Собираюсь обсудить с ним, не попытается ли он весной держать вступительный экзамен в кадетский корпус (в Фридрихсхамне), хотя знаю, что для него неприятно оказаться в русской армии… Он так безоговорочно направлен в сторону Швеции»[10].
При всем нежелании Густава оказаться в русской армии и неприязненного отношения обоих семейств – и Юлин, и Маннергейм – к России, другого выхода Хелена не видела: на обучение детей не было средств, а в кадетском корпусе Густав мог получить образование бесплатно. Но первая попытка поступить в третий класс реальной школы во Фридрихсхамне (Хамина), чтобы оттуда перейти в финский кадетский корпус, не удалась: Густав провалился на экзаменах. Пришлось поселить его на весь следующий год на квартире у дальней родственницы в том же городе, чтобы мальчик готовился к экзаменам и поступал вновь в 1881 году.
В сентябре 1880 родовое поместье Маннергеймов продавалось. Правда, оно осталось в семье: Лоухисаари выкупила сестра Карла Роберта, Вильгельмина. До этого была продана квартира в Гельсингфорсе, все коллекции картин и редкостей, собранные Карлом Робертом, и земли, которые Хелена получила в приданое. Пошли с молотка мебель и утварь, постельное белье и столовое серебро… Пришлось продать даже поместье матери графа, Евы Маннергейм. Крах был полный и окончательный. Все это время сам граф, скрываясь от кредиторов, не появлялся в Финляндии. Он пребывал за границей – и отнюдь не в одиночестве. Позднее он женится на своей возлюбленной, фрейлине Софии Норденстам, и в 1884 году у них родится дочь Маргерита.
Семейную катастрофу довершила смерть Хелены Маннергейм от сердечного приступа 23 января 1881 года, в неполных 39 лет. Она провела последние месяцы своей жизни в Селлвике, имении своей мачехи, куда после продажи Лоухисаари вынуждена была переселиться с младшими детьми. До последних дней она сохраняла присутствие духа и строила планы на будущее. Самообладание и мужество матери остались в памяти детей самым наглядным уроком борьбы с невзгодами. Незадолго до ее смерти, в рождественские праздники все они, кроме старшей дочери Софии, собрались вокруг Хелены. Густав тогда видел ее в последний раз. Дети, к счастью, не постигают всей глубины трагедии, и тринадцатилетний Густав не был исключением.
Г. Маннергейм – сестре С. Маннергейм
8 февраля 1881 г.
Милая София!
Ужасно сознавать, что ее нет, но теперь она счастлива. Всего тягостнее мне, ибо я больше всех нас испытывал ее терпение, и я никак не вынес бы этого, не будь мне известно, что она знала, что Папа приедет, чтобы закрыть крышку ее гроба. Во время похорон я был в Селлвике. Не успел купить черных чернил, и у меня болит горло, так что мне приходится писать красными – это вовсе не важно, когда я все-таки в душе скорблю. Не адресуй впредь твои письма Ректору, так как в этом случае ему приходится платить почтальону 5 пенни за каждое письмо. Прощай, Софи, и не заставляй меня ждать напрасно письма от Тебя.
Густав
Фридрихсхамн
Адрес: фрекен Брун[11].
Несчастье сблизило братьев и сестер: несмотря на то что после смерти матери им пришлось разлучиться, они никогда не теряли связи, переписывались и были очень дружны. Карл, старше Густава на два года, стал для всех остальных другом и советчиком, к нему обращались они в трудную минуту. Осиротевших детей «поделили» между собою родственники. Всех их нужно было подготовить к самостоятельной жизни – то есть в первую очередь дать образование. Старшая, любимая всеми братьями и сестрами София уже несколько лет жила в Стокгольме у тетки, сестры матери, готовясь к профессии учительницы. Карл жил и учился в Гельсингфорсе. Заботы о воспитании и обучении Густава взял на себя брат матери, Альберт Юлин. Младшие сестры Ева и Анника оказались в родном Лоухисаари на положении воспитанниц новой владелицы усадьбы Вильгельмины Маннергейм, сестры отца. Младших мальчиков, Юхана и Августина, забрал к себе в поместье Фискарс второй брат матери. Граф Маннергейм приезжал на похороны жены; несмотря на то что он покинул семью и не мог существенно помочь детям, он старался поддержать их морально и не потерять связи, регулярно обмениваясь письмами со старшими. Сразу же после похорон он пишет Густаву.
К. Р. Маннергейм – сыну Г. Маннергейму
Гельсингфорс, 7 февраля 1881 г.
Мой обожаемый мальчик,
мне было очень больно, что я не смог тебя повидать до того, как ты уехал в Фридрихсхамн. Вьюга помешала доехать до Карья в субботу, и нам пришлось перенести поездку на вчера.
Я беспокоюсь о том, как ты добрался, т. к. мы не встретились, и я не смог дать денег на дорогу. Почему ты не попросил денег у Калле или у Фрёкен? Дай мне знать, сколько ты потратил на поездку. Я высылаю тебе сейчас [нрзб.], а остальное – когда узнаю, сколько стоила поездка.
…Я надеюсь, что ты начал серьезно заниматься и таким образом чтишь память твоей матери. Будь прежде всего честен и правдив, и все у тебя будет хорошо, и ты заслужишь благосклонность учителей и доверие своих товарищей. Твоя мама смотрит оттуда, где она теперь находится, как ангел-хранитель, на своего ребенка…
Твой друг и отец[12].
Отец никогда не упускал случая прочитать нравоучение самому непутевому из своих детей. В октябре 1881 года он пишет Густаву из Нью-Йорка: «…Гарфилд, недавно умерший президент Соединенных Штатов, продемонстрировал, на что способна сильная воля. Он был беден и с детства должен был работать. Он начал учиться в пятнадцать лет. Когда разгорелась гражданская война, он присоединился к армии северных штатов, поднялся до генерала и исполнял свои обязанности лучше, чем многие другие… Несколько месяцев назад его избрали президентом, а его смерть вызвала такую глубокую печаль, что стало ясно, как высоко его ценили и какое необыкновенное доверие и уважение питал народ к этому ничтожному, бедному мальчику, который с такой непреклонной энергией, упорно и благородно стремился вперед»[13].
Приводя в пример Гарфилда, отец хотел внушить сыну, что отныне тот должен рассчитывать только на свои силы, если хочет добиться успеха в жизни. Но пройдет еще несколько лет, прежде чем Густав осознает, что у него нет другого выхода кроме того, что советовал отец: упорно и с непреклонной энергией стремиться вперед. А пока он, как и было задумано, поступает в кадетский корпус во Фридрихсхамне – единственное в Финляндии военное учебное заведение, готовившее офицеров. Эта военная школа пользовалась хорошей репутацией: многие выпускники ее весьма успешно продолжали службу в русской армии и сделали значительную карьеру. Для родственников, на попечении которых остались дети, поступление Густава было большим облегчением, но для него самого годы, проведенные там, были мрачной порой. Жесткая дисциплина и муштра казались ему бессмысленными, он постоянно получал взыскания, и отношения с учителями и начальством складывались далеко не лучшим образом. Кроме того, он скоро понял, что это учебное заведение не дает ему перспектив быстрой и успешной военной карьеры, и начал обдумывать возможности перевода в более престижную военную школу. Как всегда, самые серьезные и ответственные свои решения он обсуждал со старшим братом.
Г. Маннергейм – брату К. Маннергейму
Фридрихсхамн, 21 октября 1884 г.
Дорогой брат!
Спасибо за твое последнее письмо от 18 числа сего м<еся>ца. Перейду без всякого предисловия к вопросу о пажеском корпусе. Во-первых, поясню тебе по возможности коротко, каковы могли бы быть преимущества такого перевода.
1: получу, как ты знаешь, довольно безболезненно гвардейские права – это право весьма скоро у нашей школы отнимут. Начиная с этого года она будет посылать офицеров в гвардию только, если средняя оценка их диплома 10,0 и если будет вакансия, которая может открыться лишь по счастливой случайности, так как в настоящее время в каждом гвардейском полку в среднем с десяток лишних офицеров. Как видишь, дело не зависит единственно от собственных усилий, чтобы отсюда попасть в гвардию. Если я закончу эту школу, у меня, следовательно, остается две возможности: идти либо в артиллерию, либо в пехоту. Артиллерия – еще куда ни шло, но попав в пехоту, я, по всей вероятности, отвыкну от нашей жизни, если похороню себя в каком-нибудь жалком батальоне в средней России. Если же я попаду в число военных нашей собственной страны – где через два года все места будут уже заполнены, то мне придется – поскольку сверхштатные офицеры не получают в Финляндии жалованья – служить на свои средства, за одно лишь тощее вознаграждение в виде чести в надежде, что через несколько лет вакансия, возможно, представится. Это обойдется гораздо дороже, чем окончание пажеского корпуса. Может статься, получу, – если мне будет сопутствовать счастье, – место в батальоне Куопио, Миккели или т. п., откуда, отслужив свои лучшие годы, выйду в отставку штабс-капитаном или капитаном и, поселившись в каком-нибудь запущенном поместье, буду ковырять н<аво>з и возить его на поле – опустившийся, отупевший и непригодный служить своей стране сколько-нибудь значительным образом. 2: выучу в пажеском корпусе очень основательно русский, французский и немецкий, а ведь владение языками важно, какую бы карьеру я ни выбрал. 3: смогу засчитывать годы службы со специальных классов. 4: в России меня будут больше ценить. 5: мне будет сравнительно легко через посредство моих товарищей приобрести знакомства в Петербурге – у финских офицеров их обычно не так много, да и те зачастую весьма сомнительные. 6: как камер-паж попаду ко двору, что в будущем может принести мне большую пользу.
В эту минуту больше не найду других преимуществ, но, как видишь, и вышеперечисленные довольно значительны. Приведенные тобой доводы говорят, правда, против этого перевода, но они не столь решающие, чтобы из-за них я переменил свое мнение. Я даже не хочу ни малейшей отсрочки перевода, так как курсы в старших классах здесь и там разнятся гораздо больше, чем сейчас. Мне доведется, конечно, испытать множество трудностей из-за языка, но какой же я к черту мужчина, если бы позволил запугать себя этим. Что же касается того, что наступит отчуждение и я обрусею, – то, напротив, я уверен, что почувствую бо́льший интерес к своей стране и буду лучше вникать в ее обстановку после того, как испытаю тоску по родине и смогу посмотреть на ход событий издалека. Это так же, как на поле боя, где трудно следить за развитием событий, если сам находишься посреди сражения, но можно легко наблюдать их на расстоянии. Несомненно, самая веская причина – финансовая сторона дела, но на это расходуется – по крайней мере, по рассказам бывших и нынешних пажей – отнюдь не так много денег, как обычно утверждают. Тебе, конечно, знакомо изречение: «нет пророка в своем отечестве», и оно свидетельствует, что уже в древности считалось полезным на какое-то время покидать родину. Впрочем, могу сообщить тебе, что мое поступление отнюдь не гарантировано. Правда, я убедил Папу послать туда прошение от моего имени. Я также получил вакансию, но наш начальник не соизволил отпустить меня в нынешнем году. Поэтому я поговорил с Бабушкой, чтобы она попросила дядю Вулферта употребить свой авторитет для моего перевода. Стало быть, я еще не могу знать, как дело повернется. Получил от Папы несколько дней тому назад письмо именно по поводу пажеского корпуса. Он, кстати, просит, чтобы я передал тебе его сердечные приветы и рассказал о семейном событии: с 15 числа сего м-ца у тебя есть маленькая сестра, которую зовут Софи Маргарита. Малышка, говорят, очень хорошенькая. Папа пишет, что общество ребенка занимает и утешает госпожу матушку, когда та остается одна. Мне надо бы отправить письмо Папы тебе, но оно мне еще нужно, и кроме того, я рассказал тебе все, что не касается непосредственно меня и моего перевода – исключая то, что Папа надеется, что вскоре сможет показать нам свою bebe. От дяди Эмиля[14] во время его пребывания здесь слышал, что Папа получил должность на одной бумажной фабрике с месячным окладом 500 франков. Его нынешний адрес: Paris, 29 rue Jacob.
Ты, наверное, удивляешься, что мое письмо придет намного позднее, чем оно написано. Но это происходит оттого, что я написал половину письма и отложил его, а на следующий день заболел дизентерией, из-за которой лишь сегодня оказался в состоянии дописать мою эпистолу до конца. Правда, я все еще в лазарете, но уже выздоравливаю. Если мой перевод состоится, мне, по-видимому, придется ехать прямо в Петербург. Постараюсь вовремя сообщить тебе, когда буду проезжать мимо Перкярви. Поблагодари от моего имени дядю С.[15] за его любезное приглашение в Тервола.
В заключение хотел бы еще сказать, что я совершенно не сержусь на твои советы и предложения – напротив, очень благодарен за них, но если бы я им последовал, то поступил бы против своих убеждений. Будь здоров, дорогой брат.
Твой преданный брат Густав[16].
Не каждый семнадцатилетний юнец способен так здраво рассуждать и аргументировать, но – увы – из-за постоянных дисциплинарных нарушений хлопоты родственников по переводу в Пажеский корпус не увенчались успехом, хотя поводом для отрицательной рекомендации начальник училища почему-то выдвинул недостаточное знание кадетом Маннергеймом русского и французского языков. Густав чувствует себя в кадетском корпусе все хуже и его письмо брату, отправленное еще через пять месяцев, – настоящий крик отчаяния.
Г. Маннергейм – брату К. Маннергейму
Фридрихсхамн, 22 марта 1885 г.
Дорогой брат Карл!
Твое письмо от 2 с<его> м<есяца> было очень веселое. Сердечное спасибо за это. Ч<ер>т знает, почему я так долго мешкал с ответом, самая большая причина все-таки мое кошмарное настроение. Я, видишь ли, две-три последние недели был в адски плохом настроении, потому что мне, как обычно, пришлось перенести тысячи неприятностей. Думалось бы, что ежедневная, даже ежеминутная тренировка должна была бы приучить переносить всевозможные дрязги, но могу заверить, что это совершенно не так.
…Мы только что получили табель успеваемости. Я поднялся на четыре балла, и оценки у меня неплохие. Но, хотя я только раз сидел под арестом, причем несправедливо, проклятое начальство оставило скверную оценку по поведению прежней. Это такая огненночертовски свинская компания, такой дьявольский сброд, что это невозможно даже вообразить. Я весь этот семестр просидел взаперти, и такое будет продолжаться по крайней мере до лета. Тот, кто не сидел пять месяцев в тюрьме, не может даже представить себе, насколько это деморализует и во всех отношениях вредит. Теперь прошло только немногим более двух с половиной месяцев [с рождественских каникул], а я уже много раз был близок к тому, чтобы совершить бог знает какие безумства.
Пасху проведу здесь pro1: потому что никто пока не пригласил меня к себе, и даже если кто-нибудь из Юлинов и пригласил, я бы не поехал, потому что у меня pro 2: нет средств на это, так как на те 25 марок, которые я обычно получаю на дорогу, никуда не доедешь, и я действительно в долгах по уши, даже если бы больше не занимал. За все время Пасхи я не попаду в город. Ну, может, один какой-нибудь раз смогу добыть себе увольнительную. Не представляю, черт возьми, как выдержать в этой школе дольше, чем до конца года. Охотнее, в тысячу раз охотнее буду подметальщиком улиц в каком угодно захолустье, чем кадетом во Фридрихсхамне.
Вот здорово, что Бахус наконец женился. Можешь передать ему мои поздравления устно – ибо я даже при всем желании не в силах написать ни одного радостного слова.
Во вторник через неделю у нас начинаются пасхальные каникулы. Куда ты намерен поехать на каникулы? От Папы получил письмо; он очень хочет знать, что у тебя слышно. Прилагаю его эпистолу к этой.
Ну, прощай, братец. Пиши скорей, потому что я скоро в этом аду совсем ошалею.
Твой преданный брат Густав[17].
Но все-таки Густав выдержал еще целый год до того дня – это была страстная пятница, 23 апреля 1886 года, – когда, уложив вместо себя в кровать свернутую из шинели куклу, отправился в самоволку. Единственное место в городе, где он мог искать утешения, был кабак при городском постоялом дворе. На следующее утро его обнаружили спящим в доме вчерашнего собутыльника, начальника городской телеграфной станции Агафона Линдхольма, пользовавшегося сомнительной репутацией. В результате этого ночного приключения Густава без лишних разговоров исключили из корпуса с формулировкой «за аморальное поведение». Отцу Густава все же разрешили подать прошение о добровольном отчислении сына. Это спасло Густава от «волчьего билета», давая ему возможность поступать в другие учебные заведения, в том числе военные[18].
В то время вряд ли кто-нибудь провидел в юном нарушителе дисциплины будущего маршала Финляндии, президента Финляндской республики и – пускай это звучит высокопарно – спасителя отечества… Серьезная на тот момент жизненная неудача обернулась счастливым случаем, решившим всю будущность Густава Маннергейма, и через 60 с лишним лет он напишет об этом в мемуарах: «На прощанье я сказал своим товарищам по корпусу: теперь я поеду в Петербург, в Николаевское кавалерийское училище, а потом поступлю в кавалергардский полк! Этот шаг, хотя я тогда этого ясно и не сознавал, стал решающим для моего будущего, поскольку он вывел меня из круга ограниченных возможностей моей родины и дал возможность сделать карьеру в других, более значительных условиях»[19].
Той же весной семью вновь постигло большое горе – в Петербурге, в лазарете Смольного института, умерла самая младшая из детей, Анника. В 1884 году родственникам при помощи влиятельных петербургских знакомых удалось пристроить ее в Смольный институт, где живая и талантливая девочка страдала от одиночества, тосковала по дому, беспрерывно болела и, в конце концов, угасла. Она писала трогательные послания брату Карлу и сестре Еве.
А. Маннергейм – брату К. Маннергейму
Надбелье, 8 августа 1885 г.
[усадьба друзей семьи Дашковых, где Анника гостила в каникулы]
Дорогой Калле!
Думаешь ли ты приехать в Петербург будущей зимой? Я не могу сделать рождественских подарков, потому что каникулы в институте только неделю или две, из которых лишь три дня позволено провести вне его стен. Остальное время нужно быть внутри. … Ты не можешь даже представить, как радостно получать письма из Финляндии. Еще не знаю, в какой класс пойду в этом году. Знаю только одно: при выходе отсюда я буду не намного умнее, чем при поступлении сюда. Я всегда считала, что здесь не особенно многому научишься. А сейчас слышала и от многих других, что здесь совсем ничему не учат. Так что мечтать совершенно не о чем. Буду терять здесь время, пока мне не исполнится 19, а после этого лучше оставаться в России – что я стану делать со своими знаниями из русской истории и грамматики в Финляндии или Швеции? Похоже, что вся моя блестящая будущность строится на том, что из меня получится домашняя учительница в семье русского генерала (или какого-нибудь другого русского таракана), и всю оставшуюся жизнь я проведу в России.
…В институте все мои письма читают (и те, которые пишу, и те, которые получаю). Финский пастор переводит их классной надзирательнице. Если я напишу об институте что-нибудь плохое (например, что еда невкусная), мне приходится переписывать все письмо заново. Поэтому не верь тому, что я оттуда пишу. Если же ты напишешь что-либо, что им не понравится, я никогда не получу твоего письма.
До свидания, дорогой Калле, и передай привет всем от твоей преданной сестры Анники.
А. Маннергейм – сестре Е. Маннергейм
Смольный, 9 февраля 1886 г.
Милая Ева, огромное спасибо за портрет Августа. Не могла написать раньше, потому что опять болела. Ужасная тоска быть все время взаперти в этом Смольном.
Вижу только белые стены Смольного – и даже ни крохотного кусочка Петербурга. Поскольку я до сих пор не говорю по-русски, я попала в класс, где девочки ничего и ни о чем не знают, грязнули, и у них нет даже манер. Меня они терпеть не могут. Они считают меня франтихой, потому что у меня нет, как у них, черноты под ногтями. Они похожи на поросят. К тому же я старше всех в классе и выше ростом, так что можешь себе представить, до чего у меня неприятная тут жизнь.
…За всю зиму я только один раз была на улице, поэтому ты даже не представляешь, как странно мне кажется видеть солнце. Как будто я в тюрьме… и тогда я начинаю думать о Финляндии, Лоухисаари, и обо всех вас. Да, обо всем, кроме Смольного. И перестаю, только когда расплачусь. Кажется, что до лета целая вечность. Тогда я попытаюсь нагнать все, что потеряла за зиму, потому что здесь ничему новому не научилась. Если бы я могла избежать возвращения сюда и поехать с тобой в школу в Стокгольм. Это, должно быть, невозможно – и все-таки это мой единственный воздушный замок…[20]
Карла вызвали к больной сестре в Петербург телеграммой, но он опоздал – Анника умерла за несколько часов до его приезда. Гроб с ее телом Карл доставил в Лоухисаари, и Аннику похоронили в фамильной усыпальнице. Густав в это время готовился к поступлению в лицей и на похороны не поехал. Видимо, в это время в его характере происходит какой-то перелом. Отныне он будет «с непреклонной энергией стремиться вперед»: все остальное, даже судьба близких, навсегда отходит на второй план.
Г. Маннергейм – сестре С. Маннергейм
Гельсингфорс, 19 мая 1886 г.
Дорогая София!
Только что получил твою телеграмму, милая сестра. Даже при всем желании не попадаю на похороны. Во-первых, у меня нет денег на поездку, и я не представляю, как их добыть. Во-вторых, у меня нет черной одежды, которая, наверное, обязательна на похоронах. В-третьих, мне нужно изо всех сил заниматься, чтобы осенью поступать в какое-нибудь русское военное училище, и из-за этого мне трудно пожертвовать тремя днями, которых поездка потребует, по меньшей мере. Как видишь, милая София, желание приехать у меня не отсутствует, но на пути встали действительно большие препятствия. О смерти Анны, нашей любимой сестрички, я получил известие уже вчера вечером, когда Карл телеграфировал из Питера, куда он, к несчастью, успел на пару часов слишком поздно. Да, милая София, для нас жестокий удар, что мы потеряли нашу младшую сестру, ведь нам, кроме друг друга, некого любить и не на кого опереться. Но, наверное, нам нужно считать ее судьбу счастливой – что она, едва ли успев вкусить радостей или горестей жизни, уснула и ушла к той, которая по ту сторону могилы встречает своих детей. Анна из всех нас первая смогла встретиться с мамой, и это отнюдь не может быть несчастьем, хотя ей и пришлось уйти, не простившись со своими близкими.
Уже так поздно, что мне нужно заканчивать. Я совсем не намеревался утешить тебя в горе, я знаю, что оно так глубоко, что несколько строк не могут его уменьшить, – но я хотел только сообщить, что для меня невозможно попасть на проводы праха Анники.
Твой преданный брат Густав[21].
Летом того же года Густав отправляется в Харьков к родственнику Юлинов, барону Э. Ф. Бергенгейму[22], основателю и владельцу одного из харьковских заводов. Видимо, опекун Густава дядюшка Альберт хотел, чтобы племянник поупражнялся в русском языке и, главное, воочию увидел Россию и армию, прежде чем принимать какие-то жизненно важные решения. Из Харькова Густав вслед за своим учителем русского языка, капитаном Сухиным, отправляется в близлежащий городок Чугуев, в летний военный лагерь, где тот служит. Там юноша проводит несколько недель, занимаясь русским языком и верховой ездой, присматривается к военной жизни. Первые впечатления таковы, что он готов отказаться от своих замыслов о военной карьере.
Г. Маннергейм – А. Юлину
Чугуев, 10 августа 1886 г.
Дорогой Дядя!
Сердечное спасибо Дяде за письмо от 20 июля. Я последовал, как Дядя видит, за Сухиным в лагерь и пробыл уже пару недель здесь, в Чугуеве. Чугуев – очень приятное место, и я мог бы рассказать о нем всякую всячину, но на этот раз не успею, потому что гораздо более важные дела заставляют меня писать Дяде.
Здесь, в России, я попробовал вникнуть в положение военных великой отчизны. И чем глубже я нырял в это море, которое называют Российской армией, тем более мутной и тем менее соблазнительной казалась мне вода. Полученные мною сведения разрушили многие мои иллюзии, и я смотрю на военную жизнь совсем иными глазами, чем прежде. В своем воображении я водрузил Российскую армию на высокий пьедестал, но пьедестал этот теперь сильно понизился. Кроме того, служба в финансовом отношении далеко не так выгодна, как я представлял. Оклад невероятно мал. В гвардейской кавалерии, как и в большинстве армейских кавалерийских полков, младший офицерский состав на жалованье прожить никак не может. Генеральный штаб, который представлялся мне блестящим, – обиталище лакеев. Капитаны, подполковники, даже полковники Генерального штаба – на посылках у командира корпуса. Перечислю некоторые оклады, чтобы Дядя сам увидел, каково финансовое положение офицеров.
Корнет или подпоручик получает в год 500–600 рублей, поручик 530–630, штабс-капитан или штабс-ротмистр 600–700 рублей, капитан или ротмистр (каковым обыкновенно становятся после 15–20 лет службы) – около 1000 рублей и т. д. У полковника и командира полка не больше, чем 4000 рублей в год, и ему нужно из этих денег оплачивать также свои представительские расходы, а у командующего корпусом (в России всего 19 корпусов) самое большее – 7000 рублей. Как видит Дядя, здесь военных не соблазняют мирской маммоной. Кроме того, могу ручаться, что заслуги и знания ничему не помогут, а хорошую карьеру можно сделать, только если умеешь пресмыкаться и втираться в доверие. Конечно, в военной жизни есть свои положительные стороны, и я уверен, что мог бы как офицер обеспечить себе довольно приличную будущность, но, может быть, умнее все же вернуться в Финляндию, сдать экзамен на аттестат и затем прочно взяться за какую-нибудь штатскую профессию. Тогда я был бы полезен моей стране и избежал бы сидения на кислой капусте здесь, в России, и постепенного таким образом обрусения.
Если Дядя одобрит это предложение, я вернусь через несколько недель в Финляндию, подучу в течение пары месяцев с Калле финский язык в Руовеси и затем подготовлюсь к экзаменам на аттестат. В ином случае останусь здесь и попробую действовать в соответствии с пословицей: «посадил ч<ер>та в лодку – вези до берега». Прилагаю список всех расходов, которые у меня были летом. Я много пользовался извозчиком, потому что расстояния в Харькове такие длинные, что редко бывал случай идти пешком даже к моему преподавателю (дорога туда и обратно к Сухину по жаре занимает полных два часа). Употребление напитков опять-таки из-за того, что харьковскую воду нельзя пить. Госпоже Сухиной отправил цветы, когда она уезжала, поскольку хотел поблагодарить ее за то, что в отсутствии мужа она пестовала меня. Я иногда также съедал лишнюю порцию, если встречал очень соблазнительные фрукты или, просидев у Сухина 5–6 часов, был так голоден, что не в состоянии был ждать обеденного времени.
Барону Бергенгейму было от меня больше расходов, чем прибыли. Вначале он получил через меня 150 рублей. Из них он дал мне 10 руб. После того, как я отправил предыдущий отчет, при этом в остатке было 140 руб., он оплатил следующие расходы: телеграмма генералу Калониусу, где запрашивается
свидетельство о моем обучении – 5 руб. 40
мне – 61
Сухину за уроки до окончания лагеря 21/9 сентября – 75
также за жилье здесь в Чугуеве – 15
также за питание здесь – 22. 50
также за чай – 7. 50
Итого – 186. 40
186,40 ─ 140 = 46, 40 – которые заплатил барон Б<ергенгейм>. Кроме того, у меня счет на 15 рублей от портного за некоторую летнюю одежду. А именно, у меня с собой из Финляндии был только один летний сюртук, и я купил к нему брюки&жилет, а также еще один костюм.
Прощай, дорогой дядя, больше не успеваю сейчас. Извини за небрежное письмо, я так ужасно спешу. Мои сердечные приветы всем.
Дядин преданный
Густав[23].
Густав еще долго будет вынужден давать дядюшке Августу денежные отчеты: у него самого нет никаких средств, и он полностью зависит от дяди. Он колеблется в выборе будущей профессии: служба в российской армии имеет много преимуществ, не последнее из которых – избавиться от опеки родственников. И одновременно пишет брату Карлу: «Мой учитель Сухин говорит, что если я буду все время так же прилежен, как до сих пор, то осенью 1887 могу поступать в Николаевское кавалерийское училище[24] в Петербурге. Я не хотел бы становиться офицером армейского полка, но после гвардейского кавалерийского училища можно сделать хорошую карьеру»[25].
И в следующем письме: «Я начинаю убеждаться, что мне больше подходит сидеть на коне и сражаться с саблей и пистолетом в руках, чем чахнуть на украшенном кожей конторском стуле, с утра до вечера переписывая сухие документы. Но я еще не принял решения ни за, ни против. Ты не представляешь, как трудно, когда внезапно приходится выбирать из нескольких разных профессий, когда в течение многих лет думал об одной»[26].
Густав вернулся в Хельсинки и поступил в последний класс частного лицея, чтобы сдать весной выпускные экзамены. После этого можно было продолжать образование в университете или поступать в какое-нибудь высшее военное учебное заведение. В его планы чуть было опять не вмешалась судьба – он заболел тифом. Это на время прервало занятия. Но Густав переменился совершенно: целеустремленность стала отныне одним из главных свойств его характера. Он успешно сдал все предметы: русский и французский – на отлично, и даже по финскому языку, который у него изрядно хромал, получил тройку. Он записывается на философский факультет Императорского Александровского университета[27], на отделение истории и языкознания. Но выбор им уже сделан: академическая карьера его не привлекает совершенно и, как он уже признавался брату, ему больше по душе размахивать саблей и скакать на коне. Летом он опять едет в Россию, на этот раз в семью своей крестной Альфильд Цедеркройц, которая была замужем за генералом М. П. Скалоном де Колиньи[28]. Густав проводит месяц в поместье крестной Лукьяновка под Курском, упражняясь в русском языке и отдыхая душой в дружеской и теплой атмосфере, царящей в доме Скалонов. Затем он едет в знакомые уже места – в Харьков и Чугуевский военный лагерь, где вновь берет уроки русского языка и принимает участие в маневрах. Чтобы получить возможность поступать в Николаевское кавалерийское училище, приходится задействовать связи: здесь Густаву помогает его вторая крестная, сестра первой, – Луиза Цедеркройц. Ее муж, барон Аминов, хорошо знаком с начальником училища генералом фон Бильдерлингом[29]. Густав получает разрешение держать вступительные экзамены, куда входят математика, физика, законоведение, французский и русский языки – и поступает. Первый барьер взят. Он попал в учебное заведение, открывающее путь к желанной цели, в гвардейскую кавалерию.
Г. Маннергейм – родственникам
Петербург, 14 сентября 1887 г.
Мои братья, сестры и родные.
Последнее прости. Меня сегодня приняли в кавалерийское училище. Через час я надену униформу. Разделите мое наследство! Юхан пусть возьмет нагайку. Обувь могу сам сносить на каникулах. Книги можно вполне присоединить к тем, что я оставил в Хельсинки. Спасибо за фрак, Карл; надеюсь, на нем нет никаких повреждений.
Прощайте. Густав (отщепенец)[30].
Обучение в элитных военных школах обходилось недешево. Но дядю Альберта это не испугало – он понимал, что вкладывает средства в будущее племянника. Положение бедного родственника и вечное безденежье все же заметно омрачало первые годы жизни Густава в России.
Г. Маннергейм – А. Юлину
Кавалерийское училище, 15 сентября 1887 г.
Дорогой Дядя!
Меня только что приняли в кавалерийское училище и я еще так зелен, что не осмеливаюсь попросить чернила у своих товарищей. Но поскольку у меня сейчас есть немножко свободного времени, не хочу упустить возможности рассказать тебе, как у меня дела и одновременно поблагодарить за то, что Дядя любезно обещали дать мне годовое содержание. По поводу денег еще не знаю ничего, кроме того, что через несколько дней получу от генерала Бильдерлинга письменное извещение, в соответствии с которым мне в этом году нужно уплатить 400 рублей за обучение и 150 за снаряжение. В будущем году нужно будет платить только за обучение. Выплатить нужно сразу же, и это можно сделать в Финляндии. Сообщу об этом позднее. Вдобавок мне нужна в самом начале солидная сумма на первое обмундирование: мундир, сапоги и проч. Эти расходы уменьшатся в течение года, но во время летних лагерей снова возрастут. Смету на лето я вышлю Дяде сразу же, как у меня будет так много свободного времени, чтобы успеть разобрать бумаги и переписать их набело. Могу все-таки сразу сообщить, что барон Бергенгейм летом уплатил за меня 350 рублей и я занял у господина Бруна 50 руб. Мое лето обошлось так дорого в основном потому, что лагерь в этом году был много дороже, чем в прошлом, кроме того, я участвовал в нескольких маневрах (так что нужно было платить за лошадь). Вдобавок я брал во время лагеря уроки русского языка и верховой езды.
Здесь ужасно тиранят нас, младших. Ничего другого пока об училище сказать не могу. Было бы превосходно, если б я мог получить приглашение к какому-нибудь высокому сановнику. Думаю об этом не только ради каникул, а потому, что чем больше знакомств со значительными персонами, тем больше ценит начальство. Поезжай в Харьков! Заезжай повидаться со мной! Больше не успеваю, гремит барабан.
Мои сердечные приветы. Твой преданный племянник Густав[31].
Смолоду оценив значимость личных связей, Маннергейм научился в Петербурге и этому искусству и затем в течение всей жизни умел завязывать полезные и важные знакомства. Позднее круг его знакомых был чрезвычайно обширен и разнообразен – в него входили голландский принц Хенрик и видный нацист Геринг, русские офицеры-эмигранты и европейские аристократы.
После финляндского кадетского корпуса оказалось нелегко привыкать к порядкам в Николаевском кавалерийском училище, где процветали издавна укоренившиеся традиции. Главным и неизбежным злом было «цуканье» – издевательство юнкеров старшего курса над младшими. Учащиеся младшего курса именовались «зверями», старших же нужно было величать «господин корнет», хотя корнет – первое офицерское звание, которое присваивалось только после окончания училища, при зачислении в полк. «Звери» не имели права ходить по тем же лестницам, что и старшие юнкера, должны были выполнять бессмысленные и часто жестокие задания старших и т. д. Но в Школе, как юнкера называли свое училище, были и забавные обычаи. Бывший воспитанник Николаевского училища, финляндец Эдуард фон Менд (он поступил туда на семь лет позже Маннергейма), вспоминал незадолго до Второй мировой войны: «Не ласково встретила нас Школа. Везде, в прихожей, на лестницах, во взводах, юнкера старшего курса как-то странно поглядывали на нас, а некоторые из них встретили нас со свирепым видом, критически нас разглядывая. Все время раздавались выкрики: „Смирно, сугубые звери!“, „Круугом, трепещи молодежь!“, „Ну-ка, сугубец, явитесь корнету“ и тому подобные, не особенно подбадривающие возгласы. …В Николаевском кавалерийском училище строго придерживались старых обычаев, и его традиции передавались от выпуска к выпуску.
Центром всех традиций Школы являлся знаменитый юнкер, поэт Лермонтов, написавший, между прочим, столь известную „Звериаду“, этот воистину юнкерский гимн. Поколение за поколением юнкеров старшего курса пело эту „Звериаду“ в стенах училища, при исполнении которой юнкера младшего курса должны были стоять „смирно“ и с „сердечным трепетом“ прислушиваться к мотиву и словам песни. Эта бессмертная „Звериада“, сближая между собой юнкеров, продолжала сближать всех даже и после окончания училища.
…Одной из важнейших традиций, строго исполнявшихся с основания Школы, были „похороны“ инспектора классов, что происходило два раза в год, в декабре и весною по окончании экзаменов. В этих похоронах принимал участие весь старший курс. Готовились к похоронам тщательно и долго. Собирали старые формы различных кавалерийских полков, гражданские мундиры, фраки, бухарские халаты, черкески и даже монашеские рясы. Появлялись парикмахеры с париками и бородами. В 4-м взводе, в котором обыкновенно были юнкера маленького роста, накапливались костюмы балетных танцовщиц, монашенок и просто дамские траурные платья. В самый день похорон в эскадроне происходила необычайная суета., а в 9 час. вечера начинались сами похороны. Всегда хоронили инспектора классов, как представителя науки, старого генерала Цыргу. …В обряде похорон младший класс принимал лишь пассивное участие, стоя шпалерами по пути следования кортежа, причем форма одежды была довольно оригинальной: ночная рубашка, поверх ее кушак, за спиной винтовка и в руке зажженная свеча. …После всех церемоний младший курс, полный впечатлений, ложился спать, а старший собирался в „корнетских углах“ на поминки, продолжавшиеся до ранних часов.
Школьное начальство, сами бывшие юнкера, конечно, знало о дне похорон и о некотором беспорядке, вызываемом ими в монотонной казарменной жизни эскадрона, но благосклонно закрывало на все это глаза и уши. Сам генерал Цырга, прослуживший около 20 лет инспектором классов, всегда очень интересовался своими похоронами и как будто был даже доволен, узнав, что его похоронили с установленной традициями помпой.
Когда я был уже на старшем курсе, школу принял строгий генерал, Павел Плеве[32], враг всех училищных традиций и цуканья молодежи. Он, между прочим, строжайше запретил хоронить Цыргу. Все же, с большим риском, но к Рождеству похороны мы устроили…»[33]
Обучение в Николаевском кавалерийском училище продолжалось всего два года, но это была очень интенсивная и тяжелая работа. Маннергейм занимался прилежнее многих своих товарищей; во всяком случае, ему приходилось при этом затрачивать гораздо больше усилий. Во-первых, нужно было осваивать чужой и трудный русский язык. Во-вторых, материальная помощь родственников обязывала к особому рвению. В-третьих, и это было главным, Густав был честолюбив. Путь к успешной карьере во многом зависел от того, как он закончит курс и в какой полк вступит после окончания училища. Ему очень пригодились закалка и навыки, полученные в детстве – условия жизни в училище были достаточно суровыми, температура в помещениях редко поднималась выше 10 градусов. Особенно хорошо Густаву удавалась верховая езда; лошади и все, что их касалось, живо интересовало его, иппология[34] стала его любимой наукой. Короткие каникулы и отпуск после тяжелого тифа, вновь перенесенного в конце 1887 года, Густав проводил в Финляндии у родных.
Летом все училище перебазировалось в Красное Село, где находились летние лагеря кавалерийских гвардейских полков столицы и где в конце августа окончившие курс юнкера получали первое свое офицерское звание корнета. Сам государь-император Александр III, объезжая строй, поздравлял новоиспеченных офицеров. Выпускники имели право выбрать полк, в котором они хотели бы служить, – при условии, что там имелась вакансия. Густав начал размышлять над различными вариантами задолго до окончания курса. При этом ему приходилось, кроме прочих трудностей, преодолевать сопротивление, которое его честолюбивые планы вызывали в семье.
Г. Маннергейм – А. Юлину
Петербург, 30 апреля 1889 г.
Дорогой Дядя!
Уже ранее, и особенно в мой последний приезд в Гельсингфорс, мне показалось, что люди, мнением которых я дорожу, считают ошибочным и нелепым, что я стремлюсь в гвардию, хотя у меня нет состояния. Очень печально, что мои действия истолковывают так неверно. Особенно огорчительно, если и Дядя, который всегда был мне ближе, чем другие, принимает мои устремления только за легкомыслие, хвастовство, тщеславие и т. п. Я и сам понимаю, что мои действия могут на первый взгляд таковыми показаться. Именно поэтому, и потому, что я ни за что не позволил бы возникнуть между нами недоразумению, хочу сейчас раз и навсегда объяснить Дяде, почему я желаю служить в гвардии. Обращаюсь к ясному уму Дяди и его здравой критической мысли, когда прошу, чтобы Дядя в этом важном деле взвесил – какие доводы говорят в пользу моих надежд, а какие против, и объявил мне о своих выводах.
Когда я выбирал гвардию, хотя жизнь там немного дороже, чем в армейских полках, я лишь думал, что был бы неблагодарным, если бы не проявил себя достойным всех сделанных для меня жертв. Я не заслуживаю всех благ, растраченных на меня, если не буду всеми способами стремиться возможно скорее обходиться своими силами и продвинуться так далеко, как только возможно. Самый верный путь в этом отношении предоставляет гвардия вкупе с академией. Мое истинное желание – пройти академию и таким путем попасть в Генеральный штаб. Все же, поскольку поступление в академию здесь, в России, где никогда нельзя надеяться на справедливость, совершенно зависит от случая, я должен всячески поддерживать свои возможности. И поскольку у меня нет ни высокого покровителя, ни состояния, мне нужно завоевать рекомендации, служа в отличном полку, так как мундир значит в России даже больше, чем можно представить. Я мог бы перечислить целую группу молодых офицеров, которые по полному произволу отправлены были вон из академии за несколько месяцев или недель до выпускных экзаменов по той лишь причине, что они носили мундир армейских полков, и это, на их беду, не понравилось кому-нибудь из профессоров.
А если такой офицер, несмотря на трудности, закончит академию и попадет в Генеральный штаб, он там не имеет даже приблизительно тех преимуществ, какими обладают его товарищи, которые, к своему счастью, являются гвардейскими офицерами. Из армейских полков переводят в Генеральный штаб чином ниже, чем из гвардии, и поскольку в генштабе повышение в чине происходит раз в три года, я, стало быть, отставал бы от своих сослуживцев из гвардии ровно на три года.
Вдобавок, если я буду безвестным офицером армейского полка и без рекомендаций, меня отправят в какой-нибудь провинциальный штаб, где много труднее выдвинуться, чем ежели, благодаря гвардейским связям, меня определят в Петербург или какую-нибудь другую столицу империи, где при нужде я всегда был бы под рукой.
Опять-таки, если пойду в гвардию, оттуда в академию, а оттуда в Генштаб, можно с математической точностью рассчитать, что через девять лет я буду подполковником, даже если не будет ни войны, ни других особых условий для получения повышения (3 года в гвардии + 2 ½ года в академии и оттуда переведенным в Генштаб капитаном + 3 года в чине капитана). В армейском полку дело будет гораздо сложнее.
Дядя наверняка понимает, что это весомые обстоятельства. А если еще принять во внимание, что армейские кавалерийские полки – не считая двух полков пропойц, из которых один расквартирован в Москве, а другой в Твери, – находятся в местечках, где нет другого общества, кроме полковых офицеров, а они, в свою очередь, в большинстве своем грубые, необразованные бывшие армейские юнкера, то и на самом деле нет желания становиться на этот путь. Почти все служащие в России финляндцы, которые впоследствии попали на высокие государственные должности, а также боvльшая часть нашего высшего офицерства, начинали свою служебную карьеру в русской гвардии.
Из гвардейских полков я, со своей стороны, ставлю на первое место кавалергардский, потому что там, как нигде, возможно сделать быструю карьеру. Это единственный полк, который попадает ко двору. Императрица – командир полка, она знает офицеров поименно, и так же знает их петербургский высший свет.
Товарищеские связи крепче и дух полка выше, чем в любом другом полку во всей империи. У кавалергардов даже до забавного высокая репутация по всей России, и его мундир – самая лучшая рекомендация. Охарактеризую в двух словах: можно без преувеличения утверждать, что его положение относительно гвардии такое же, как положение гвардии относительно армейских полков.
Надеюсь, всего этого достаточно, чтобы дать Дяде представление о том, какой важный выбор мне предстоит через несколько недель; он повлияет поистине решающе на всю оставшуюся жизнь. Также надеюсь, что мои аргументы убедят Дядю в том, как выгодно служить в полку, являющемся лучшим в России.
Я надеялся, что встречусь с Дядей до своего возвращения в Петербург, чтобы побеседовать об этом деле устно. К сожалению, не удалось, а в письменном виде это происходит несколько медленнее. Все же я написал столь длинно, что разумнее сейчас закончить.
Сердечные приветы тете, Софии и двоюродным.
Дядин преданный
Густав[35].
Дядюшка не только внял доводам племянника, но и нашел выход из затруднительного финансового положения. Он договорился с бабушкой Густава Луизой фон Юлин (на самом деле она была мачехой Хелены и одновременно ее теткой, т. е. приходилась Маннергейму двоюродной бабушкой), что Густав может в течение трех лет ежегодно брать в долг 20 000 марок из суммы, которую Луиза собиралась оставить всем детям Хелены по завещанию. Кроме того, дядя дает Густаву деньги на новое снаряжение, сумму по тем временам немалую – 1400 рублей. В следующем своем письме, от 5 мая, Густав горячо благодарит дядю Альберта за помощь и делится сомнениями: он перебирает все возможные варианты и никак не может решить, какой из них вернее. К тому же не все зависит от него. В кавалергардский полк вступить было очень не просто, даже если претендент обладал всеми необходимыми данными, как было в случае Маннергейма: аристократическое происхождение, предки, занимавшие заметные должности на государственной службе (прадед – губернатор, дед – председатель надворного суда) и, наконец, личные достоинства самого кандидата – высокий рост, представительная внешность, успешное окончание военной школы и так далее. Чтобы быть принятым в этот самый привилегированный полк России, нужно было вдобавок получить одобрение офицерского собрания.
Густав на всякий случай хочет объявиться еще и в Лейб-гусарский гвардейский полк, но для пущей верности согласился также занять вакансию в 5-м Александрийском драгунском полку: «Полк, все лошади в котором были вороными, все еще называли „гусарами-смертниками“ в память о времени, когда этот полк был гусарским и одеждой был черный доломан с серебряными шнурами и галунами»[36].
В письме к дяде Альберту он называет александрийцев иначе – по своему обыкновению, иронизируя – «бессмертные гусары»: «…По традиции полк может погибнуть, но не сдаться. Войсковая часть расквартирована в Калише, на границе с Пруссией. Привилегией является то, что в случае войны он первым вступает в соприкосновение с врагом. Больше полку похвалиться нечем. Двое офицеров вступили туда в прошлом году. Один из них уже покинул „бессмертных гусар“, второй же снискал бессмертие, угодив в тюрьму с тремя товарищами по полку за дуэль. Вообще, все армейские кавалерийские полки равноценны – все они одинаковы. В Гродненский гусарский больше нет вакансий»[37].
Юнкера заканчивали курс в Красном Селе, ожидая производства в офицеры. В июле, всего за месяц до окончания училища, у Густава случилась большая неприятность: возвращаясь навеселе из Петербурга в лагерь после увольнительной, он буянил в поезде, а в лагере вдобавок пререкался с дежурным офицером, за что и угодил на гауптвахту[38]. Его понизили из первого во второй разряд по поведению и, несмотря на отличные результаты экзаменов, он уже не мог считаться лучшим в своем выпуске. Пришлось приложить неимоверные старания, чтобы как-то исправить ситуацию; через три недели его восстановили в первом разряде, но молодецкая выходка чуть не стоила ему карьеры. Он учел сей урок: отныне сорвиголова Густав будет вести себя безукоризненно при любых обстоятельствах и в любом обществе. Что же касается выпивки, то впоследствии все, кто писал о нем – и бывшие сослуживцы, и биографы, – не забывали упомянуть, что Маннергейм умел пить, не пьянея.
Надежды на вступление в кавалергардский полк (офицерское собрание одобрило его кандидатуру) не сбылись из-за отсутствия вакансии, но может быть, отчасти из-за вышеупомянутого инцидента. С Лейб-гвардейским гусарским полком тоже не вышло. Оставался Александрийский драгунский, куда и «распределился» Маннергейм.
Г. Маннергейм – А. Юлину
Калиш, 7 октября 1889 г.
Дорогой Дядя!
Шесть дней прошло с тех пор, как я прибыл в Калиш. Дорога была довольно утомительна – двое суток в поезде и двенадцать часов в тряской почтовой карете. Все же в Варшаве я познакомился с одним моим товарищем по полку, едущим туда же, и благодаря ему однообразная дорога стала гораздо приятнее. Теперь, стало быть, мне посчастливилось сделаться корнетом Александровских драгун, и сегодня я имею удовольствие первый раз дежурить по полку.
Город чуть лучше, чем я предполагал. Здесь мощенные камнем улицы, каменные дома и красивый дворец губернского правления с великолепным парком. Но, хотя город и оказался лучше ожидаемого, я разочаровался в надеждах, которые возлагал на полк. Правда, никогда не следует хулить полк, мундир которого носишь, но я хотел бы все-таки описать его Дяде немножко подробнее, с тем условием, что Дядя заверит моих знакомых, что я в письмах превозношу свой полк до небес. Офицерство убогое, почти сплошь повесы, которые по самые уши в долгах у городских евреев и в довершение всего ссорятся между собой, как кошки с собаками. Вечные сплетни и вытекающие из них интриги и неприятные истории делают жизнь невыносимой. Командир полка – чистый ноль, и офицеры не считаются с ним совершенно. Скандал следует за скандалом, и арест на гауптвахте входит в распорядок дня. Возможностей общения здесь нет. Многие из полковых дам низкого происхождения и сомнительной репутации, как и образованности. Работы в полку идут таким образом, что с утра выполняют обязанности, а остаток дня болтаются по городским корчмам. Короче говоря – таким, по крайней мере поначалу, кажется мне мой полк. Надеюсь, что я заблуждаюсь и со временем получу о нем лучшее впечатление. Но надеюсь также, что мое пребывание здесь не будет долгим, ибо в Петербурге – где мне пришлось пробыть шесть дней – мне сказали, что весьма скоро получу назначение туда. Посему я не стал снимать своих денег, а оставлю их там еще на пару месяцев. Здесь в полковой кассе есть 1200 рублей на покупку лошади, но их нельзя касаться прежде, чем выберу себе лошадь, а с этим я суетиться не намерен. Пока что живу в убогой гостинице, поскольку здесь совершенно невозможно взять в аренду мебель. Я искал отчаянно, но меблированных комнат нигде не найти, и я вынужден сегодня или завтра купить самое необходимое из мебели. Это все-таки досадный расход, особенно потому, что у меня и без того большие траты. Поскольку здесь нет манежа, мне пришлось купить себе короткий тулупчик собачьего меха и теплые нижние штаны. Кроме того, пришлось сделать взносы в офицерский клуб, в библиотеку, музыкантам, устроить пирушку для офицеров моего (3) эскадрона и выпивку солдатам моего взвода. Все эти расходы, плюс дорогой проезд из Петербурга сюда с большим количеством багажа, пребывание в Петербурге и здесь в гостинице, привели к тому, что моя касса начинает петь последний псалом. И поскольку жалованья я не получу прежде конца октября (по старому стилю), я должен просить Дядю ссудить меня еще 100 рублями. Пока я пробыл здесь еще столь недолго, мне немного трудно подсчитать, насколько велики окажутся мои расходы. Постараюсь жить возможно дешевле. Через пару недель я смогу судить об этом довольно точно.
Теперь заканчиваю. Прощай, милый Дядя, шлю Тебе, Тёте, Бабушке и всем родным мои теплые приветы из этой страны евреев.
Твой преданный племянник Густав[39].
Чтобы представить себе обстановку, в которой он очутился, и жизнь в полку, расквартированном в маленьком польском городишке, можно вдобавок к этому письму перечитать «Поединок» Куприна: все приметы на удивление совпадают, хотя повесть Куприна опубликована на шестнадцать лет позднее, в 1905 году. Мечта Густава – поступление в Академию Генерального штаба – один из главных лейтмотивов повести. Юный подпоручик Ромашов мечтает о том же; он и на дуэли погибает во имя того, чтобы муж любимой женщины смог держать экзамены в Академию. Но, в отличие от героя повести Куприна, у нашего героя был выход: перевод в Петербург, в кавалергардский полк был делом почти решенным, хотя и затянулся из-за отсутствия вакансии. Родственники хлопотали: крестная Альфильд Скалон просила за Густава самоё императрицу Марию Федоровну – шефа кавалергардского полка, и хлопоты к осени 1890 года увенчались успехом. Густаву пришлось провести в Александрийском полку в общей сложности больше года, но время это не пропало даром: в начале 1890-го ему было поручено обучение сорока новобранцев, за что он принялся с большим рвением. Кроме того, из послужного списка Маннергейма мы узнаем, что летом он практиковался в инженерном и саперном деле в предместьях Варшавы и участвовал в больших маневрах в присутствии императора близ Нарвы.
1
В 1909 г. командир Владимирского уланского полка Густав Маннергейм пишет брату Юхану из Ново-Минска: «В день 200-летия Полтавской битвы я должен отправиться на место сражения с одним из эскадронов полка и флагом. Странная ирония хода истории – мне приходится участвовать в праздновании годовщины поражения моих предков!» (Mannerheim G. Kirjеitä. Helsinki, 1983. S. 82 (пер. с финского).
2
Аньяльский союз – договор, подписанный в 1789 г. в финском селении Аньяла 113 офицерами шведской армии. Они протестовали против войны с Россией, начатой королем Густавом III, и требовали прекращения войны и созыва риксдага. В 1792 г. на маскараде Густав III стал жертвой покушения. Это событие впоследствии легло в основу либретто оперы Дж. Верди «Бал-маскарад».
3
Здесь и далее сведения о дворце Лоухисаари приводятся по книге: Vesterinen E. Louhisaaren herra ja Kankaisten kukka. Helsinki, 2002.
4
Дело Дрейфуса – сфабрикованный во Франции в 1894 г. судебный процесс по ложному обвинению офицера Генерального штаба еврея А. Дрейфуса в шпионаже в пользу Германии. Борьба вокруг Дрейфуса привела Францию к политическому кризису. В его защиту выступали демократические круги, в т. ч. Э. Золя на страницах газеты «Аврора».
5
Heikura P. Mannerheim epäonnistui teollisuusmiehenä // Helsingin Sanomat. 22.06.2000.
6
Mannerheim-Sparre E. Lapsuuden muistoja. Helsinki, 1952. S. 7 (пер. с финского).
7
Ibid. S. 12.
8
Mannerheim-Sparre E. Lapsuuden muistoja. S. 12.
9
Письмо матери Г. Маннергейму от 1 сентября 1875 г. НАФ. Коллекция Grensholm. VAY 5642 (пер. со шведского).
10
Mannerheim-Sparre E. Lapsuuden muistoja. S. 73.
11
Mannerheim G. Kirjeitä. S. 27.
12
НАФ. Коллекция Grensholm. VAY 5642 (пер. со шведского).
13
Jägerskiöld S. Nuori Mannerheim. Helsinki, 1964 (пер. с финского).
14
Дядя Густава и Карла со стороны матери – Эмиль фон Юлин.
15
Прокуратор Вольдемар Седерхельм, чья усадьба находилась в г. Тер-вола Выборгского уезда.
16
Mannerheim G. Kirjeitä. S. 31.
17
Mannerheim G. Kirjeitä. S. 35.
18
См.: Keskisarja T. Hulttio. Gustaf Mannerheimin painava nuoruus. Helsinki, 2016.
19
Mannerheim G. Muistelmat. I. Helsinki, 1951. S. 16 (пер. с финского).
20
Sparre Currie. T. Louhisaaren Lapset. Helsinki, 1997. S. 181, 193.
21
Mannerheim G. Kirjeitä. S. 37.
22
Бергенгейм Эдуард Фердинанд (1844–1893) – инженер и промышленник. Окончил с отличием кадетский корпус во Фридрихсхамне в 1863 г., инженерную академию в Петербурге в 1869 г. Основал в Харькове первый на юге России завод по производству керамической плитки и кирпича.
23
Mannerheim G. Kirjeitä. S. 43.
24
Николаевское кавалерийское училище основано в Петербурге в 1823 г. как Школа гвардейских прапорщиков, позднее стало специально кавалерийским, готовившим офицеров для конных полков и казачьих войск. Воспитанниками училища были поэт М. Ю. Лермонтов, композитор М. П. Мусоргский, исследователь П. П. Семенов-Тян-Шанский.
25
Mannerheim G. Kirjeitä. S. 40.
26
Ibid. S. 45.
27
Университет столицы Великого княжества Финляндского, основанный в 1828 г. по приказу императора Николая I, назван «Александровским» в честь Александра I. Ныне – Университет Хельсинки.
28
Скалон де Колиньи Михаил Петрович – потомок французских гугенотов, генерал.
29
Бильдерлинг Александр Александрович (1846–1912) – генерал от кавалерии. Окончил Пажеский корпус, с 1863 г. – в кавалергардском полку. Отличился в Русско-турецкой войне. С 1878 г. – начальник Николаевского кавалерийского училища. В 1903 г. пожалован пожизненным баронским титулом. В Русско-японской войне командующий VII корпусом, затем 3-й армией. С 1905 г. – член военного совета. Организовал при Николаевском училище Лермонтовский музей. Автор книг «Пособие для военных разведок», «Вооруженные силы Германии», «Иппологический атлас», «Просветители России», «История Русско-японской войны». Кроме военно-теоретических трудов, создал проекты памятников в разных городах России: Пржевальскому, Корнилову, Нахимову, Тотлебену, и др.
30
Mannerheim G. Kirjeitä. S. 48–49.
31
Mannerheim G. Kirjeitä. S. 49.
32
Плеве Павел Адамович (1850–1916) – выпускник Николаевского кавалерийского училища, окончил также Николаевскую академию Генерального штаба. В 1895–1899 гг. – начальник Николаевского кавалерийского училища, в 1901 г. – начальник войскового штаба войска Донского, в 1905–1906 гг. – командир 13-го армейского корпуса.
33
Менд Э. Ф. Кадет – юнкер – офицер. Воспоминания бывшего офицера лейб-гвардии Конно-Гренадерского полка, полковника барона Э. Ф. Менда. Рукопись. БА. Rare Book and Manuscript Library. Emigration and immigration-Finland-20th century. Фонд «Особый комитет по делам русских в Финляндии». BOX 6.
34
Иппология – наука о лошадях, изучает их анатомию, физиологию, разведение и др.
35
Mannerheim G. Kirjeitä. S. 50–53.
36
Mannerheim G. Muistelmat. I. S. 23.
37
Mannerheim G. Kirjeitä. S. 56.
38
Vlasov L. Mannerheim Pietarissa. Helsinki, 1994. S. 28; Screen J. E. O. Mannerheim. Helsinki, 2000. S. 32.
39
Mannerheim G. Kirjeitä. S. 59–61.