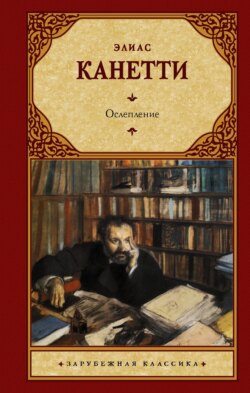Читать книгу Ослепление - Элиас Канетти - Страница 2
Часть первая. Голова без мира
Прогулка
Оглавление– Что ты здесь делаешь, мальчик?
– Ничего.
– Почему же ты здесь стоишь?
– Просто так.
– Ты уже умеешь читать?
– Умею.
– Сколько тебе лет?
– Девять исполнилось.
– Что бы ты выбрал – шоколадку или книгу?
– Книгу.
– Правда? Молодец. Поэтому, значит, ты и стоишь здесь?
– Да.
– Почему ты не сказал это сразу?
– Отец ругается.
– Вот оно что. Как зовут твоего отца?
– Франц Метцгер.
– Тебе хочется поехать в какую-нибудь незнакомую страну?
– Да. В Индию. Там водятся тигры.
– Еще куда?
– В Китай. Там есть огромная стена…
– Ты, наверно, не прочь перелезть через нее?
– Она слишком толстая и большая. Через нее не перелезешь. Для того ее и построили.
– Все-то ты знаешь! Ты много читал.
– Да, я читаю всегда. Отец отнимает у меня книги. Мне бы в китайскую школу. Там выучивают сорок тысяч букв. Они даже в книге поместиться не могут.
– Это тебе только кажется.
– Я высчитал.
– Но это не так. Оставь эти книги в витрине. Это все дрянь. У меня в портфеле есть кое-что получше. Погоди, покажу. Знаешь, что это за буквы?
– Китайские! Китайские!
– Ты, однако, смышленый мальчик. Ты уже когда-нибудь видел китайскую книгу?
– Нет, я догадался.
– Эти два иероглифа означают Мэн-цзы, философ Мэн. Он был великий китаец! Он жил две тысячи двести пятьдесят лет назад, а его все еще читают. Запомнишь?
– Да. А сейчас мне надо идти в школу.
– Ага, значит, по дороге в школу ты осматриваешь книжные лавки? А как зовут тебя самого?
– Франц Метцгер. Как и отца.
– А где ты живешь?
– Эрлихштрассе, двадцать четыре.
– Я тоже ведь там живу. Что-то я не припоминаю тебя.
– Вы всегда отводите глаза, когда кто-нибудь идет по лестнице. Я вас давно знаю. Вы господин профессор Кин, но вы не учите. Мать говорит, что вы никакой не профессор. А я думаю – профессор, потому что у вас есть библиотека. Такого нельзя и представить себе, говорит Мария. Это наша прислуга. Когда я вырасту, у меня будет библиотека. Там будут все книги, на всех языках, и такая китайская тоже. Теперь мне надо идти.
– Кто же написал эту книгу? Еще не забыл?
– Мэн-цзы, философ Мэн. Ровно две тысячи двести пятьдесят лет тому назад.
– Прекрасно. Можешь как-нибудь прийти ко мне в библиотеку. Скажи экономке, что я разрешил. Я покажу тебе виды Индии и Китая.
– Вот хорошо! Приду! Приду непременно! Сегодня днем?
– Нет, нет, мальчик. Мне надо работать. Не раньше, чем через неделю.
Профессор Петер Кин, длинный, тощий человек, ученый, синолог по специальности, сунул китайскую книгу в набитый портфель, который он носил под мышкой, и тщательно запер его. Он смотрел вслед этому умному мальчику, пока тот не скрылся. От природы несловоохотливый и угрюмый, он корил себя за этот разговор, который завел без важной причины.
Во время своих утренних прогулок между семью и восемью он обычно заглядывал в витрины каждой книжной лавки, мимо которой проходил. Чуть ли не с удовольствием отмечал он, что макулатура и бульварщина распространяются все шире и шире. У него самого была самая значительная частная библиотека в этом большом городе. Крошечную часть ее он всегда носил с собой. Его страсть книголюба, единственная, которую он позволил себе в своей строгой и трудовой жизни, заставляла его принимать меры предосторожности. Книги, даже скверные, легко соблазняли его купить их. Большинство книжных лавок открывалось, к счастью, лишь после восьми. Иногда какой-нибудь мальчик-ученик, старавшийся войти в доверие к начальнику, появлялся раньше и дожидался первого служащего, у которого торжественно принимал ключи. «Я здесь уже с семи!» – говорил он, или: «Я не могу войти!» Подобное усердие легко заражало такого человека, как Кин; ему стоило усилия тут же не последовать за служащими. Среди владельцев лавок поменьше часто встречались ранние пташки, которые возились за уже открытыми дверьми с половины восьмого. Наперекор этим соблазнам Кин гордился своим туго набитым портфелем. Он плотно прижимал его к себе особым способом, который придумал, чтобы с портфелем соприкасалась как можно большая площадь тела. Ребра осязали его через тонкий, плохой костюм. Верхняя часть руки лежала в боковой ложбинке; она точно входила в нее. Предплечье поддерживало портфель снизу. Растопыренные пальцы доставали до любой плоскости. Свой педантизм он оправдывал перед собой ценностью содержимого. Упади портфель случайно на землю, откройся замок, который он каждое утро, выходя, проверял, именно в этот опасный миг, – драгоценные произведения погибли бы. Ничто ему не было так отвратительно, как грязные книги.
Когда он сегодня, возвращаясь домой, остановился перед одной витриной, между нею и им вдруг втиснулся мальчик. Кин воспринял это как невоспитанность. Места ведь хватало. Он всегда становился на расстоянии одного метра от стекла; тем не менее он без труда читал любые буквы в витрине. Глаза его служили безотказно – для сорокалетнего человека, день-деньской сидящего над книгами и рукописями, факт немаловажный. Каждое утро глаза доказывали ему, как хорошо обстоит с ними дело. В такой отдаленности от продажных и публичных книг выражалось и его презрение, которого они, если сравнить их с неприступными и нелегкими сочинениями его библиотеки, в высокой мере заслуживали. Мальчик был мал, Кин – длины необыкновенной. Заслонить ему витрину мальчик не мог. Но Кин ожидал все-таки большей почтительности. Прежде чем отчитать мальчика, он отошел в сторону, чтобы рассмотреть его. Глядя на заглавия книг, мальчик медленно и беззвучно шевелил губами. Он терпеливо переводил взгляд от тома к тому.
Каждую минуту он поворачивал голову назад. На другой стороне улицы над лавкой часовщика висели огромные часы. Было без двадцати восемь. Малыш явно боялся прозевать что-то важное. Стоявшего позади себя он не замечал. Может быть, он упражнялся в чтении. Может быть, заучивал наизусть названия. Он обходился с ними ровно и беспристрастно. Сразу было видно, где он на миг задерживался.
Кину стало жаль его. Малыш тратил на эту пошлятину свой свежий, уже, может быть, жадный до чтения ум. Иные ничтожные книги он прочтет в более поздние годы лишь потому, что ему сызмала знакомы их названия. Как ограничить восприимчивость первых лет? Стоит ребенку научиться ходить и читать по складам – и он уже отдан на произвол любой скверно вымощенной улице, товару любого торговца, который черт знает почему метнулся на книги. Мальчишкам надо бы расти в солидных частных библиотеках. Каждодневное общение только со строгими умами, умная, сумрачная, спокойная атмосфера, упорное привыкание к безупречному порядку в пространстве и времени, – какое другое окружение более способно помочь столь нежным созданиям справиться с их молодостью? Единственным в этом городе владельцем серьезной частной библиотеки был, однако, сам Кин. Он не мог пускать к себе детей. Его работа не разрешала ему никаких отклонений. Дети шумят. Ими нужно заниматься. Для ухода за ними нужна жена. Для приготовления пищи достаточно обыкновенной экономки. Для детей надо заводить мать. Если бы мать была только матерью; но какая же удовольствуется своей истинной ролью? Каждая по своей главной специальности – женщина и предъявляет требования, исполнять которые честному ученому и во сне не придет в голову. Кин отказывается от жены. Женщины были ему до сих пор безразличны, безразличны будут и впредь. Поэтому мальчик с неподвижными глазами и подвижной головой останется обделен.
Из жалости он заговорил с ним, вопреки своему обыкновению. Он рад был бы откупиться шоколадкой от своих воспитательских чувств. Но тут оказалось, что есть девятилетние, которые предпочитают шоколадке книгу. Последовавшее затем поразило его еще больше. Мальчик интересовался Китаем. Он читал вопреки воле отца. Слухи о трудностях китайского письма подзадоривали его, вместо того чтобы отпугнуть. Он узнал это письмо с первого взгляда, хотя никогда не видел его. Экзамен на смышленость он выдержал с отличием. До книги, которую ему показали, он не дотронулся.
Может быть, он стыдился своих грязных пальцев. Кин проверил их: они были чистые. Другой схватил бы и грязными. Он спешил, уроки начинались в восемь, но он оставался на месте до последней секунды. В приглашение он вцепился как умирающий с голоду, – отец, видно, сильно мучил его. Он готов был прийти сразу же днем, в самое рабочее время. Ведь он жил в том же доме.
Кин простил себе этот разговор. Исключение, которое он позволил себе, стоило, казалось ему, затраченных усилий. Исчезнувшего уже мальчика он мысленно приветствовал как будущего синолога. Кого интересовала эта заброшенная наука? Мальчики играли в футбол, взрослые зарабатывали на жизнь; свободное время они коротали за любовью. Чтобы восемь часов спать и восемь часов ничего не делать, они отдавались остальное время ненавистной работе. Не брюхо, а все тело возвели они в ранг своего бога. Небесный бог китайцев был строже и достойнее. Даже если на следующей неделе мальчик не явится, что маловероятно, у него в голове останется имя, которое трудно забыть, – имя философа Мэна. Случайные толчки, полученные неожиданно, дают людям направление на всю жизнь.
Улыбаясь, продолжил Кин свой путь домой. Он улыбался редко. Это редкость, чтобы кому-то больше всего на свете хотелось владеть библиотекой. Когда ему было девять лет, он мечтал о книжной лавке. Мысль о том, чтобы расхаживать по ней хозяином, казалась ему тогда кощунственной. Книгопродавец – король, король – не книгопродавец. Для служащего, думалось ему, он слишком мал. Мальчишку на побегушках всегда куда-нибудь посылают. Какая ему радость от книг, если он будет только носить их под мышкой в виде пакетов? Он долго искал выхода. Однажды он пошел из школы не домой. Он вошел в самый большой в городе магазин, шесть витрин книг, и громко заплакал. «Мне нужно кое-куда, поскорей, я боюсь!» – захныкал он. Ему показали нужное место. Он хорошенько запомнил его. Вернувшись, он поблагодарил и спросил, не может ли он немного помочь. Его сияющее лицо позабавило служащих. Еще недавно оно было искажено смешным страхом. Они вовлекли его в разговор; он многое знал о книгах. Они нашли, что он умен для своего возраста. Под вечер они отрядили его с тяжелым пакетом. Он съездил на трамвае туда и обратно. Столько денег он успел накопить. Перед самым закрытием магазина, уже смеркалось, он доложил, что поручение выполнено, и бросил на прилавок расписку. Кто-то дал ему в награду кисленький леденец. Пока служащие надевали пальто, он тихонько прошмыгнул в глубину магазина, к тому надежному месту, и заперся там. Никто ничего не заметил; они все думали, наверно, о свободном вечере. Он ждал там долго. Лишь через много часов, поздно ночью, он осмелился выйти. В магазине было темно. Он стал искать выключатель. Днем он об этом не подумал. Когда он нашел его и уже прикоснулся к нему, он побоялся зажигать свет. Может быть, кто-нибудь увидит его с улицы и отведет домой.
Глаза его сами собой привыкли к темноте. Только читать он не мог, это было очень печально. Он снимал с полок том за томом, листал их и действительно разобрал некоторые названия. Потом он стал пользоваться переносной лестницей. Он хотел узнать, не прячут ли наверху тайн. Он упал и сказал: мне не больно! Пол был твердый. Книги были мягкие. В книжном магазине человек падает на книги. Он мог бы взгромоздить перед собой целую башню, но беспорядок претил ему, и прежде чем снять с полки новую книгу, он ставил на место предыдущую. Спина у него болела. Может быть, он просто устал. Дома он сейчас давно уже спал бы. Здесь это не получалось, волнение не позволяло ему уснуть. Но его глаза перестали разбирать самые крупные заголовки, это раздражало его. Он стал подсчитывать, сколько лет можно было бы читать здесь, совсем не выходя на улицу и не ходя в дурацкую школу. Почему не остаться здесь навсегда! На маленькую кровать он накопил бы денег. Мать побоялась бы. Он тоже боялся, но только чуть-чуть, он боялся, потому что здесь было так тихо. Газовые фонари на улице погасли. Кругом сновали тени. Призраки все-таки существовали. Ночью они все слетались и торчали над книгами. Они читали. Им не нужно было света, у них были такие большие глаза. Теперь он не прикоснулся бы, нет, ни к одной книге вверху, да и внизу тоже. Он подполз под прилавок, стуча зубами. Десять тысяч книг, на каждой торчал призрак. Потому было так тихо. Порой он слышал, как они перелистывают страницы. Они читали в точности так же быстро, как он. Он привык бы к ним, но их было десять тысяч, один мог и укусить. Призраки сердятся, когда до них дотрагиваются, они думают, что над ними глумятся. Он сжался в комок, они пролетали над ним. Утро пришло лишь после множества ночей. Тогда он уснул. Когда служащие открывали магазин, он ничего не слышал. Они нашли его под прилавком и растормошили его.
Сперва он притворился, что еще спит, потом быстро заревел. Они, мол, заперли его вчера, он боится матери, та наверняка везде искала его. Хозяин расспросил его и, узнав его имя, сразу же отправил домой с одним из служащих. Он, мол, просит прощения у дамы. Мальчика по оплошности заперли, но вообще-то все благополучно. Он, мол, передает наилучшие пожелания. Мать поверила и была счастлива. Теперь тот маленький лжец обладал великолепной библиотекой и столь же знаменитым именем.
Кин терпеть не мог лжи; с малых лет он держался истины. Он не знал за собой ни одной лжи, кроме этой. Она тоже была предана проклятию и забвению. Только разговор со школьником, который показался ему точной копией себя, Кина, в детстве, напомнил о ней. «Долой это, – подумал он, – скоро восемь». Ровно в восемь начиналась работа, его служение истине. Наука и истина были для него тождественными понятиями. К истине приближаешься, отъединяясь от людей. Обыденность была поверхностным хаосом всяческой лжи. Сколько прохожих, столько лжецов. Поэтому он вовсе не смотрел на них. У кого из дурных актеров, из которых состояла масса, было лицо, способное пленить его? Они меняли лицо каждый миг; ни дня не оставались они в одной и той же роли. Это он знал наперед, опыт был тут излишен. Его честолюбие состояло в упорстве нрава. Не только какой-нибудь месяц, какой-нибудь год – всю свою жизнь он оставался одним и тем же. Характер, если им обладаешь, определяет и наружность. С тех пор как он стал думать, он был долговяз и тощ. Свое лицо он знал лишь приблизительно, по стеклам книжных витрин. Зеркала у него дома не было, из-за сплошных книг не хватало места. Но что лицо его было узким, строгим и костистым, он знал; этого было достаточно.
Не испытывая ни малейшего желания замечать людей, он шел с опущенным или высоко над ними поднятым взглядом. Где были книжные магазины, он и так безошибочно чувствовал. Он мог спокойно положиться на свой инстинкт. То, что удается лошадям, когда они трусят домой, в свои конюшни, удавалось и ему. Ведь гулять он ходил, чтобы подышать воздухом незнакомых книг, они вызывали у него желание возразить, они немного освежали его. В библиотеке все шло без запинки. Между семью и восемью часами утра он позволял себе кое-какие из тех вольностей, из которых жизнь прочих состоит целиком.
Хотя он и наслаждался этим часом, он соблюдал порядок. Перед тем как перейти оживленную улицу, он помедлил немного. Он любил шагать равномерно; чтобы не торопиться, он выжидал удобную минуту. Кто-то громко крикнул кому-то: «Не скажете мне, где здесь Мутштрассе?» Спрошенный ничего не ответил. Кин удивился; на улице были и кроме него молчаливые люди. Не поднимая глаз, он прислушался. Как отнесется вопрошающий к этой немоте? «Простите, пожалуйста, не скажете ли вы мне, где здесь Мутштрассе?» Он повысил степень своей вежливости; повезло ему, однако, не больше. Спрошенный не отвечал. «Вероятно, вы не расслышали моих слов. Я хотел справиться у вас. Не будете ли вы столь любезны и не объясните ли мне, как отсюда пройти на Мутштрассе?» Любознательность Кина взыграла, любопытство было ему неведомо. Он решил взглянуть на молчавшего, при условии, что тот и теперь будет безмолвствовать. Человек этот, несомненно, был погружен в свои мысли и хотел избежать всяких помех. Он опять промолчал. Кин одобрил его. На тысячи один характер, противостоящий случайностям. «Вы что, глухой?» – закричал первый. «Теперь второй в долгу не останется», – подумал Кин, переставая испытывать радость от своего подопечного. Кто сдержит свои уста, когда его обижают? Он повернулся к улице; время пересечь ее наступило. Удивляясь продолжающемуся молчанию, он задержался. Второй все еще не отвечал. Тем более сильной вспышки гнева следовало теперь ожидать. Кин надеялся на спор. Если второй окажется человеком обыкновенным, то он, Кин, неоспоримо останется тем, кем он считал себя: единственным человеком с характером среди здешних пешеходов. Он подумал, не пора ли ему уже взглянуть туда. Событие это происходило справа от него. Там бушевал первый: «Вы не умеете вести себя! Я спросил вас самым вежливым образом! Что вы строите из себя! Вы хам! Вы что, немой?» Второй молчал. «Вы должны извиниться! Плевать мне на Мутштрассе! Любой мне покажет ее! Но вы должны извиниться! Слышите?» Тот не слышал. Поэтому он вырос в глазах прислушивавшегося. «Я отправлю вас в полицию! Знаете, кто я?! Скелет вы несчастный! И такой считает себя образованным человеком! Откуда ваша одежда? Из ломбарда? Такой у нее вид! Что это у вас под мышкой? Я вам еще покажу! В гробу я вас видел! Знаете, кто вы такой?!»
Тут Кина злобно толкнули. Кто-то схватил его портфель и потянул к себе. Рывком, изрядно превосходившим его обычные силы, он вызволил свои книги из чужих лап и резко повернулся направо. Взгляд его был направлен на портфель, но упал на маленького толстяка, ожесточенно кричавшего на него: «Нахал! Нахал! Нахал!» Второй, молчальник и человек с характером, был Кин сам. Он спокойно повернулся спиной к жестикулировавшему невеже. Этим узким ножом он разрезал его брань надвое. Жирный негодяй, чья вежливость в считанные секунды перешла в наглость, не мог обидеть его. На всякий случай он перешел улицу быстрее, чем собирался. Когда носишь с собой книги, надо избегать рукоприкладства. Он всегда носил с собой книги.
Ведь в конце концов ты не обязан откликаться на глупости любого прохожего. Недержание речи – величайшая опасность, угрожающая ученому. Кин предпочитал изъясняться письменно, а не устно. Он владел более чем дюжиной восточных языков. Некоторые западные оказывались понятны сами собой. Ни одна человеческая литература не была чужда ему. Он думал цитатами, писал хорошо продуманными абзацами. Бесчисленные тексты были обязаны ему своим восстановлением. В поврежденных или загубленных местах древних китайских, индийских, японских рукописей ему приходило на ум сколько угодно всяческих комбинаций. Другие завидовали ему из-за этого, а он должен был отбиваться от избытка. Со скрупулезной осторожностью, месяцами все взвешивая, предельно медленно, строже всего относясь к самому себе, он давал свое заключение о какой-нибудь букве, каком-нибудь слове или целом предложении только тогда, когда был уверен в их неуязвимости. Его опубликованные до сих пор работы, немногочисленные, но каждая из которых служила основой для сотни других, создали ему славу первого китаиста своего времени. Коллеги по специальности знали их досконально, чуть ли не наизусть. Положения, записанные им когда-либо, считались решающими и непреложными. В спорных случаях обращались к нему как к высшему авторитету и в смежных областях знания. Мало кому оказывал он честь письмами. Но тот, кого он избирал, получал в одном-единственном послании несметное множество рекомендаций и был на годы обеспечен работой, успешность которой, при таком рекомендателе, была гарантирована заранее. Личных связей он ни с кем не поддерживал. Приглашения он отклонял. Где бы ни освобождалась кафедра восточной филологии, ее прежде всего предлагали ему. Он отказывался с презрительной вежливостью.
У него нет, мол, ораторского дара. Плата за его деятельность отравила бы ему самую деятельность. По его скромному мнению, те же плодовитые популяризаторы, которым доверяют преподавание в средней школе, должны занимать и кафедры высших учебных заведений, чтобы настоящие исследователи, истинно творческие натуры, могли отдаваться исключительно своей работе. В посредственных головах и так нет недостатка. Поскольку он предъявлял бы к своим слушателям самые высокие требования, лекции, которые он читал бы, привлекли бы лишь немногих. Экзаменов не выдержал бы у него, по-видимому, ни один соискатель. Он направил бы свое честолюбие на то, чтобы проваливать молодых, незрелых людей до тех пор, пока они не достигнут тридцатилетнего возраста и – от скуки ли, или просто остепенившись – хоть ненадолго что-нибудь выучат. Даже набор в факультетские аудитории людей, чья память была тщательно проверена, представляется ему делом рискованным и по меньшей мере бесполезным. Десять студентов, отобранных после труднейших вступительных экзаменов, преуспели бы, останься они в своем кругу, несомненно больше, чем смешавшись с обычными в любом университете оболтусами. Его опасения носят, таким образом, серьезный и принципиальный характер. Он просит ученый совет не возвращаться к своему предложению, которое, хотя он и не считает его почетным, было сделано из почтительности.
На конгрессах, где обычно говорят очень много, Кин был главным предметом обсуждения. Их участники, бо́льшую часть своей жизни тихие, робкие и близорукие мышки, тут раз в несколько лет становились совершенно другими людьми. Они приветствовали друг друга, сближали самые несходные головы, шушукались, ничего толком не говоря, и неуклюже чокались на банкетах. Глубоко растроганные, радостно взволнованные, они высоко несли свое знамя и хранили свою честь в чистоте. Они неустанно клялись в одном и том же на всех языках. Даже не давая обетов, они бы не отступились от них. В перерывах они заключали пари. Действительно ли появится на этот раз Кин? О нем говорили больше, чем просто о знаменитом коллеге, его поведение возбуждало любопытство. То, что он никогда не пожинал плодов своей славы, что более десяти лет упорно избегал поздравлений и банкетов, где его чествовали, несмотря на его молодость, что на каждом конгрессе он обещал выступить с важным докладом, который потом вместо него читал по рукописи кто-нибудь другой, – на это его коллеги смотрели просто как на отсрочку. Когда-нибудь, может быть, именно в этот раз, он вдруг появится, с достоинством примет тем более бурные после такой длительной сдержанности аплодисменты и, под возгласы одобрения позволив избрать себя президентом конгресса, займет то подобающее ему место, которое он даже заочно по-своему занимал. Но господа ошибались. Кин не появлялся. Легковерные проигрывали пари.
Кин сообщал, что не приедет, в самый последний час. Посылая свою рукопись тому или иному избранному им лицу, он сопровождал ее ироническими замечаниями. Если при богатой программе развлечений найдется время и для работы, чего он, ради всеобщего удовольствия, отнюдь не желает, то он просит познакомить конгресс с этим пустячком, итогом двухлетнего труда. Для таких случаев он обычно приберегал новые и поразительные результаты своих исследований. За воздействием, которые эти результаты оказывали, за дискуссиями, которые вокруг них разгорались, он следил издали самым недоверчивым и добросовестным образом, как если бы отвечал за основательность каждого сказанного там слова. Собравшиеся мирились с его сарказмом. Из ста присутствующих восемьдесят ссылались на него. Его достижения были бесценны. Ему желали долгой жизни. Его смертью большинство было бы до смерти напугано.
Те немногие, что воочию видели его в его более молодые годы, уже не помнили его лица. Его не раз письменно просили прислать фотографию. Он не обзавелся ею, отвечал он, и обзаводиться не собирается. И то и другое соответствовало истине. Зато до одной уступки он снизошел добровольно. В тридцать лет, не составляя вообще-то завещания, он отписал свой череп с его содержимым институту исследования мозга. Он мотивировал этот шаг пользой, которую принесло бы объяснение его поистине феноменальной памяти особым строением, а может быть, и бо́льшим весом его мозга. Он, правда, не верит, написал он директору этого института, что гений есть память, как то многие с некоторых пор полагают. Он сам никоим образом не гений. Но отрицать полезность для его научной работы той почти пугающей памяти, какой он обладает, было бы ненаучно. Он носит в голове как бы вторую библиотеку, не менее богатую и надежную, чем та настоящая, которая, как ему доводится слышать, вызывает везде столько шума. Он сидит за письменным столом и сочиняет статьи, где касается мельчайших подробностей, не справляясь нигде, кроме как в библиотеке своей головы. Конечно, цитаты и ссылки на источники он позднее тщательно проверяет по реальной литературе; но только из добросовестности. Он не припоминает, чтобы память его когда-либо подвела. Даже его сны имеют более четкую структуру, чем у большинства людей. Бесформенные, бесцветные, расплывчатые видения чужды снам, которые он до сих пор принимал к сведению. Ночь ничего не ставит у него с ног на голову. Звуки, которые он слышит, естественного происхождения; разговоры, которые он ведет, остаются совершенно разумными; все сохраняет свой смысл. Не его специальность исследовать, вправду ли существует предполагаемая связь между его точной памятью и однозначными, ясными снами. Он только самым скромным образом на это указывает и просит не считать соображения личного характера, которые он позволил себе в данном письме, признаком самонадеянности или болтливости.
Кин перебрал еще несколько фактов своей жизни, представлявших его необщительный, робкий и чуждый всякой суетности характер в правильном свете. Но досада на наглеца, который сперва спросил его о какой-то улице, а потом обругал, с каждым шагом росла и росла. Видно, ничего другого не остается, сказал он, вошел в подворотню, оглянулся – никто не наблюдал за ним – и вынул из портфеля длинную узкую записную книжку. На титульной ее странице значилось высокими, угловатыми буквами: Глупости. Его глаза сначала задержались здесь. Затем он перелистал книжку, больше половины было исписано. Все, что ему хотелось забыть, он вносил сюда. Начинал он с даты, указания часа и места. Далее шел случай, который снова показывал глупость людей. Подходящая цитата, каждый раз новая, составляла концовку. Собрание глупостей он никогда не перечитывал; взгляда на титульную страницу было достаточно. В будущем он собирался это издать под названием «Прогулки синолога».
Он достал остро заточенный карандаш и написал на первой пустой странице: «23 сентября, 3/4 восьмого. На Мутштрассе какой-то прохожий спросил меня, где Мутштрассе. Чтобы не посрамить его, я промолчал. Он не смутился и переспросил еще несколько раз; он вел себя вежливо. Вдруг его взгляд упал на табличку с наименованием улицы. Он понял свою глупость. Вместо того чтобы поскорей удалиться, как то сделал бы я на его месте, он страшно разозлился и стал ругать меня самым грубым образом. Если бы я не пощадил его, я избавил бы себя от этой неприятной сцены. Кто был глупее?»
Последней фразой он доказал, что и себе не дает поблажки. Он был беспощаден ко всем. Удовлетворенно засунув записную книжку в портфель, он забыл об этом прохожем. Во время писания книги в портфеле пришли в неудобное положение. Он поправил их. На следующем углу он испугался немецкой овчарки. Собака пробивалась сквозь толпу быстро и уверенно. На туго натянутом поводке она тащила за собой слепого. Об его физическом недостатке, помимо собаки, свидетельствовала белая палка, каковую он нес в правой руке. Даже самые торопливые прохожие, у которых не было времени на слепого, дарили собаке восхищенный взгляд. Она отталкивала их в сторону терпеливой мордой. Поскольку она была красивой и сильной, все относились к ней хорошо. Вдруг слепой снял с себя картуз и протянул его, одновременно с палкой, навстречу прохожим. «На кормежку собаке!» – попросил он. Дождем посыпались монеты. Посреди улицы вокруг слепого и собаки образовалась толпа. Движение застопорилось; к счастью, на этом углу не было полицейского, который регулировал бы его. Кин рассмотрел нищего с близкого расстояния. Он был одет с изысканной бедностью, и лицо у него было интеллигентное. Поскольку он непрестанно шевелил мышцами вокруг глаз, – он подмигивал, поднимал брови и морщил лоб, – Кин почувствовал недоверие к нему и решил, что это мошенник. Тут появился мальчик лет двенадцати, оттолкнул собаку и бросил в картуз тяжелую пуговицу. Слепой уставился на нее и поблагодарил еще чуть-чуть любезней, чем прежде. Пуговица звякнула так же, как золотые. У Кина сжалось сердце. Он схватил мальчика за вихор и шлепнул его, поскольку вторая рука была занята, портфелем по голове. «Как тебе не стыдно, – воскликнул он, – обманывать слепого!» Тут он вспомнил, что было в портфеле – книги. Он ужаснулся, такой большой жертвы он еще ни разу не приносил. Мальчишка с ревом убежал. Чтобы вернуться на обычный, куда более низкий уровень сострадания, Кин вытряхнул всю свою мелочь в картуз слепого. Окружающие громко кивали головами; теперь Кин показался себе более осторожным и мелочным. Собака снова натянула поводок. Затем, как только появился полицейский, поводырь и ведомый двинулись дальше.
Кин поклялся себе, что при угрозе слепоты покончит с собой. При каждой встрече со слепым его охватывал один и тот же мучительный страх. Немых он любил; глухие, хромые и прочие калеки были ему безразличны; слепые беспокоили его. Он не понимал, почему они не расстаются с жизнью. Даже если они знали шрифт для слепых, их возможности читать были ограниченны. Эратосфен, великий александрийский библиотекарь, ученый-универсал третьего дохристианского века, к чьим услугам было более полумиллиона свитков, сделал в восемьдесят лет ужасное открытие. Его глаза начали ему отказывать. Он еще видел, но читать больше не мог. Другой дожидался бы полной слепоты. Он счел разлуку с книгами достаточной слепотой. Он мудро улыбнулся, поблагодарил и после нескольких дней голодовки умер.
Этому великому примеру маленький Кин, чья библиотека состоит лишь из двадцати пяти тысяч книг, когда придет время, последует с легкостью.
Остаток пути к своей квартире он проделал в ускоренном темпе. Наверняка было уже восемь. В восемь начиналась работа. Неточность возбуждала у него позыв на рвоту. То и дело он украдкой хватался за глаза. Они видели хорошо и чувствовали себя приятно и в безопасности.
На пятом, и последнем этаже дома на Эрлихштрассе, 24, находилась его библиотека. Дверь квартиры была защищена тремя сложными замками. Он отпер их, прошел через переднюю, где стояла лишь вешалка для одежды, и вошел в свой кабинет. Он осторожно положил портфель на кресло. Потом несколько раз прошелся взад и вперед по анфиладе четырех высоких, просторных комнат, составлявших его библиотеку. Все стены были до потолка облицованы книгами. Он медленно оглядел их до самого верха. В потолке были прорублены окна. Своим верхним светом он гордился. Окна в стенах были замурованы много лет назад, после жестокой борьбы с домовладельцем. Таким образом, он приобрел в каждой комнате четвертую стену – лишнее место для книг. Да и свет, равномерно освещавший сверху все полки, казался ему более справедливым, более соответствующим его отношению к книгам. Соблазн наблюдать за происходящим на улице, этот порок, отнимающий много времени и явно свойственный человеку от природы, отпал вместе с боковыми окнами сам собой. Каждый день, садясь за письменный стол, он благословлял эту счастливую идею и упорство, которому был обязан исполнением высшего своего желания – обладать богатой, упорядоченной и замкнутой со всех сторон библиотекой, где ни лишний предмет мебели, ни лишний человек не отвлекут его от серьезных мыслей.
Первая комната служила кабинетом. Массивный письменный стол, кресло перед ним и второе в углу напротив составляли здесь всю меблировку. Кроме того, здесь ютился еще диван, который Кин предпочитал не замечать, потому что на нем он только спал. На стене висела переносная лесенка. Она была важней, чем диван, и перекочевывала в течение дня из одной комнаты в другую. Пустоты трех других комнат не нарушал даже стул. Нигде не было ни стола, ни шкафа, ни печки, которые перебивали бы пестрое однообразие полок. Красивые, тяжелые ковры, везде покрывавшие пол, согревали жесткий полумрак, который через широко распахнутые двери соединял все четыре комнаты в единый высокий зал.
У Кина была твердая, энергичная походка. На ковры он ступал с особенным нажимом; его радовало, что такие шаги не вызывают ни малейшего шума. В его библиотеке даже слону не удалось бы громко топнуть по полу. Поэтому ковры он очень ценил. Он удостоверился в том, что все книги сохранили порядок, в каком ему пришлось покинуть их час назад. Затем он начал опорожнять портфель. Входя, он обычно клал его на стул перед письменным столом. А то бы он, чего доброго, забыл о нем и, не вынув из него книг, сел за работу, к которой его около восьми часов тянуло вовсю. С помощью лесенки он принялся расставлять тома по местам. Несмотря на его осторожность, последний – дойдя до него, Кин заторопился еще больше – упал с третьей полки, для которой даже не нужно было стремянки, на пол. Это был тот самый Мэн-цзы, которого он любил больше всех. «Болван! – прикрикнул он на себя. – Варвар! Невежда!» – и, бережно подняв книгу, поспешил к двери. Прежде чем он достиг ее, ему пришло в голову нечто важное. Он вернулся и как можно тише подвинул к месту несчастного случая лестницу, которая висела напротив. Обеими руками он положил Мэн-цзы на ковер у подножья стремянки. Теперь он мог направиться к двери. Он отворил ее и крикнул:
– Самую лучшую пыльную тряпку, пожалуйста!
Вскоре после этого в незапертую дверь постучалась экономка. Он не ответил. Она скромно просунула голову в щель и спросила:
– Что-нибудь случилось?
– Нет, давайте тряпку!
В его ответе, вопреки его воле, ей послышалась жалоба. Она была слишком любопытна, чтобы махнуть на это рукой.
– Ну, доложу я вам, господин профессор! – сказала она укоризненно, вошла в комнату и с первого взгляда поняла, что случилось. Она скользнула к лежавшей на полу книге. Из-под синей накрахмаленной юбки, достававшей до ковра, ног женщины не было видно. Голова ее была посажена косо. Оба уха были у нее широкие, плоские и оттопыренные. Поскольку правое касалось плеча и было частично закрыто им, тем большим казалось левое. Ходя и говоря, она качала головой. Ее плечи попеременно аккомпанировали этому качанию. Она нагнулась, подняла книгу и раз десять основательно провела по ней тряпкой. Кин не пытался опередить ее. Вежливость ему претила. Он стоял рядом и следил, на совесть ли выполняет она свою работу.
– Да, это случается, когда стоишь наверху на стремянке, доложу я вам.
Затем она подала ему книгу, как тарелку, на которой нет ни пылинки. Ей очень хотелось завязать разговор с ним. Но это ей не удалось. Он коротко сказал «спасибо» и повернулся к ней спиной. Она поняла и пошла прочь. Взявшись за ручку двери, она вдруг обернулась и спросила с лицемерной любезностью:
– У вас, наверно, это уже часто случалось?
Она видела его насквозь и честно негодовала: «Ну, доложу я вам, господин профессор!» «Доложу я вам» прокалывалось острым шипом сквозь ее елейную речь. «Она еще, чего доброго, уйдет от меня», – подумал он и сказал смягчающе:
– Я просто так. Вы же знаете, какие ценности хранятся в этой библиотеке!
Столь приветливой фразы она не ждала. Она не нашлась что ответить и удовлетворенно вышла из комнаты. Когда она удалилась, он стал корить себя. О своих книгах он говорил как грязный торгаш. Как иначе заставишь такую особу прилично обращаться с книгами? Истинной их ценности она не понимала. Она, конечно, думала, что он спекулирует ими. Таковы люди! Таковы люди!
После непроизвольного поклона, относившегося к лежавшим на письменном столе японским рукописям, он сел наконец за него.